Кино и танцы. Два фильма из архива Института этнологии и антропологии РАН
Рассматриваются два фильма из архива Института этнологии и антропологии РАН, посвященные хореографическому искусству чукчей и эскимосов. Фильмы сняты сотрудниками Института А.В. Оськиным и М.Я. Жорницкой в 1970-е гг. На их примере анализируются формы научной и художественной репрезентации явлений, сложно поддающихся вербальному описанию, в оптике советского этнографического кино; обозначаются тенденции и факторы, определявшие развитие этого жанра; делаются попытки сопоставления методологических приемов в создании антропологических фильмов в разных научных традициях.
Cinema and dance. Two films from the archives of the Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Science.pdf Введение Обоюдное тяготение кино и этнографии, обозначившееся практически с момента возникновения, - кстати, почти одновременного, - этих двух направлений гуманитарной деятельности, диктовалось в первую очередь их стремлением к взаимообогащению. Кинематографисты искали новые, интересные для запечатления ракурсы реальности, исследователи - более совершенные инструменты, способные фиксировать явления, ускользающие из их блокнотов. Не случайно первые научные съемки, начиная со знаменитой экспедиции Альфреда Хэддона в залив Торреса и съемок Маргарет Мид и Грегори Бейтсона на Бали, документировали материалы, с трудом поддающиеся вербальном описанию -танцы, трансовые состояния, проявления эмоций (Henley 2013: 84-85). Танцевальной культуре посвящены и снятые гораздо позднее фильмы советских ученых, которые я хотела бы рассмотреть в настоящей статье. Это фильмы В.А. Оськина и М.Я. Жорницкой «Хореографическое искусство народов Севера. Чукчи-оленеводы» (1975) и «Хореографическое искусство народов Севера. Эскимосы» (1978)1. Очевидно, что развитие западной антропологии и советской этнографии имело разные алгоритмы, определяемые социальными логиками, но, возможно, обращение к этим фильмам позволит выявить между ними не только различия, но и некоторые сходства, диктуемые логиками внутридисци-плинарными. Кроме того, на примере этих фильмов было бы любопытно проанализировать формы научной и художественной репрезентации мира в оптике советского этнографического кино. Фильмы, о которых пойдет речь в настоящей статье, являлись частью специальной программы по изучению хореографического искусства народов Севера. Эта программа, в свою очередь, реализовывалась в рамках масштабного проекта Института этнографии АН СССР, именуемого Северной экспедицией. Созданная в 1956 г. в соответствии с официальной концепцией развития этнографии первых послевоенных десятилетий, - упор на полевые исследования современности, - она просуществовала вплоть до начала 1990-х гг. (Батьянова 2013: 17). В 1970 г. в состав экспедиции вошла сотрудница Института Мария Яковлевна Жорницкая (1921-1995) и с 1972 г. совместно с руководителем группы научного кино Александром Васильевичем Оськиным (1937-1999) они начали планомерно использовать киносъемку, наряду с другими уже привычными средствами для записи танца. Система фиксации танцевального искусства, распространенная в то время не только среди этнографов, но и в театрах и хореографических училищах страны, опиралась главным образом на разработки известной исследовательницы С.С. Лисициан 1940-х гг. Лисициан исходила из существования некоторых поддающихся записи анатомических характеристик, обусловливающих движение отдельных частей человеческого тела. Ею было введено понятие кинетотакта, предполагающего запись всех движений исполнителя в единицу времени с помощью специальных знаков. На бумаге несколько отделенных друг от друга чертой ки-нетотактов объединялись в кинетофразы, составляя элементы танца. К этому прилагались схемы движений для каждой мизансцены, описание звукового сопровождения, рисунки или фотографии (Жорницкая 1983: 10). Использование такой сложной системы на практике было занятием трудоемким и требующим специфических навыков как для записывающего, так и для читающего. В связи с этим появление возможности киносъемки в поле было призвано значительно облегчить задачи документирования танцевального наследия. Кто снимал кино, или Об авторах Неизбежное взаимопроникновение искусства и науки нередко обнаруживается не только в использовании методологических приемов или источников вдохновения, но и в биографиях некоторых ученых, в том числе авторов фильмов, о которых пойдет речь. Так, Мария Яковлевна Жорницкая, создавшая сравнительную этнохореографию народов Сибири, пришла в науку с балетной сцены. Танцовщица Якутского музыкально-драматического театра, любимица публики, исполнительница ведущих партий, заинтересовалась народной хореографией, когда приняла участие в первом якутском балете «Полевой цветок», поставленном в 1947 г. к 25-летию Якутской республики. Укреплению интереса способствовало знакомство с композитором, собирателем и исследователем якутского музыкального фольклора М.Н. Жирковым, которое и привело ее в итоге в Институт языка, литературы и истории Якутского филиала СО АН СССР. Здесь Жорницкая активно включается в экспедиционную работу и занимается изучением и записью северных танцев и игр. География ее исследований расширяется после переезда в Москву. В составе Сектора Крайнего Севера и Сибири Института этнографии АН СССР она проработала до конца жизни (Батьянова 1996: 183- 184). Научное наследие Жорницкой включает целый ряд фундаментальных монографических исследований, касающихся танцевального искусства якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, эскимосов, коряков, ительменов и обобщающие работы по хореографии сибирских народов (Жорницкая 1956, 1970, 1983). Показательно, что помимо изучения танцев Жорницкая занималась их созданием. Собранные ею материалы становились основой сценических постановок для фольклорных коллективов и музыкальных театров. Так, более 20 поставленных Жорницкой якутских танцев до сих пор являются частью актуального репертуара, как и балет «Чурумчуку», для которого ею было сочинено либретто (Лукина 2020: 49-50). Сочетание, казалось бы, столь разных сфер деятельности было если не типично для биографии советского ученого, то уж точно не уникально. Об этом свидетельствует, в частности, состав учеников М.Я. Жорницкой, также объединяющих в своей деятельности научные штудии и служение искусству (Батьянова 1996: 185). В целом же, согласно исследованию Игоря Нарского, советский канон творческого процесса по созданию народных танцев, сформировавшийся уже к концу сталинского периода и просуществовавший до конца советской эпохи, обязательно включал в себя некоторый этнографический сюжет - путешествие за полевым танцевальным материалом, поиск оригинала, подлинника, истинно народного искусства. Вообще сам концепт подлинности, способный быть «одновременно антимодерным и модерным, поскольку мог звать и назад, и вперед, побуждать и к бегству от действительности, и к ее активному преобразованию» (Нарский 2018: 376), оказывался весьма удобным для применения и во многом определял формирование запроса советского времени на ученого-«многостаночника», решающего множество разных задач, выступая не только исследователем, но и творцом нового человека. Научная карьера второго автора фильмов, Александра Васильевича Оськина, выпускника исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, не была так непосредственно связана с танцевальным искусством. Он был вовлечен в эту сферу только как «человек с киноаппаратом», сотрудник и впоследствии заведующий кинолаборатории Института этнографии СССР, где работал с 1972 по 1998 г. По-настоящему Оськина занимали петроглифы, которые он изучал в знаменитой Хорезмской экспедиции. Их Александр Васильевич также фиксировал на камеру, фотографировал, делал многочисленные прорисовки и планировал подготовить фильм. В 1985 г. он защитил кандидатскую диссертацию по своей любимой теме (Оськин 1985). Хотя музыкой он также увлекался, интересовался, в частности, звучанием древних инструментов и экспериментировал с их реконструкцией. Судя по нескольким сохранившимся отчетам кинолаборатории, едва ли не половину года Оськин проводил в поле с камерой и фотоаппаратом, вторую же половину занимался проявкой, монтажом, описанием огромного объема отснятого материала. Например, в 1973 г. его полевой сезон, начавшийся в апреле, длился до конца осени и включал совершенно разные регионы от Костромской области до Самарканда, - и сопровождался километрами отснятой пленки (АРАН. Ф. 142. Оп. 11. Д. 265). А годом ранее только во время Северной экспедиции им было снято около 2 тыс. метров 16-миллиметровой пленки. «Наша группа, -писал Оськин в своем годовом отчете, - побывала в поселках северной части Камчатской области, где в дополнение к описанию танцев и фотографированию отдельных "па" мы занимались киносъемками. В поселке Корф снимали ительменку, заслуженного деятеля культуры Лу-кашкину Т.П., которая показала несколько традиционных северных танцев ([нрзб], "Нерпы", "Дорога"). Вместе с отцом Юрием Китыгиным Лукашкина снялась в корякском народном танце "Нерпы". В поселках Агай-Ваям, Хаилино, Аяпка, [нрзб] было снято около 20 танцевальных номеров в исполнении эвенов, коряков и чукчей. В поселке была снята сказка-пантомима, а также два обряда "Медведь" и "Белуха" в исполнении группы коряков. Наряду со старыми народными танцами были сняты современные народные танцы в исполнении балетмейстера С. Манилы Нины Токат, в которых наглядно иллюстрируется преемственность современного профессионального танца с народным творчеством» (АРАН. Ф. 142. Оп. 11. Д. 145. Л. 1-2). Это описание дает хотя бы примерное представление не только о масштабах, но и о характере совместной работы А.В. Оськина и М.Я. Жорницкой2. Показательно, что снимались и «старые» народные танцы, и современные, а обряды фиксировались «в исполнении», иногда профессиональных балетмейстеров, являя собой по сути реконструкции или интерпретации третьего или четвертого порядков, сводя таким образом на нет все позитивистские стремления к отделению «подлинно народного» от искусственно привнесенного. Как снималось кино, или О методах Далеко не все отснятое в Северной экспедиции превратилось в фильмы. М.Я. Жорницкая в предисловии своей книги пишет о трех из них: «...два в черно-белом изображении на 16-миллиметровой пленке о народных танцах коряков и эскимосов и на 35-миллимитровой пленке о хореографическом искусстве береговых чукчей и эскимосов, а также озвученный фильм в цветном изображении на 35-миллиметровой пленке о народных танцах чукчей-оленеводов, сопровождаемый нашим комментарием» (Жорницкая 1983: 10). Построением фильма (сценарием) и монтажом занимался преимущественно Оськин, в титрах упоминается также Л. А. Трофимова. В качестве операторов привлекались студенты ВГИКа М.А. Хакулов, А.В. Дудов, С.Г. Циханович и Н.В. Волков. Такое содружество с Институтом кинематографии весьма примечательно и отражает некоторые тенденции, характеризующие советское этнографическое кино. Здесь мне как раз хотелось бы обозначить методологические рамки, визуальные и теоретические конвенции, определявшие его форму и содержание и, соответственно, оказавшие влияние на фильмы А.В. Оськина и М.Я. Жор-ницкой. Для этого нам придется углубить хронологическую перспективу и обратиться к периоду с середины 1920-х до конца 1930-х гг. Именно в это время взаимный интерес этнографии и кинематографии реализуется в целом ряде масштабных проектов и в появлении специфического жанра советского кино - культурфильмы. Это время, когда и наука, и искусство вовлекаются в поиск новых инструментов и ориентиров развития и, одновременно, в процессы социалистического строительства. Исследователь советского этнографического кино Иван Головнёв характеризует этот период как череду национализаций - национализация кинематографа, национализация этнографии и, наконец, национализация этно-культур (Головнёв 2018: 35-67). Для выбора путей и перспектив советской этнографии решающим событием стало совещание этнографов Москвы и Ленинграда в апреле 1929 г. Наряду с важнейшими теоретическими вопросами там обсуждались проблемы полевых методов и «умение заснять» рассматривалось уже как необходимый навык ученого-полевика. Дискуссия о «поле» символизировала в определенном смысле разделение двух школ и двух подходов, часто обозначающихся как как emic и etic. Она развернулась вокруг двух основных докладов В.Г. Богораза и Б.А. Куфтина, отстаивающих, соответственно, стационарный и экспедиционный методы (От классиков к марксизму... 2014: 61). Проводя идею «слияния с народом», Богораз говорил о недостаточности даже длительных экспедиций, неизбежно имеющих поверхностный характер: «Необходима физическая близость, личное восприятие бедности, холода, голода, участие в труде, участие в празднествах» (263). Интересно, что он предлагал этнографам обращаться к автохтонным толкованиям: «Необходимо организовывать записи указанных лиц (аборигенов. - Е.Д.) и рядом с биографиями собирать автобиографии, нередко наивные, написанные неумело, но тем более ценные. Самая "плохая" автобиография лучше искуснейшей биографии, написанной исследователем со стороны» (264). Оппоненты Богораза, также апеллируя к важности объективной информации, не видели препятствий к ее получению и во время краткосрочных экспедиций. Звучали также предложения о создании некого единого административного органа, регулирующего деятельность всех экспедиций. Этот проект так и не был реализован, но и единства во мнениях достигнуть не удалось. Сошлись этнографы на том совещании лишь в одном - в том, что «наука должна вступить в более тесную связь с советской национальной политикой» (63). Постепенно в силу разных обстоятельств предложения Богораза, вполне вписывающиеся в актуальную методологическую парадигму зарубежной антропологии, не нашли воплощения в практике советских, и впоследствии российских, этнографов, и их фирменным методом стал метод экспедиционный. Это, на мой взгляд, непосредственным образом отразилось на характере использования камеры, исключающем длительные документации жизни какого-то одного сообщества и минимизирующем спонтанные сюжеты. Кинематограф того периода также переживал пересборку подходов, наиболее активные режиссеры-документалисты оказались вовлечены в ожесточенные дискуссии вокруг понимания объективности. В итоге, окончательное суждение, что же считать реальностью, было делегировано власти. «Дебаты о "документальности", - пишет Оксана Саркисова, -были по существу направлены на сохранение монополии на правильное толкование материала» (Sarkisova 2017: 28). Правильность же определялась идеологическими задачами. Создаваемые в 1920-1930-е гг. куль-турфильмы, разновидностью которых являлась этнографическая фильма, таким образом учили и участников съемки, и зрителей смотреть на мир «по-марксистски». И в этом отношении и кино, и этнография оказались довольно близки. Автор адресованного специально кинематографистам и опубликованного в 1930 г. методического пособия по созданию этнографических фильмов А. Терской выделяет три их вида: учебный, научно-популярный и фабульный игровой (художественный). Отметив, что учебную фильму отличают узость темы и характер использования в качестве «живого диапозитива», он сосредоточивает основное внимание на фильме научно-популярной (Терской 1930: 80-81). Характерно, что в этой классификации отсутствуют материалы / фильмы, создаваемые собственно этнографами, с которыми Терской дискутирует. Из этой дискуссии вырисовывается специфика или представление о специфике этнографических подходов к кино - последовательная съемка событий от начала до конца («от альфы до омеги») и невмешательство в их естественное течение в сочетании с глубоким знанием информации, которое, в свою очередь, достигается за счет длительного изучения народа. Но даже при таком серьезном отношении к делу в эстетическом отношении, по мнению Терского, этнографическая съемка невыразительна и неинтересна, так как ученые предпочитают средние планы, нечастую смену локаций и ракурсов. Этнографу противостоит кинематографист, чья мобильная камера смело вторгается в «живой поток жизни» и преобразовывает реальность в соответствии с поставленными перед режиссером идеологическими задачами (71-72). Эти задачи не возбраняли использование реконструкций и постановок. Наиболее качественный же продукт мог получиться, по мнению методолога, при синтезе и тех, и других подходов, когда режиссер стремился к получению глубоких знаний о предмете, а ученый - к пониманию основ киноязыка (73). Провозглашение такого единства двух цехов, как ни парадоксально, оказывалось одновременно их однозначным функциональным разделением, когда этнографом следовало копить знания, а кинематографистам - презентовать их визуальными средствами и в доступной широкому зрителю форме. Напомню, что в пособии Терского речь шла о научно-популярной этнографической фильме. Характеризуя методы ученых описанным выше образом, он, очевидно, исходил из имевшегося у него опыта взаимодействия, а возможно, и знакомства с образцами. Дмитрий Арзютов полагает, что А. Терской и автор предисловия к его пособию лингвист Н.Ф. Яковлев обращаются к тому же В.Г. Богоразу. Как известно, у последнего были налажены тесные контакты с Францем Боасом, у которого тот мог получить какие-то представления об использовании камеры в поле. Вообще Богораз стремился всячески внедрять кино- и фотосъемку в исследования, организовав «семинарий по обучению этнографов фотографии» и рассматривая перспективу, к сожалению, не реализовавшуюся, открытия специализации в Ленинградском университете по «этнокинофильмам» (Арзютов 2016: 205). Благодаря Дмитрию Ар-зютову в научный оборот была введена съемка ученика Богораза Г.Н. Прокофьева. Однако о других подобных примерах известно крайне мало. Приходится констатировать, что камера после 1930-х гг. так и не стала привычным инструментом советских этнографов, как не прижился в их обиходе и провозглашаемый Богоразом стационарный метод. Справедливости ради отмечу, что этому есть и объективные объяснения, такие как недоступность и неприспособленность к полевым условиям съемочной аппаратуры, отсутствие возможности обучения и т. д. Таким образом, путь от использования камеры как способа фиксации изучаемых явлений, к средству иллюстрации научных тезисов и, наконец, превращению ее в самостоятельный исследовательский инструмент, пройденный зарубежной антропологией довольно быстро (Pink 2006: 4-5), для советской этнографии сильно затянулся. Последующим поколениям исследователей, доступными методологическими образцами экранного представления этнографии остались не столько работы их непосредственных коллег, сколько идеологизированные научно-популярные фильмы, производство которых также постепенно утрачивало первоначальные масштабы. Фильм первый: Хореографическое искусство народов Севера. Чукчи-оленеводы Фильмы о хореографическом искусстве народов Севера задумывались как серия о разных танцевальных традициях. Сколько их предполагалось сделать в итоге, неизвестно. В архиве Института этнологии сохранились два. Эти фильмы, близкие по теме, существенно отличаются по форме. Если с оговорками использовать классификацию А. Терского, то один из них, о чукчах, можно отнести к научно-популярным, второй, об эскимосах, - к учебным. Размышления о необходимости использовать различные способы монтажа в зависимости от целевой аудитории занимали А.В. Оськина и высказывались в дискуссиях с коллегами (Оськин 2008). Но в данном случае, на мой взгляд, выбор форм был опосредован не столько целевыми установками, сколько содержанием и качеством отснятого материала, а также теми возможностями, которые он мог предоставить авторам. Съемки среди эскимосов проводились с июля по сентябрь 1973 г., среди чукчей в этот же период через год, в 1974 г. Оператором в первом случае выступал А.В. Оськин, во втором - студент ВГИКа А.В. Дудов, который помимо фиксации собственно танцев снимал еще и другие сюжеты, очевидно, предполагая использовать материал не только как научный источник, но и для создания фильма. Возможно, как раз поэтому фильм по более поздним чукотским материалам был смонтирован раньше, чем эскимосский. Фильм начинается с обзорных планов, морской пейзаж сменяется рядом висящих на стене панно с изображениями местных «типажей» -рыбаков, оленеводов, рабочих, добывающих руду, камера скользит по ним снизу вверх, как бы отмечая вехи на некоем пути, немного задерживается на женском портрете, надписи «Чукотка» большими буквами на крыше здания и движется дальше вдоль улиц и домов северного города. «Это Певек, в котором живут чукчи», - сообщает голос за кадром, принадлежащий М.Я. Жорницкой, - «за короткое время вместо старых яранг здесь поднялись четырех- и двухэтажные дома»3. Закадровый комментарий об «отшлифованном веками» хореографическом искусстве чукчей, изменившемся, но «сохранившем первооснову», поддерживается визуальным рядом, демонстрирующим свершившиеся перемены в жизни чукчей. Несколько символьных кадров призваны показать зрителям позитивный характер этих перемен. Например, старый обшарпанный дом в форме яранги на фоне новой многоэтажки или девушка, распахивающая одну за другой створки окна в залитое ослепительным солнечным светом пространство. Все это отсылает нас к старым культурфильмам с их однозначным идеологическим посылом о советской власти, преобразившей жизнь коренных народов к лучшему (рис. 1). Рис. 1. Старый дом на фоне новой многоэтажки. Фрагмент из фильма «Хореографическое искусство народов Севера. Чукчи-оленеводы» Вводный дикторский текст завершается сообщением, что чукотские танцы делятся на игровые и сохранившиеся в виде фрагментов обрядовые. Далее в формате концертной программы, последовательно показываются три сценических танца, исполняемые женским фольклорным ансамблем «Айоночка». Девушки в одинаковых, сшитых из легкой атласно-переливчатой ткани, с орнаментом и меховой опушкой платьях помещены в привычный для чукчей природный ландшафт. Пейзажные планы, вплетенные в танец, как бы демонстрируют взаимосвязь человека с природой, плавные движения девичьих рук рифмуются с течением воды и склоняющимися от ветра травами и цветами, а в одном из танцев ряд эффектно уходящих одна за другой за границу кадра девушек замыкает бегущая за ними собака. Эта же идея, очевидно, нередко используемая в процессе конструирования чукотских сценических танцев, звучит позднее и в комментариях М.Я. Жорницкой к танцу «Первые лучи солнца»: «Исполнители танцевальными движениями рассказывают, как красивы утренние сопки, как приятно плескаться у ручья, как ярко светят первые лучи солнца». Связь с природой - не единственный связующий элемент фильма. Его структура отображает попытки авторов поместить хореографическое искусство чукчей в некий историко-культурный контекст, объяснить его генезис и компоненты содержания, конечно же, в принятой в тот период научной парадигме и с помощью соответствующей терминологии. Например, о том, что танцевальные формы связаны с хозяйственной деятельностью, свидетельствует экранное сопоставление элементов танца с процессом обработки шкуры, о межкультурном взаимодействии рассказывает исполнение чукчанкой эскимосского танца, мы узнаем об этом из предваряющего титра и т.д. (рис. 2). < Рис. 2. Сценический танец «Журавли». Фрагмент из фильма «Хореографическое искусство народов Севера. Чукчи-оленеводы» Обзорные видовые планы, показывающие среду обитания чукчей, их современный образ жизни и детали быта, сменяются в фильме демонстрацией отдельных танцев. Такие вставки напоминают концертные номера, впрочем, некоторые из них и являются таковыми. Например, в фильм включено выступление прибывшего в оленеводческую бригаду на вертолете «агиткульт отряда». И несмотря на изначальную искусственность подобного исполнения фольклора, для фильма этот сюжет оказывается одним из немногих, в котором съемка не была спровоцирована присутствием этнографов, а как бы зафиксировала какое-то явление со стороны. Вообще ситуаций, когда объектив камеры именно «подсмотрел», выхватил и задокументировал движения танцоров, увлеченных своим занятием, во время праздника или обряда, организованного самими чукчами, в фильме нет. Перед нами либо фольклорный ансамбль со своим репертуаром, либо обрядовые реконструкции, показанные /разыгранные по просьбе членов экспедиции. Специально для съемок женщины собирают традиционную ярангу, где обычно разворачивались чукотские танцы. Ведь именно ограниченность площадки, как объясняет Жорницкая, определила композицию и пластику их движений. В своей книге она писала, что игровые и обрядовые танцы почти не исполнялись уже с 1930-х гг., хотя иногда этнографы и имели возможность наблюдать отдельные их фрагменты в экспедициях. Например, в 1974 г., оказавшись в оленеводческой бригаде совхоза «Энмитагин» во время осеннего забоя оленей, они увидели благодарственный танец (Жорницкая 1983: 54). Однако показанный в фильме обряд Нинерум, как следует из голосового комментария, является реконструкцией, воссозданной по воспоминаниям о прошедшем годе. Произносимое за кадром в этой части фильма практически буквально соотносится с показываемым на экране: «Развешивали амулеты. Выставляли семейных охранителей. Готовили пищу для кормления духов. Огонь для нового очага добывался путем трения об огнивную доску». Видимо, по сигналу оператора несколько детей одновременно выпускают стрелы из лука, как бы в честь прибытия стада. Затем они же двигаются по кругу у очага под звуки бубнов. О последовательности и символическом значении ритуальных действий во время обряда зрителю рассказывает все тот же четкий и громкий голос исследователя. Обычно исследователь остается за кадром, хотя некоторые моменты полевой работы все ж попадают в фильм. Вот Мария Яковлевна фотографирует что-то, привлекшее ее внимание, вот беседует со старожилами. Этот момент комментируется ее же голосом: «Чукча Гюнкут подробно рассказал нам о празднике и о функциях танца на нем». Беседа с Гюнкутом, как мы можем наблюдать, записывается на магнитофон, однако эти записи не используются в фильме (рис. 3). Возможность предоставить слово ему самому не рассматривается авторами как нарративный прием, Гюнкут так и остается немым персонажем, воплощающим собой знатока традиций. Также, как и те появившиеся на экране люди, не изображающие танец или обряд, а просто закуривающие папиросу, наблюдающие за происходящим, сидя на земле, разговаривающие друг с другом, оказываются моделями, демонстрирующими характерные позы, «передающиеся по традиции» и «известные как источники для установления древнейших этнических и культурных взаимосвязей». Это не означает, что они остались таковыми для членов экспедиции, даже скорее всего между героями фильма и этнографами установились вполне дружеские и теплые отношения. Но фильм, как и письменные тексты тех лет, передает свойственное для советской этнографии противоречивое, вытекающее из позитивистского понимания объективности представление об этике, когда имена людей, с которыми исследователям довелось встретиться в поле, уважительно названы, но сами их голоса присвоены, превращены в обобщенные и обезличенные научные тексты. Рис. 3. М.Я. Жорницкая беседует с чукчей Генкютом. Фрагмент из фильма «Хореографическое искусство народов Севера. Чукчи-оленеводы» После того, как фильм был выложен на общедоступный канал YouTube, список участников той давней съемки стал дополняться их потомками в комментариях: «В фильме моя бабушка Рита есть. Здорово!»; «Девчата молодые, Куковякиева Шура, Света Тымненкау». Эти реакции, возвращающие фильм в современность, немногочисленны, но, на мой взгляд, показательны. Сменилось всего лишь три поколения после съемок фильма, - среди сегодняшних зрителей есть те, кто помнит, узнает отдельных персонажей, - но от него «веет седой древностью», его герои уподобляются танцующим охотникам на мамонтов и одновременно представляют собой «натив Чукотку», которую нужно беречь. Архаизация даже недавнего прошлого, как известно, свойственна человеческой природе, присутствует она и в фильме, в котором процессы модернизации, изменившие жизнь чукчей к лучшему, неизменно переплетены с поиском древних корней их культуры. Этот поиск постоянно присутствует в закадровом тексте и направляет объектив оператора. Наиболее полно в художественной форме он воплощается в финальной части фильма, когда представление разыгранной на камеру реконструкции обряда продолжается танцевальными вставками. Вытекающее из научных задач стремление показать как можно больше вариаций в сочетании с утвердившимся телевизионными клиповыми приемами монтажа превращает ее в буквальном смысле в нарезку из разных танцев, каждый из которых длится не более минуты и предваряется титром с названием и иногда именем исполнителя(ей). Но сама ситуация съемки здесь, очевидно, изменилась, потому что и исполнители, и камера ведут себя более свободно. Мы видим, что к участникам ансамбля присоединились местные жители, и это уже больше, чем показательный концерт с заранее определенной последовательностью номеров, в нем появляются спонтанность и танцевальные импровизации. Камера пытается передать атмосферу события, повторяя движения танцоров, выхватывая выразительные крупные планы, в этом ей помогает и звуковой фон - голос за кадром сменяется музыкой. На мой взгляд, это наиболее интересная часть фильма. Энергетика сырой необработанной, хаотичной по природе реальности просачивается сквозь клиповый монтаж и наивные спецэффекты, оставляя у зрителя ощущение аутентичности, той самой «натив Чукотка, о которой написано в комментариях. Скроенный по лекалам научно-популярного телепродукта фильм А.В. Оськини и М.Я. Жорницкой все-таки немного не помещается в границы жанра, как раз за счет сочетания не слишком сочетаемых вещей - вот этого неубиваемого живого хаоса, умудрившегося сохраниться вопреки всем усилиям его упорядочить, и неадаптированного дидактического нарратива с его академическими длиннотами. На мой взгляд, в этом фильме этнографы, решившие сделать «культур-фильму» совместно со студентом ВГИКа, сконструировали какую-то переходную и специфическую форму этнографического кино. Фильм второй. «Хореографическое искусство народов Севера. Эскимосы» Продолжительность следующего фильма, снятого в Северной экспедиции Института этнографии «Хореографическое искусство народов Севера. Эскимосы», составляет 30 минут, а годом производства обозначен 1978 г. Здесь имеется в виду год, когда материалы полевых съемок были смонтированы и превращены в некий законченный продукт на основе съемок 1973 г. в Чукотском районе Чукотского национального округа. Структура фильма выражено нарративная, повторяющая строение научного текста: сразу за обозначением авторов, - титрами, - идет краткое «введение», обрисовывающее ситуацию, разворачивающуюся на экране. Перед нами, как одновременно объясняют голос за кадром и надпись на черном фоне, фольклорный ансамблю «Уэлен», исполняющий традиционные эскимосские и чукотские танцы. Далее следует краткая научная справка об особенностях этих танцев: «В движениях танцоров воспроизводятся разнообразные сцены из жизни охотников на морского зверя и бытовые сюжеты. Для мужчин характерна широко расставленная позиция ног. У женщин ноги сомкнуты вместе. Особое внимание уделяется движениям рук. Эскимосы всегда танцуют в перчатках. Их танцы скульптурны и графичны». Голос диктора, Марии Яковлевны Жорницкой, громкий и профессионально поставленный, замечу, что звучит он не на фоне изображения, а повторяет, тем самым как бы усиливая текст на экране. Такое необоснованное технической необходимостью дублирование произносимого и записанного, на мой взгляд, показательно, оно обнаруживает тяготение авторов к письменному тексту и некоторое недоверие к тексту визуальному. Вообще этнографические фильмы, как пишет теоретик визуальной антропологии Дэвид МакДугалл, охватили обе известные традиции использования звука в кино, - когда изображения иллюстрируют словесные аргументы и когда они помогают раскрыть сюжетную линию, - сближаясь таким образом с письменной антропологией (MacDougall 1978: 412-413). Перед авторами, очевидно, стояла задача обобщить экспедиционные материалы и концентрированно представить основную информацию об эскимосских танцах, их видах и особенностях. В получасовой фильм в итоге вошли танцы импровизированные или «вольные», танцы, отражающие традиционные занятия и бытовые сюжеты из прошлого, а также современные реалии - разговор по телефону, прибытие генгруза, посвящение партийному съезду. Специально выделялись танцы мужские и женские, в одиночном и в групповом исполнении. Как и в первом фильме, танцы исполняются участниками ансамбля в одинаковых сценических костюмах на фоне местного природного ландшафта: берег моря, скалы и холмы. Сменяется несколько локаций, но это передвижение остается лишь географическим, почти не отражаясь на зрительском восприятии, так как композиция кадра, построенная на одинаковом среднем плане, остается неизменной. Камера, жестко закрепленная на штативе, почти всегда снимает танец от начала до конца из одной единственной точки, ее движения минимальны, крупных планов немного, они чаще появляются, что характерно, в импровизациях. Возможно, такой подход обусловлен стремлением именно задокументировать движения танца, «записать» их посредством съемки в целостном виде без погони за эстетическими эффектами. Именно такой канон этнографического кино закрепился с 1930-х гг. в зарубежной антропологии (Хайдер 2000: 21). Вряд ли Оськин и Жорницкая были знакомы с исследованиями коллег, но можно предположить, что они следовали тай же позитивистской логике объективного отображения реальности. Кроме того, эскимосские танцы в принципе малоподвижны и исполняются либо стоя на одном месте, либо сидя. Специфика эскимосских танцев, как пишет Жорницкая в одной из своих книг, в наличии авторства. Наблюдая за исполнением танцев на своеобразных состязаниях межу певцами музыкантами и танцорами различных байдарочных артелей, «народные балетмейстеры» составляли новые танцы-пантомимы из понравившихся элементов. Как правило, этим занимались мужчины, но в советское время появились и женские импровизации (Жорницкая 1983: 15). Например, игровая композиция «Я ищу свой танец» и основанный на предании «Танец с камушками» были созданы известной сочинительницей Рахтинаун (44). С первой из них начинается фильм, но исполняет ее мужчина, как и появляющийся позднее на экране «Танец с камушками». Смещение гендерных ролей не очевидно непосвященным зрителям и не акцентируется авторами, здесь важнее условно импровизационное вступление к фильму, призванное ввести зрителя в мир эскимосских танцев. Оно сменяется хореографической инсценировкой дружбы народов. Так называется следующий, уже коллективный эскимосский танец, очевидный идеологический посыл которого усиливается его местом в напоминающей концертную последовательности «номеров». «Дружба народов» оказывается как раз между предшествующим ей поиском своего танца и изгнанным американским торговцем, как бы символизируя найденный эскимосами путь в светлое будущее. Танцу «Случай с американским торговцем» в фильме уделено особенное внимание, именно на его примере раскрывается структура всех эскимосских танцев. Для этого «Случай» появляется на экране целых четыре раза и в трех разных вариантах. В первый раз мы видим его полностью в исполнении одного из участников ансамбля Тулюкака. Двое музыкантов на переднем плане аккомпанируют ему голосом и ритмичными ударами в бубен. Во второй раз используется уже описанный выше прием - закадровый голос зачитывает появляющийся на экране текст, сначала на черном пустом фоне, затем пространство кадра делится на две части, слева текст, справа - изображение танцора. После объяснения, что все эскимосские танцы состоят из тремоло-вступления и повторяющихся в медленном и быстром темпе частей, а музыкальный такт равен размеру четыре четверти, показываются последовательно, и уже без музыки, первая медленная часть танца, затем вторая, более быстрая, и финал. Каждый из отрезков также предваряется закадровым голосом и текстом. Третий показ сопровождается расшифровкой по такому же принципу уже отдельных движений и жестов танцора, изображающего приезд торговца и его внешность (высокий, в шляпе, толстый), то как тот предлагает и расхваливает свой товар, финальные резкие движения руками, демонстрирующие изгнание незадачливого коммерсанта. И в завершение, как бы для соединения увиденного и с полученной информацией, мы снова смотрим танец целиком (рис. 4). Рис. 4. Расшифровка танца «Случай с американским торговцем». Фрагмент из фильма «Хореографическое искусство народов Севера. Эскимосы» ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТАНЦА состоит ИЗ ПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИИ, ""^SfPbJIIilllll *^штный сюжет. ЛЭЫоЛНЯЕТСА ™лг%шнном ТЕМПЕ. Здесь перед нами довольно любопытный эксперимент с отснятым материалом, обнаруживающий проблемы, с которы
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 501
Ключевые слова
визуальная антропология, этнографическое кино, коренные народы Севера, хореографическое искусство, танцевальная культура, чукчи, эскимосыАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Данилко Елена Сергеевна | Институт этнологии и антропологии РАН | danja9@yandex.ru |
Ссылки
Арзютов Д.В. Этнограф с кинокамерой в руках: Прокофьевы и начало визуальной антропологии самодийцев // Антропологический форум. 2016. № 29. С. 187-219
Архив Российской академии наук (АР АН). Ф. 142. Оп. 11. Д. 145. Отчет о работе кинолаборатории за 1972 г. АРАН. Ф. 142. Оп. 11. Д. 265. Отчет кинолаборатории о работе за 1973 г
Батьянова Е.П. Памяти Марии Яковлевны Жорницкой // Этнографическое обозрение. 1996. № 2. С. 182-185
Батьянова Е.П. Северная экспедиция Института этнографии (1956-1991 гг.) // Этнографическое обозрение. 2013. № 4. С. 17-34
Головнёв И.А. Феномен советского этнографического кино (творчество А.А. Литвинова). М.: ИЭА РАН, 2018
Жорницкая М.Я. Якутские танцы. Якутск: Книж. изд-во, 1956
Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири. М.: Наука, 1983
Жорницкая М.Я. Северные танцы. М.: Сов. композитор, 1970
Жорницкая М.Я. Танцы народов Севера. М.: Сов. Россия, 1988
Лукина А.Г. М.Я. Жорницкая - исследователь танцевального фольклора народов Сибири и Севера // Культура и цивилизация. 2020. Т. 10, № 1-1. С. 46-56
Нарский И.В. Как партия народ танцевать учила, как балетмейстеры ей помогали, и что из этого вышло. Культурная история советской танцевальной самодеятельности. М., 2018
Оськин А.В. Петроглифы Центральных Кызылкумов как источник для изучения архаических культов: дис. ...канд. ист. наук. М., 1985
Оськин А.В. Специфика обработки научных аудиовизуальных материалов для учебных и культурно-просветительных программ (по материалам экспедиционных этнографических исследований «Юрта каракалпаков») // Аудиовизуальная антропология. Истории с продолжением. М.: Институт наследия, 2008. С. 252-255
От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5-11 апреля 1929 г.) / под ред. Д.В. Арзютова, С.С. Алымова, Д.Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014
Терской А.Н. Этнографическая фильма. М.: Теакинопечать, 1930. Хайдер К. Этнографическое кино. М., 2000
Asch T., Seaman G. Yanomamo Film Study Guide. Los Angeles: Ethnographies Press, 1993
Henley Pl. From Documentation to Representation: Recovering the Films of Margaret Mead and Gregory Bateson // Visual Anthropology: Published in cooperation with the Commission on Visual Anthropology. 2013. Vol. 26:2. P. 75-108. DOI: 10.1080/08949468.2013.751857
MacDougall D. Ethnographic Film: Failure and Promise // Annual Review of Anthropology. 1978. Vol. 7. P. 405-425
Pink S. The Future of Visual Anthropology. Engaging the senses. London; New York: Routledge, 2006
Sarkisova O. Screening Soviet Nationalities. Kulturfilms from the Far North to Central Asia. London; New York: I.B. Tauris, 2017
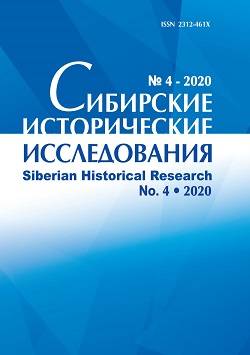
Кино и танцы. Два фильма из архива Института этнологии и антропологии РАН | Сибирские исторические исследования. 2020. № 4. DOI: 10.17223/2312461X/30/3
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 748

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью