Представлен полевой опыт нашей исследовательской команды, работающей в удмуртских деревнях Татышлинского района Республики Башкортостана с 2013 г. Цель исследования - анализ современных религиозных практик закамской группы удмуртов, которой не коснулась евангелизация. У закамских удмуртов сохранились в полной преемственности или с перерывами анимистические моления. Заметим, что с начала 1990-х гг. здесь начались интенсивные процессы ревитализации, которые охватили все удмуртские деревни Башкирии. Неотъемлемой частью нашего исследования была видеосъемка. Еще до начала работы в поле мы осознавали, что визуальный аспект должен находиться в центре нашей деятельности. Рассматривается весь процесс исследования - от разработки концепции до создания публичных материалов. Описывается, как начиналась работа у закамских удмуртов, какие происходили изменения внутри команды, какие принципы управляли съемкой и монтажом; комментируется рецепция подготовленных в рамках проекта четырех фильмов.
Filming Udmurt ceremonies in Bashkortostan: From the project to DVDs.pdf Введение В настоящей статье представлен полевой опыт исследовательской команды, работающей в деревнях Татышлинского района Республики Башкортостана с 2013 г. Целью нашего исследования был анализ современных религиозных практик самой восточной этнографической группы удмуртов - закамской, которой не коснулась евангелизация. Вследствие разных исторических причин у закамских удмуртов сохранились, в полной преемственности или с некоторыми перерывами, частные и общественные моления. Заметим, что с начала 1990-х гг. здесь начались интенсивные процессы ревитализации, которые охватили все удмуртские деревни Башкирии. Неотъемлемой частью нашего исследования была видеосъемка. Еще до начала работы в поле мы осознавали, что визуальный аспект должен находиться в центре нашей деятельности по двум важным этическим причинам. Во-первых, мы хотели оставить материалы местным сообществам, во-вторых, рассказать о Статья подготовлена при поддержке Тартуского университета (грант № PHVKU19913) и Программы родственных народов Эстонии (грант № 889). современном «языческом» молении людям, имеющим об этом лишь самое отдаленное представление. В современном мире, где основная часть информации передается через визуальные образы, такой подход все еще остается редким. В статье рассматривается весь процесс нашего исследования - от разработки концепции до создания публичных материалов. В рабочую команду сначала вошли трое ученых. Инициатор проекта, Ева Тулуз, - французский антрополог, проживающая в Эстонии. Она защитила диссертацию по удмуртской письменности (2002) и была уже знакома с удмуртской культурой, хотя и не в народной ее версии. В начале проекта Ева не знала удмуртского языка, и пока уровень ее владения удмуртским недостаточен для полевых исследований на языке информантов, к тому же местный диалект сильно отличается от литературного языка. Она пригласила к сотрудничеству коллегу из Тартуского университета, Лийво Нигласа, антрополога и режиссера фильмов, снятых как в России, так и в других странах мира. Третьим ученым стал этнограф из Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева в Уфе Ранус Садиков, который является не только специалистом по удмуртской религии, но и уроженцем этих мест. В последующие годы к ним присоединились еще ученые, обогатившие команду своими знаниями и навыками. Это эстонский антрополог религии Лаур Валликиви и молодые ученые из Удмуртии: фольклорист Николай Анисимов и докторанты Мария Вятчина и Денис Корнилов. Последним подключился студент исторического факультета Удмуртского университета Евгений Бадретдинов. Таким образом, в настоящее время большинство членов команды проводят полевые исследования на родном языке. От проекта до Проекта Сначала несколько слов об объекте наших специальных исследований - этнографической группе закамских удмуртов. Она сформировалась в результате миграции с территории современной Удмуртской Республики, преимущественно из южных ее районов. У переселенцев, территории изначального проживания которых постепенно охватывались русской колонизацией, начиная c XVI в., было, вероятно, множество причин для ухода. В памяти их потомков наиболее важным осталось лишь стремление жить и дальше по законам предков и избегать христианизации. Местные жители, - татары и башкиры, - сдавали удмуртам в аренду или продавали свои земли. Влияние тюркских соседей на удмуртов здесь очень заметно (это и местные говоры, где количество тюркских слов больше, чем в Удмуртии, и заимствования в музыке, костюме и т.д.) (Toulouze, Anisimov 2020). Идея проведения наших исследований зародилась в 2011 г., когда Ева, будучи участницей одной летней школы, оказалась в Башкирии и ей удалось посетить местных удмуртов в д. Новые Татышлы. Там Еву тепло принял удмуртский историко-культурный центр, ей показали достопримечательности деревни, а также священное место, рассказали о религиозных практиках. Это сильно отличилось от Евиного опыта в Удмуртии, где нехристианская традиция маргинализирована. Ей захотелось узнать об этом больше, поэтому после согласования с Ранусом и Лийво, она запланировала свои полевые работы на 2013 г. в Башкирии, а Тартуский университет финансово поддержал экспедицию. Мы приехали в Татышлинский район в начале июня 2013 г., но уже опоздали на деревенские моления, которые обычно проходят во всех 19 удмуртских деревнях данного района в один и тот же день в пятницу. В тот год деревенские моления состоялись уже в конце мая, потому что погода была теплая и людям необходимо было начинать полевые работы. Но мы жили там почти полтора месяца, и нам предоставились возможности поучаствовать в других молениях. Мы побывали на двух окружных молениях, на которые собираются по девять-десять соседних деревень: на одном внеочередном молении на празднике «День деревни» и на общем молении закамских удмуртов, Элэн вось. Общие моления восстановились в 2008 г., в 2013 г. оно имело место в д. Кирга Ку-единского района Пермского края (Садиков 2010). Все эти моления Лийво снимал на камеру и с помощью Рануса сразу на месте делал первоначальный монтаж. Это позволило нам встретиться снова со жрецами, показать наши съемки и записать их реакцию. Главное, что между нами развивались доверительные отношения (рис. 1). Мы жили в доме у Флюры Нуриевой (д. Малая Бальзуга). У Флоры умер муж, дочери вышли замуж, а сын работал на Севере. У нее было много места, и она была рада нас принять у себя. Таким образом, наша команда была вполне включена в жизнь деревни изнутри. Соседи и родственники, которые захаживали к Флоре в гости, привыкли к нашему присутствию. Можно сказать, что информанты сами приходили к нам. Соседка, бывшая учительница, собрала до нашего отъезда деревенских женщин на открытой поляне, мы веселились вместе с ними, они пели, танцевали, угощались алкоголем. Приятно, что угощение было умеренным. Таким образом Ева познакомилась с женщинами, с которыми до сих пор продолжает общаться (рис. 2). Знакомство с таким хорошим полем решено было продолжить, и мы вернулись в декабре этого же года, чтобы снимать зимние моления. К сожалению, из-за проблем со здоровьем Ранус не смог присоединиться к нам, но мы больше не были незнакомцами для местного сообщества. В экспедиции следующего года с нами не было Рануса, но присоединился эстонский антрополог религии Лаур Валликиви. Рис. 1. Лийво показывает новотатышлинскому жрецу Раису Рафикову свои съемки на Мор вось 2013 г. Рядом с Раисом Рафиковым - Ранус Садиков. Село Новые Татышлы, Татышлинский район Республики Башкортостан. 2013 г. Фото Евы Тулуз Рис. 2. Лийво снимает собравшихся на праздник бальзугинских женщин. Деревня Малая Бальзуга, Татышлинский район Республики Башкортостан. 2013 г. Фото Евы Тулуз А нашей местной опорой стала Анна Байдуллина, докторант Тартуского университета. Благодаря ее помощи, мы смогли снять не только деревенское моление «нашей» деревни, Малая Бальзуга, но и моление в деревне Анны, Уразгильды, потому что она попросила местных организаторов перенести моление с пятницы на воскресенье. Посещение этих двух молений позволило нам уточнить программу и цели. Немаловажным стало также общение с местными руководителями удмуртского сообщества, которые дали понять, что в эти годы они начали выступать за стандартизацию удмуртских религиозных практик. С одной стороны, чиновники были мало связаны с конкретными практиками, с другой - у них был перед глазами пример мировых религий, в первую очередь православия и ислама, с фиксированными ритуалами и с письменными канонами. Видимо, даже неосознанно нормы удмуртской традиции, с их вариативностью и возможными противоречиями, казались им менее привлекательными и менее престижными, чем соответствующие доминирующим религиям. Исходя из нашего опыта, даже в близких деревнях местные традиции проведения деревенских молений могут сильно различаться. Для нас это является выражением богатства удмуртской культуры, где нет канонизированных текстов, а молитвы передаются устно1. Мы в еще большей степени осознали, каким мощным инструментом, как для сохранения, так и для унификации традиции, может быть фильм. Ведь если мы снимаем лишь пару молений, не исключено, что именно они могут послужить основой для стандартизации остальных. Поэтому мы, не желая, чтобы даже часть этого культурного богатства была утрачена, решили, что постараемся снять все моления Татышлин-ского района. Тогда в каждой деревне будет зафиксирована местная традиция. Учитывая, что деревень 19, а дни молений совпадают, нам понадобилось бы 19 лет... В реальности выполнить этот план оказалось все же легче, чем мы ожидали. Во-первых, одна деревня организовала моление через неделю после остальных2, таким образом в 2018 г. мы смогли снять два моления, как и в 2014 г. Во-вторых, на некоторые моления собираются две или три деревни, близкие географически и связанные исторически. Обычно маленькая деревня присоединяется к большой, как, например, Новые Татышлы и Майск, Нижнебалтачево и Алга, Старокалмиярово и Петропавловская и т.д. Таким образом к 2020 г.3 нам осталось снять всего два моления (Кызыляр-Таныповка, Бигинеево-Утар-Елга). В 2016 г. к полевым исследованиям в Башкирии присоединился фольклорист Николай Анисимов (в то время - докторант Тартуского университета)4. Его присутствие расширило и обогатило наши исследования. Благодаря ему для нашего поля открылся мир удмуртской закамской песни. До этого мы не спрашивали специально о песнях, для нас, чужаков, не разговаривающих по-удмуртски, этот аспект культуры оставался закрытым. Нам даже казалось, что здесь песни не так важны, как в Удмуртии. Местный коллега, Ранус Садиков, тоже не особо интересовался этой темой и не был любителем попеть. А Николай поет, он широко известен как талантливый эстрадный исполнитель, и люди принимали его как любимого гостя, поэтому песни зазвучали для нас в естественном обрядовом контексте. Наши исследования становились все богаче и многостороннее. Появление Николая Анисимова5 послужило толчком для подготовки Евой Тулуз заявки на исследовательский пятилетний грант из государственного фонда Франции6 с участием восьми ученых из Франции, Венгрии, Эстонии и России (Удмуртия и Башкортостан). Несмотря на огромный конкурс, грант был получен. В заявке были сформулированы ожидаемые результаты нашей деятельности, они предусматривали печатные публикации и визуальный материал: - сборник статей авторов-исполнителей проекта (под. ред. Евы Тулуз); - научное издание текстов молитв-куриськонов, собранных у закам- 7 ~ ских удмуртов, на удмуртском языке с переводом на русский и англий-ский8, паспортизацией и комментариями (под. ред. Евы Тулуз и Рануса Садикова); - сборник обрядовых песен закамских удмуртов (под. ред. Николая Анисимова); - серия документальных фильмов о молениях закамских удмуртов (отв. Лийво Ниглас). Полевые исследования Несколько слов о полевых исследованиях. Наша команда всегда останавливается у коренных жителей. В первые годы, как было упомянуто, мы жили у Флюры Нуриевой в д. Малая Бальзуга. В последние годы, поскольку у нас уже появились близкие друзья в регионе, стали жить у них - у Марса и Ирины Самигуловых в с. Новое Таташлы и у Анны Байдуллиной в д. Уразгильды. Это позволяет установить оптимально близкие отношения в поле, максимально полно участвовать в жизни местного населения; дает возможность встречаться с людьми не только в ситуациях, в которых мы оказываемся в центре внимания, например, когда мы идем вместе с хозяевами к кому-нибудь на день рождения, но и когда включаемся в хозяйственные работы и т.д. Мы также активно пользуемся услугами местных таксистов, что открывает еще один пласт взаимодействия. Таксисты также являются знатоками ситуации, могут конструктивно поддержать разговор с информантами, приглашают поучаствовать в семейных обрядах. В связи с этим хочется особо отметить поддержку Радика Суфиярова из д. Малая Бальзуга. Как мы писали ранее, наша команда интересна своим междисциплинарным составом (Toulouze, Niglas 2019; Тулуз 2020). В ней есть два антрополога, этнограф, фольклорист, режиссер-оператор этнографических фильмов. Это близкие направления, однако у каждого из них разные методы и подходы. В нашей команде они взаимно обогащаются. Оригинальность команды заключается в наличии в ней и внешнего, и внутреннего взглядов на изучаемое сообщество. Трое из нас имеют долгий экспедиционный опыт в России: Лийво работал в Сибири (Ямал, ХМАО, Чукотка, Камчатка), Лаур бывал в поле у ненцев и юкагиров, у Евы тоже имеется опыт взаимодействия с народами Севера (лесные ненцы), но с 1994 г. она регулярно ездит в Удмуртию. Однако никто из нас не владеет удмуртским языком. Ранус местный, он говорит на закамском диалекте и изучает собственную культуру. Николай - удмурт из Удмуртии, закамский диалект понимает и общается с информантами на удмуртском языке9. Таким образом, есть разные уровни включенности в местную культуру, это также обогащает наше понимание ситуации. Хотя проблема с языком все же остается. Конечно, наши удмуртские коллеги используют в поле родной язык информантов и таким образом получают точную и богатую информацию. Большинство закам-ских удмуртов свободно говорят на русском языке, однако они чувствуют себя комфортнее, используя родной язык. Мы удмуртский не понимаем и зависим от наших коллег, от того, чем и каким образом они готовы поделиться. Особенно тяжело снимать, когда не понимаешь и не можешь следовать за разговором. Для Лийво это было, безусловно, препятствием. Мы общаемся с людьми по-русски, Еве бывает психологически тяжело прерывать разговор на удмуртском, чтобы задать какой-то вопрос по-русски10. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы один человек задавал вопросы, а другие дополняли его после перевода коллег. Роль фильма в проекте С самого начала съемки молений удмуртов Башкортостана находились в центре нашего внимания. У нас, Евы и Лийво, имеется длительный опыт совместной работы в Западной Сибири, где Лийво снимал Юрия Вэллу, очень интересного человека из лесных ненцев, поэта, оленевода, активиста, защитника прав коренных народов11. Вместе мы написали книгу о Вэлле (Toulouze, Niglas 2019). Мы считали своим долгом задокументировать оригинальные удмуртские обряды в силу, по крайней мере, двух причин. Во-первых, из-за их высокой культурной ценности. Обычно мировоззрения, не связанные с мировыми религиями, маргинализируются и даже игнорируются, однако нередко они несут важный этический посыл, который может дать пищу для размышлений человеку XXI в. Во-вторых, нам хотелось сделать это для местных сообществ, чтобы они могли использовать видеоматериалы как им будет угодно - как свидетельство об истории каждой деревни, как пособие для подготовки своих жрецов и т.д. В первый же год, когда Лийво едва открыл для себя реальность этих молений, он прямо в поле начерно смонтировал съемки и показал жрецам, чтобы задокументировать их реакции и чтобы понять, насколько корректно это было сделано. Впоследствии съемки продолжали не только Лийво, но и, в его отсутствие, Ранус, Николай, Лаур и Ева. Два раза к исследовательской группе присоединялся Денис Корнилов, режиссер из Удмуртии. Снимали не только моления, но и другие обряды, в более интимной обстановке. С началом нового проекта следовало приступить уже конкретно к созданию фильмов. В 2017-2019-е гг. велась кропотливая работа по их подготовке. Лийво выбрал четыре моления, снятые в 2013-2017 гг., которые представляют годовой цикл так называемой новотатышлинской ритуальной группы, расселяющейся в девяти деревнях на правом берегу р. Юг. Все фильмы соединяет в серию присутствие молодого жреца д. Малая Бальзуга Фридмана Кабипьянова. Он представлен во время моления в его собственной деревне (гурт восъ), затем в качестве помощника в окружном молении в с. Новые Татышлы (мор восъ). Также Фридман ведет зимнее окружное моление в с. Новые Татышлы (тол мор восъ) и помогает в д. Кирга (элэн восъ). Было снято намного больше ритуальных событий, но на первых порах мы решили ограничиться этими четырьмя молениями и на их основе сделать четыре фильма. Процесс съемки Лийво использует «наблюденческий подход» к созданию этнографических фильмов, нацеленный на съемку происходящих перед камерой событий в их естественном виде (Henley 2004; Young 1975). Он не занимается с постановкой, чтобы получать самые красивые кадры, не устраивает исторических реконструкций «традиционных» обрядов в соответствии с этнографической литературой. В связи с этим, снимая удмуртские моления, Лийво руководствовался определенными принципами. Для него было важно снимать процесс моления с начала до конца от подготовки до самого закрытия священного места и ухода жрецов. Порядок удмуртских общественных молений более или менее одинаков, независимо от их уровня12. Предваряет их сбор продуктов для коллективной трапезы. В разных деревнях этим занимаются дети, женщины или старики; обходя дома, они собирают крупу для каши, иногда сливочное масло. Лийво старается следовать за ними. Например, в фильме «Мор вось: окружное моление» (продолжительность 66 минут) видно, как в д. Малая Бальзуга дети сначала идут к деревенскому жрецу. Фридман дает мальчикам распоряжения, затем камера фиксирует передвижения детей от дома к дому. Фильм продолжает эпизод, снятый на следующий день рано утром. Мы видим, как жертвенное животное, овцу, которую покупают у кого-то из местных жителей, забирают у владельца. Тот должен также испечь хлеб, в который засовывают монету. Следующий кадр - овца в багажнике машины, Фридман едет на священное место в с. Новое Татышлы, где уже собираются жрецы и их помощники из других деревень Новотатышлинской ритуальной группы. Фридман и еще несколько человек выгружают овцу и большой котел, начинается подготовка к молению, которое будет продолжаться около восьми часов. Можно выделить две части в структуре всех удмуртских молений. Первая - это сложный и длинный процесс, продолжающийся до приготовления жертвенной каши. В это время на священном месте во время наших съемок присутствовали только жрецы, помощники, жрецы и мы, антропологи. Народ начинает подъезжать, когда каша уже готова, ею угощаются и разбирают по домам. Это вторая часть моления. В фильме показаны обе части, сохраняется описанная последовательность действий. Лийво предпочитает снимать в одиночку, так он со своей камерой менее всего вторгается в ход обряда. Безусловно, профессиональная команда со звукооператором получила бы лучшие технические результаты, но чем больше съемочная группа, тем тяжелее ее присутствие для местного сообщества. Поэтому мы предпочитаем не использовать второю камеру даже в ущерб полноте и детальности материала. Кроме того, тут важно отметить два обстоятельства. Во-первых, ритуальная площадка, где забивают овцу и варится каша, не слишком большая, в особенно напряженные моменты моления там сложно снимать и одному оператору, среди множества горячих котлов нужно быстро реагировать на часто неожиданные движения жрецов и их помощников. Во-вторых, присутствие двух камер в тесном пространстве потребовало бы от них синхронизации движений, следовательно, отразилось бы на спонтанности съемки, помешало бы режиссеру интуитивно приспосабливаться к ритму и настроению коллективного ритуала (рис. 3). Спонтанность съемки очень важна для Лийво, в процессе съемки он старается смотреть на окружающую реальность через камеру. Его внимание постоянно занимает необходимость выбирать - объект, ракурс, расстояние. Он редко использует внешний LED экран камеры, ему важно точно контролировать композицию кадра и траектории движения камеры, а это легче делать, глядя в видоискатель. Также он пренебрегает возможностями зума, предпочитая приближаться к объекту самому, чтобы не потерять ощущение аутентичности в крупных планах. Лийво никогда не пользуется штативом во время съемок, стремясь гибко реагировать на действия участников, на ритм и атмосферу моления всем своим телом. Самое главное для него, чтобы герои фильма оставались для зрителей реальными живыми существами, личностями. Рис. 3. Пространство Гурт вось (деревенское моление) в д. Малая Бальзуга Татышлинского района Республики Башкортостан. 2014 г. Фото Евы Тулуз В фильме важно передать характер удмуртского моления как можно подробнее, но так как в любом случае невозможно показать все, необходимо выбрать точку отсчета, основную позицию. Обычно Лийво исходит из позиции конкретных людей, героев и старается схватить атмосферу через точку зрения кого-то из участников. В наших фильмах в центре внимания находятся жрецы и их помощники. Там и опытный Новотатышлинский жрец Раис Рафиков, который возглавляет моления в трех фильмах, там и Салим Шакиров, читающий молитвы вместе с Раисом. Но прежде всего это молодой бальзугинский жрец, Фридман Кабипьянов, который или сам возглавляет ритуал, или участвует как помощник во всех фильмах. Таким образом он превращается в настоящего героя, соединяющего линии всех четырех фильмов в единый годовой ритуальный цикл всей Новотатышлинской группы. Во время съемки режиссер занят своим делом, а участники обряда -своим. Лийво не вмешивается в происходящее, ничего не инсценирует, он отвечает за то, чтобы не пропустить важные моменты обряда, иначе они просто не попадут в фильм, потому что он никогда не просит переделать что-то специально на камеру. Это часто удивляет российских коллег, привыкших к телевизионным подходам в съемке. Благодаря такому уважительному поведению оператора, участники обряда вскоре забывают о присутствии камеры, она перестает быть чем-то внешним и становится органичной частью общего процесса. Важно не сделать камеру невидимой, а превратить ее в полноценного участника, одного из тех, кто влияет на ход и содержание события. Присутствие камеры - это призыв к диалогу, сотрудничеству, это приглашение на танец, где движения оператора совпадают с движениями участника обряда, это импровизация на двоих. В результате такой встречи появляются видеокадры, основанные скорее на физическом опыте, чем на рациональном мышлении и стратегии оператора-режиссера (MacDougall 2006; Rouch 1975). Снимать - это значит постоянно делать выбор. В течение моления непрерывно совершаются какие-то действия. Кто-то занимается костром, кто-то колет дрова, кто-то носит воду, готовит стол, моет котлы. Собственно ритуальные действия теряются среди множества обыденных задач, необходимых для приготовления каши. Однако все они важны, потому что являются частью целого и сакрального. Поскольку невозможно находиться одновременно везде, Лииво выбирает, что именно запечатлеть на камеру в разные моменты, исходя из общей цели фильма. Он постоянно помнит об окончательном результате, о том, какое воздействие фильм произведет на будущих зрителей (рис. 4). Конечно, непонимание языка может иногда мешать. Лийво приходится снимать гораздо больше, чем он снимал бы, если бы полноценно воспринимал вербальную информацию. Тогда он мог бы решить сразу, на что обратить внимание, исходя из нужд последующего монтажа материала. В молениях большую роль играет невербальная коммуникация, которую несложно увидеть и без знания языка, это предотвращает возможные ошибки. Но для Лийво также очень важно записывать спонтанную речь участников, чтобы показать, что моление - не только серьезный сакральный ритуал, но и собрание живых, любопытных, смеющихся и отпускающих шутки людей. Безусловно, моление - это, прежде всего, обращение к богам / жертвоприношение, но это и встреча со старыми друзьями или родственниками, приехавшими из большого города, это разговоры у котла во время помешивания каши, это пересказ новостей и анекдотов. Хотя в целом в удмуртском молении много невербального. Можно сказать следующее: чтобы по-настоящему понять его сущность, нужно сфокусировать внимание не столько на словах, сколько на действиях участников. Передать точку зрения жрецов и их помощников - не означает, что надо задокументировать лишь то, что они делают, необходимо показать и то, что они чувствуют в это время. Содержание и ход моления не важнее его сенсорной составляющей. Рис. 4. Лийво снимает зимнее окружное моление Мор вось. Д. Алга Татышлинского района Республики Башкортостан. 2013 г. Фото Евы Тулуз Важно понимать, какие ощущения испытывают участники на разных этапах этого долгого ритуального процесса. Как чувствует себя жрец, произносящий молитву стоя на коленях и вынужденный терпеть укусы комаров? Каково это провести много часов у котлов, помешивая густую кашу и вдыхая дым остров? Какие чувства владеют мужчинами, когда они раскладывают горячую кашу по мискам или когда им удается наконец присесть на минутку, чтобы попробовать священную еду? Какие эмоции преобладают у помощника в конце тяжелого дня, когда все уже ушли, а ему нужно еще прибраться и вымыть закопченные котлы? Лишь пропустив все эти ощущения через себя, можно понять не только как люди воспринимают событие, но и почему им так важно лично участвовать в таких коллективных обрядах. Безусловно, для них без этого моления не было бы ни хорошего урожая, ни здоровых животных, ни благополучия в семье. Не было бы и возможности побыть вместе с односельчанами, солидаризироваться с ними, почувствовать себя нужным общине. Это такое знание, которое трудно создать и выразить через письменный текст. Этнографический текст способен передавать обобщения и абстрактные знания о культуре, например о социально-культурных целях и функции моления. Фильм, наоборот, для такого рода информации не очень годится, для этого он слишком крепко привязан к реальности, может показать лишь конкретных людей в конкретном месте в течение конкретного времени. Зато фильм умеет передать зрителям ощущение присутствия, соучастия в событиях, показанных на экране. Это не значит, что они способны пережить то же самое, что и люди, которые по-настоящему участвовали в молении. Все, что автор может предложить зрителю, - это возможность сенсорной интерпретации увиденного в фильме, зрители могут догадаться об ощущениях участников. Это сенсорное знание в значительной степени не интеллектуальное, но физическое, оно формируется не в мыслях, а в телах зрителей (Pink 2006, 2007). Фильм не передает вкуса каши, запаха костра или температуры воздуха, но их можно показать таким образом, что зритель может обработать эту аудиовизуального информацию и пережить ее, исходя из личного сенсорного опыта и воображения. Процесс монтажа и оформления Продолжительность съемки равна реальному времени события, т.е. занимает 5-9 часов, в фильме же может использоваться лишь небольшая часть этого материала. Поэтому самый длительный и проблематичный этап в создании фильма - это монтаж. Здесь также можно выделить несколько принципов, которые были использованы Лийво Нигласом во время подготовки фильмов об удмуртских молениях. Лийво не пользуется техникой «божьего голоса», когда содержание и выводы фильма передаются зрителям с помощью всезнающего дикторского текста. Кадры фильма должны сами говорить за себя. Действия и слова персонажей фильма - самый лучший способ рассказать историю того или другого события, объяснить происходящее в фильме. Аналитический или описательный текст можно заменить каким-то другим медиумическим способом, но особенность фильма - это визуальное изображение с естественным синхронным звуком. Не слова, а действия лежат в центре концепции наших удмуртских фильмов. Изначально Лийво как режиссер решил отказаться от излюбленного телевизионного приема - интервью. Это, конечно, не догма, и в других его проектах он иногда задает вопросы героям фильма во время съемок. Но обычно это не формальное интервью, а спонтанная беседа или диалог между оператором и героем, цель которого - спровоцировать героя затронуть важные для него темы и обнаружить знания, таящиеся у него внутри. Но в удмуртском проекте Лийво такой возможностью не пользовался. Во-первых, это означало бы перейти с удмуртского языка на другой. Мы этого не хотели, поскольку нашей целью было сделать фильмы на удмуртском языке, чтобы почеркнуть естественность и устойчивость местной культуры и религии. Во-вторых, нам казалось, что лучше всего при съемке живого обряда концентрироваться на действиях, а не на объяснениях людей. Как уже было сказано, мы стремились показать ход и содержание моления, а также передать ощущения его участников. Но каким образом представить в таком наблюденческом фильме нужную информацию, чтобы зрителю был понятен исторический и социокультурный контекст удмуртских общественных молений? Что-то можно рассказать через спонтанные диалоги участников, особенно о функциях и социальной роли ритуала. Но обычно записанный материал и ритм фильма не позволяют делать этого напрямую и подробно, a только с помощью коротких фрагментов разговора и скорее через намеки, чем через объяснения. Поэтому основную справочную информацию мы решили разместить в начальных титрах фильма. Текста получилось много, и мы понимали, что это не идеальный способ для передачи информации в фильме, но надеялись, что начальные титры помогут зрителям лучше понять общественный статус, содержание и ход молениях, а также сосредоточиться на сенсорных ощущениях участников, осознать важность обряда для жрецов и рядовых членов общин. Другой принцип, который следует подчеркнуть, хотя он кажется сегодня обязательным, вытекает из отсутствия дубляжа, это принцип естественного голоса. В наших фильмах все разговаривают на своем родном языке, зрители имеют возможность понимать звучащую речь благодаря субтитрам. Для режиссера это требует огромных усилий в сотрудничестве с кем-то, хорошо знающим язык. К субтитрам мы еще вернемся, а сейчас сосредоточимся на переводe. Как раньше уже было сказано, в ритуале много «невербального», но слова все-таки в нем также присутствуют. Это не только обрядово-вербальная коммуникация (молитвы, приветственные формулы и т.д.). Это и спонтанная речь жрецов и их помощников во время подготовки к обряду и варки каши, их общение с друзьями, родственниками, указания, вопросы, шутки, разговоры. Если сосредоточиться только на обрядовых практиках, они не существенны, но если задаться целью исследовать и показать живой обряд, эти случайные разговоры чрезвычайно интересны. Они передают расслабленную атмосферу, выражают заботы и интересы деревенских жителей. Кстати, частично они все-таки связаны и с ритуалом. В них выражаются сомнения и размышления о том, что и как правильно делать (резать хлеб ножом или ломать руками?), показывают процесс «переговоров» и достижения консенсуса. В них могут содержаться воспоминания о бывших молениях и что на них случилось (например, как разбежались жертвенные овцы и т.д.) или как что-то раньше делалось. Они могут комментировать присутствие камеры и антропологов. Но это могут быть и просто разговоры о погоде, о семейных делах, об обыденных ситуациях. Это показывает совсем другое понимание сакральности, чем существующее в мировых религиях, когда сакральное не отделено от обыденного, профанного. Но о чем все эти разговоры, Лийво, из-за непонимания удмуртского языка, не знает. Чтобы смонтировать фильм, ему необходимо узнать, о чем они, поэтому ему не обойтись без полного перевода. Лишь опираясь на перевод, он может компетентно приступить к работе над монтажом. Самый лучший вариант, когда перевод всего материала имеется в письменном виде с указанием таймкодов, тогда режиссер может справиться с монтажом самостоятельно. Помощь носителя удмуртского языка в этом случае потребовалась бы только на окончательном этапе монтажа, чтобы убедиться, что ни одно предложение не осталось неясным. Но осуществить такой письменный перевод для всех четырех фильмов было бы чрезвычайно трудоемкой работой, занимающей слишком много времени. Поэтому мы решили сделать иначе. Мы уже упоминали, что в 2013. г Лийво с помощью Рануса сделал первоначальный монтаж прямо в поле. Сидя перед ноутбуком в доме у Флюры, они вместе просмотрели материал и «чистили» его от ненужных и некачественных кадров. Они хотели сделать длинный рабочий вариант фильма, чтобы получить обратную связь от жрецов и выявить свои ошибки. Так, например, было сделано с материалами фильма Мор вось. Но это было только начало работы над монтажом. В течение следующих пять лет Лийво и Ранус неоднократно встречались на неделю или две, когда Лийво бывал в Башкирии для съемок нового материала. Фильм монтировали в Уфе в Институте этнографических исследований, где работает Ранус, однажды Ранус приезжал в Таллин на три недели, и они работали у Лийво дома. Когда фильмы были более-менее смонтированы, Ранус сделал для всех фильмов субтитры на русском языке (рис. 5). Даже когда язык понятен, монтаж фильма занимает у Лийво много времени и отнимает много сил. Цель монтажа - рассказать историю. Конечно, в случае фильма о ритуалах сюжет истории задан самим ритуалом. Но монтаж рассказывает, как автор видит и понимает его, он выделяет те элементы, которые позволят зрителю проследить ход обряда со всеми нюансами и подробностям, ощущениями и эмоциями. Обычно после предварительного монтажа Лийво обращается к профессионалу, который поможет достичь максимально эффективного выражения концепции автора через монтаж. Это еще и окончательная проверка, что содержание и сообщение фильма понятны человеку, ничего предварительно не знающего о теме фильма. Цикл удмуртских фильмов ему помогал закончить опытный эстонский монтажер Марю Юхкум. Они работали над субтитрованной версией. Над фильмами работал также звукорежиссёр Март Кессел-Отса. Он почистил их от технических шумов и добавил в некоторых местах звуки природы (щебет птиц, шум ветра, потрескивание костра), чтобы саундтрек фильма имел более естественный характер, чем позволял звук, записанный микрофоном камеры. Рис. 5. Собрание у Фридмана Кабипьянова, жрец д. Бальзуги. Слева направо: Ева Тулуз, Светлана Мензариповна Сабянчина, Николай Анисимов, Ирина Кабипьянова, Нина Кабипьянова, Фридман Кабипьянов. Деревня Малая Бальзуга Татышлинского района Республики Башкортостан. 2016 г. Когда окончательный монтаж был готов, можно было приступать к разработке субтитров. Оригинал было решено делать полностью на удмуртском, а субтитры использовать четырех видов - русские, английские, эстонские и французские. На основе перевода сначала делались русские подписи, потом все остальные. Это может показаться несложной работой, но каждый из вариантов требует тщательной проверки во избежание опечаток. Тем более, что в удмуртском и французском алфавите имеются нестандартные буквы. После каждой правки в листе с таймкодом приходится начинать сначала. И так для всех четырех фильмов. Изначально предполагалось, что фильмы должны быть доступны для разных категорий зрителей. Конечно, самая важная группа - это местные общины Татышлинского района, те, кто участвовал в молениях и помогал снимать эти прекрасные обряды. Мы очень хотели, чтобы эти фильмы увидели и другие жители района и всей республики, башкиры, татары и русские. Знакомство с этой традицией помогло бы им осознать ее сущность и ценность для удмуртов. Конечно, мы знали, что такие фильмы заинтересуют всех удмуртов и представителей других финно-угорских народов, в том числе эстонцев. Мы хотели, чтобы фильмы были доступны и дома, и в библиотеках, и в клубах, музеях, финно-угорских обществах во всем мире. Поэтому мы остановились на формате DVD сборника. По сравнению с интернетом, это не самый удобный способ распространения фильмов, но зато, DVD диск в футляре с обложкой - это что-то реальное, то, что можно подержать в руках, хранить на библиотечных полках, продавать в музейных лавках или в книжных магазинах. Кроме того, мы могли бы раздавать диски участникам молений, дарить их во время показа фильмов в клубах или на конференциях (рис. 6). UDMURDI PALVUSED УДМУРТ ВОСЬЁС УДМУРТСКИЕ МОЛЕНИЯ UDMURT PRAYER CEREMONIES CEREMONIES OUDMOURTES Рис. 6. Обложка DVD сборника из четырех фильмов об удмуртских молениях в Башкортостане Но сделать DVD сборник не такое простое дело. Необходимо создать мастер-диск, графические файлы для меню и обложек кассет. Лучше, если всем этим занимаются профессионалы. К дискам нужно подготовить буклет с текстом, содержащим пояснительную информацию; текст, написанный Евой, должен быть согласован со всеми участниками проекта, к нему следует подобрать фотографии, перевести на разные языки. Благодаря поддержке фонда «Культурный капитал Эстонии» и Программы родственных народов Министерства образования и науки Эстон
Анисимов Н.В. «Диалог миров» в матрице коммуникативного поведения удмуртов. Tartu: University of Tartu Press, 2017
Садиков Р.Р. Элен вось - «моление страной». Живая древность на просторах Башкирии // Вордскем кыл. 2010. № 7. С. 34-36
Садиков Р.Р., Тулуз Е. Языческие молитвы (куриськон) закамских удмуртов: история изучения, традиционные формы, современное бытование // Ежегодник финно-угорских исследований. 2019. Т. 13, вып. 1. С. 85-100
Тулуз Е. Семь лет полевых работ у закамских удмуртов: коллективный опыт // Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья. 2020. № 1 (8). C. 53-63
Henley P. Putting Film to Work: Observational Cinema as Practical Ethnography // Ana Isabel Alfonso, Laszlo Kurti, Sarah Pink (eds.), Working Images: Visual Research and Representation in Ethnography. London: Routledge, 2004. Р. 101-119
MacDougall D. The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses. Princeton: Princeton University Press, 2006
Pink S. The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. Routledge: New York, 2006
Pink S. Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation in Research. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2007
Rouch J. The Camera and Man // Paul Hockings (ed.). Principles of Visual Anthropology. The Hague: Mouton, 1975. P. 83-102
Toulouze E., Anisimov N. "The Year Replaces the Year." Udmurt Spring Ceremonies of the Non-Christian Udmurt: An Ethnographic Analysis of Contemporary Ritual Life (on Materials from Varkled-Bod'ya Village) // Journal of Ethnology and Folkloristics. 2018. Vol. 12 (1). P. 59-94. DOI: 10.2478/jef-2018-0005
Toulouze E., Anisimov N. An Ethno-Cultural Portrait of a Diaspora in Central Russia: The Formation and Culture of the Eastern Udmurt // Folklore. Electronic journal of Folklore. 2020. Vol. 79
Toulouze E., Niglas L. Udmurt animistic ceremonies in Bashkortostan: fieldwork ethnography // Journal of Ethnology and Folkloristics. 2014. Vol. 8 (1). P. 111-120. URL: http://www.jef.ee/index.php/journal/article/view/176/_1
Toulouze E., Niglas L. Yuri Vella's Fight for Survival in Western Siberia. Oil, Reindeer and Gods. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019
Young C. Observational Cinema // Principles of Visual Anthropology / Paul Hockings (ed.). The Hague: Mouton, 1975. P. 99-113
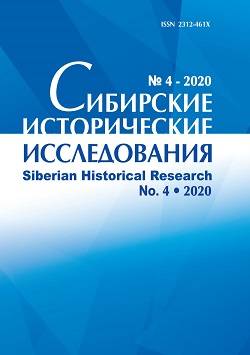

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью