Визуальная антропология, антропологическое кино становятся все более популярными не только в академической сфере и в области документального кино, но также и среди аудитории документальных фильмов и различных фестивалей неигрового кино. Визуальная антропология имеет не самую длинную, однако крайне богатую историю. На протяжении всего своего существования этой дисциплине приходилось решать различные задачи, встречаться со множеством вызовов. В современном мире, в его плюралистическом и глобальном обществе, все меньше места остается для традиционной культуры и деятельности представителей традиционных этнических сообществ. Для современной визуальной антропологии и ее исследователей это новый вызов - как сохранить ту или иную самобытную культуру, ее традиции, язык, историю. Как найти для нее место в сложном быстро развивающемся мире. Все эти и многие другие вопросы современной визуальной антропологии обсуждаются в данном интервью.
The cinema book. On current issues and the future of visual anthropology. Interview.pdf Введение Научные конференции, собрания, фестивали документального и антропологического кино, да и просто встречи с коллегами в стенах исследовательского института - все это уже давно является знакомой формой общения антропологов, да и любых исследователей во всех сферах науки. Однако крайне редко нам удается побеседовать столь обстоятельно, как это удалось мне с режиссером документального кино, визуальным антропологом, сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук - Алексеем Юрьевичем Вах-рушевым. Интервью - Алексей, добрый день! - Добрый! - Мы сегодня с Вами поговорим об антропологическом кино, о визуальной антропологии. Первый вопрос: расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь в этой сфере, с чего вы начинали, с чего пришли к этому, откуда у Вас взялась такая тяга - снимать антропологические фильмы? - На самом деле я начинал вовсе не как визуальный антрополог. Поступил на режиссерский факультет Института кинематографии к профессору В.П. Лисаковичу (кафедра неигрового кино) с одним желанием: снимать кино на Чукотке, о Чукотке, о людях Чукотки. Я там родился и вырос, и видел, что это белое пятно в кинематографе. Во-вторых, я эскимос, и история моего народа, именно азиатских эскимосов, живущих на российской территории, была, по существу, малоизвестна и малопонятна, в том числе и на самой Чукотке. Наиболее жесткие (необратимые) сломы этой истории произошли буквально пятьдесят лет назад, во второй половине двадцатого века. Но информацию о них можно было найти, пожалуй, только в научной литературе. В 1970-е гг. с азиатскими эскимосами юпик, пережившими переселение с мест исконного проживания, серьезно работали И.И. Крупник и М.А. Членов. Тогда они могли интервьюировать множество информантов, услышать из первых уст рассказы о прежней жизни, о событиях 1950-1970-х гг., когда закрывались поселения и что с ними стало потом. Благодаря этому история сибирских юпиков существовала на бумаге. Был фильм о Наукане, о судьбе науканских эскимосов, с интервью людей, которые в те годы еще могли рассказать о своем личном трагическом опыте. Но Наукан -это Наукан, а эскимосов юпик много и эскимосских поселений было очень много. И мне хотелось об этом рассказать. Мне хотелось рассказать и о прошлом, и о традиции, которая продолжает жить в наши дни. Потому что вопреки массе событий, которые могли бы стереть с лица земли этих людей, они живут, говорят на своем языке, ведут традиционный образ жизни, занимаются традиционным природопользованием. Что их удерживает? Что дает им силы? Что позволяет чувствовать себя по-прежнему наследниками и хранителями данной культуры? Все это хотелось раскрыть и показать. Кино для этой цели - самое лучшее средство. Один нюанс: я вырос в Анадыре (столица Чукотки, административный центр) и поэтому не знал, по сути, родной культуры во всей глубине. Потому мой опыт жизненный, съемочный начался с погружения -во время первых же каникул я отправился на Чукотку, в эскимосский поселок Новое Чаплино, чтобы снять репортаж об охоте на нерпу с припая. С этого, собственно, все и началось. Пожалуй, самое главное - буквально с самого начала, мой взгляд на происходящее был от лица моих героев самым естественным образом. Я не исследователь в классическом смысле, не человек, приехавший снимать кино о каком-то экзотическом народе. Я представитель этого народа. Я всегда позиционировал себя именно так, с самого первого фильма. Можно сказать, сейчас с каждой новой работой я все больше и больше становлюсь эскимосом, потому что все глубже погружаюсь в родной для меня мир и очень многие вещи знаю и понимаю. А началось все благодаря моей маме, на самом деле. Она эскимоска, долгие годы возглавляла общественную организацию эскимосов Чукотки и была человеком, благодаря которому возникли общества этнические (эскимосское «Юпик», например, Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки (АКМНЧ) и т.д.). Поэтому ее влияние было очень сильным. С ее подачи я, собственно, и решил заниматься вопросами сохранения традиционной культуры и образа жизни народов Чукотки и быстро увлекся этим. Для меня очень многие вещи приобрели истинную ценность, ту, которую они действительно несут в себе. Дальше - просто поиск формы. То есть вся дальнейшая профессиональная жизнь от проекта к проекту - это попытка найти форму не только выражения максимально эмоционального и смыслового любой темы, за которую я брался, но и эксперимент. Задача этого эксперимента - вывести достаточно специфическую узкую тему (аудитория небольшая у этнографического фильма) на уровень, где она может быть интересна массам. То есть найти какие-то универсальные способы изложения, увлекательный язык, который сделал бы эту тему интересной людям, знающим о чукчах и эскимосах только понаслышке. Нельзя сказать, что это удавалось на все сто, но каждый из фильмов имел и имеет свою аудиторию. Сейчас эволюция продолжается. Последняя картина, анимадок «Книга Моря», ни на что не похожа, у нее абсолютно экспериментальный формат, который действительно интересен всему миру. Во множестве стран она прошла при полных залах, сейчас мы готовы к федеральному прокату и надеемся на отклик российской аудитории. В основе производства «Книги моря» лежала очень глубокая исследовательская работа, ее плоды и заключены в форму анимационно-документального фильма, в упаковку, которая привлекательна для огромного количества людей. Да, собственно, эта форма и есть результат исследований и поиска. Внутри этой упаковки содержатся и все те специальные вещи, из которых складывается и визуальная антропология. Там приемы и выразительные средства, базовые инструменты и стиль съемочной работы, и принципы организации материала. Так все, что началось в девяносто первом году, продолжается до сих пор. И региону своему я не изменяю, потому что по-прежнему считаю, что это белое пятно, там невероятное количество сюжетов. Я совершенно не ревную ни к кому, кто туда залетает и начинает там делать какие-то творческие или научные проекты, потому что материала там на всех хватит. И когда талантливая работа появляется, я только радуюсь, что кто-то еще рискнул и вытащил этот воз, ведь работать там сложно очень. Даже несмотря на все благоприятные условия, которые у меня есть, каждое новое предприятие на Чукотке - риск, и привезти сто процентов того, что ты хотел, нереально. Даст Бог, тридцать процентов ты привезешь из того, что тебе хотелось сделать первоначально, когда ты туда летел, и это Успех с большой буквы. Я уже спокойно к этому отношусь. Потому что Чукотка, да и вообще Север, диктует тебе условия, с которыми приходится считаться и очень трепетно и с благодарностью относиться к тому, что она дала сделать, и не биться и не колотиться от того, что она тебе сделать не дала. Видимо, так должно быть, в этом есть своя мудрость, так что жизнь продолжается. - Скажите, есть ли у Вас какая-то единая определенная мысль, какая-то идея, которая прослеживается от фильма к фильму, или каждая новая картина - это новая история, новые люди, новое сообщество? - Очень часто эти идеи и мысли повторяются, так или иначе, за кадром или в кадре. Просто всегда кажется, что ты что-то не договорил или сказал это нечленораздельно, невнятно и надо бы еще добавить. Но на самом деле все фильмы отличаются. Главная идея очень простая: есть нечто сущностное, животворное для духа коренных жителей Чукотки. Это традиционная культура. Как явление, она существует и зрима во всем объеме либо существовала и была зрима когда-то и об этом можно найти свидетельства. И все пласты ее были... так сказать, повсюду текли реки, полноводные реки. Потом какие-то из них пресекались, какие-то исчезали, какие-то уходили на глубину и снова выходили на свет. Вот вокруг этого, собственно, я и кручусь - что бы мы не думали, традиционная культура не исчезает, пока ее хранители живут в родном пространстве. Допустим, фильм «Птицы Наукана» (1996, 35 мм, 23 минуты) построен на реминисценциях, воспоминаниях людей о той жизни, которую они вынуждены были прекратить в 1958 г. и переехать на другое место, в другие поселки подальше от американской границы (древнее эскимосское поселение Наукан было закрыто в самом начале холодной войны). В результате получилось так, что этот народ практически перестал существовать буквально за сорок лет. Основной материал мы снимали на мысе Дежнева, где был Наукан. Мы приехали туда на пять дней, а провели пятнадцать. Первое время не снимали, а обходили вдоль и поперек сам мыс Дежнева и все, что его окружает, пытались понять, почувствовать, где мы находимся, что это за место, о котором люди так тоскуют и плачут. И в конечном итоге мы поняли, что это действительно было абсолютно райское место для этого народа, пришедшего с востока, с Аляски несколько сотен лет назад. Красивого и независимого народа, которого не стало. Перед глазами расстилается гладь Берингова пролива с островами Диомида, Большим и Малым (Ратманова и Крузенштерна). В ясный день с науканских сопок вы можете увидеть континентальную Аляску, мыс Принца Уэльского. У берега гуляют киты, проходят стада моржей, отвесные скалы полны птиц. Идеальное место для жизни морских охотников. Воспоминания науканцев в картине возникают на планах ручьев, которыми изрезан высокий дежневский берег. У ручьев свои голоса, у ручьев своя красота, это такие чистые мысли людей, которые продолжают петь и струиться на опустевшем берегу и хранить память о прошлом. Когда рассказ закончился, и люди выплакали все слезы от ностальгии и боли, в кадре возникают валуны, огромные камни, поросшие черным арктическим лишайником, и все ручьи уходят под эти камни. И под этими камнями идет, бурлит мощный поток. Он никуда не делся, он продолжает жить. В памяти этих людей, в сознании их потомков, которые продолжают выходить на кита, проживая теперь порознь в совершенно разных местах, которые передают традицию и культуру далеких предков своим детям. Короче говоря, даже в этой истории, когда все вроде бы умерло, все на самом деле живет. Через все фильмы можно проследить мой восторг от традиционной культуры. Какая она! И, не скрою, сожаление о том, что она меняется на глазах. И желание удержать ее в том виде, в котором я ее застал, в том виде, в котором она живет в воображении, в сознании, в памяти. Поэтому во всех фильмах есть воспоминания о прошлом, во всех фильмах есть современность с проявлением культуры и традиции. Если короче, то это своего рода миссия - удержать то, что ты любишь. Удержать это живым. И показать это живым. Поэтому если в первых фильмах мы с сожалением говорили о том, что что-то потеряли и теперь существует незримо, то «Книга Моря» -это попытка материализовать, воссоздать живую среду обитания этих людей, в которой они продолжают ощущать себя полноценными хранителями культуры. Вы видите, как они выходят на промысел, это видят все. Приезжает масса съемочных групп, снимают то, как они охотятся, очень подробно иногда это снимают, но в сознание этих людей никто не лезет. А в их сознании окружающий мир населен образами мифологии, персонажами семейных саг и легенд, героями многовековой человеческой истории. То есть пейзаж перед глазами морских охотников полон жизни, и это стоит показать. Но об этом чуть позже... Если мы говорим о визуальной антропологии, то в начале любого проекта - глубокое погружение всей группы в материал. А дальше практика полевого исследования с его базовыми принципами и инструментами: длительным включенным наблюдением, невмешательством, отсутствием с твоей стороны какой-либо инициативы в плане «а давайте сделаем вот так, а не так, как вы хотите», это жизнь с ними вместе в стойбищах, поселках, на охотничьих стоянках, это поедание той же самой пищи. Это попытка поставить себя на место героя. Ведь для того, чтобы ты смог изнутри это сделать, ты должен стать одним из них. Слава Богу, мне повезло с соратниками. Скажем, Влад Нувано - наш научный консультант на «Книге тундры», потомственный оленевод. Двадцать пять лет он провел в стаде вместе с отцом, великим оленеводом ваежской тундры Николаем Нувано, а потом решил заняться научной деятельностью. В итоге мы вместе стали делать это кино. Влад владеет оленеводческой культурой чукчей в совершенстве, чукотский язык для него родной. Он, естественно, знает все нюансы жизни оленеводов: от какой «спички» можно брать огонь, от какой нельзя, где ставить жилище, как поставить кораль, загнать в него оленей, запрячь аргиш и кочевать, проводить праздники своего народа, семейные обряды... Короче, когда Влад рядом, ты должен просто следовать за Владом, прислушиваться к нему. Он твой проводник по вселенной чукчей-оленеводов. А если с тобой морской охотник Алексей Оттой, то ты следуешь за От-тоем, потому что он - твой проводник на берегу и в море. Алексей не только герой фильма, он - человек традиционного сознания, истинный хранитель культуры арктических морзверобоев. Ты движешься за ним, и он абсолютно естественно открывает тебе глаза на какие-то вещи, которые обогатят твой материал, картину в целом и тебя самого. Любая экспедиционная работа предполагает глубокое знание, подготовку, постоянную попытку осмыслить реальность. А когда ты помимо всего прочего ищешь и художественную форму, гармоничный теме киноязык, тогда хочешь-не хочешь, открываешь для себя суть характеров, событий, отношений. Это очень интересная вещь - визуальная антропология - ты не только занимаешься интервьюированием людей и сбором какой-то однородной информации, а фиксируешь довольно экзотическую реальность в максимальном объеме и пытаешься сделать ее близкой и понятной людям, которые будут сидеть в зале. Это такая тонкая штука. И вот по степени погружения, объему информации, включенных чувств, понимания сути и выражения результатов усилий в гармоничной художественной форме, силе воздействии ее на аудиторию, визуальная антропология - это царица антропологии, с моей точки зрения. - Кто в таком случае автор антропологического кино? Это режиссер, исследователь, это просто любопытный человек, которому небезразлична какая-то культура, какие-то люди? Потому что, как вы сказали, Вы себя позиционируете как «я один из них». Как бы вы себя охарактеризовали одним словом: режиссер, исследователь? Что больше? Что перевешивает? - Режиссер, понятно, это реализатор. Или директор - тот, кто держит всех в русле какой-то истории, какого-то замысла. Но не стоит сужать натуру режиссера. Режиссер должен быть человеком абсолютно широких познаний, интересов, желаний, возможностей. Начиная с того, что у тебя есть какая-то идея, ее недостаточно просто записать одним предложением, ты должен сделать так, чтобы она стала понятна, близка и тронула сердца тысяч людей, ну как минимум. Что такое кино вообще? Кино - это некий опыт, который имеет художественную форму. Это мой личный опыт постижения этого события или этого явления, этой темы, который я через какую-то художественную форму доступным мне языком пытаюсь передать, транслировать широкой аудитории. Поэтому ты должен быть и исследователем, и организатором-администратором, и главой экспедиции, человеком, который несет ответственность за людей и за то, чтобы ваш общий корабль пришел по назначению, т.е. это такая очень большая, объемная функция - быть режиссером. Я думаю, что режиссер - это больше чем исследователь. На «Книге моря», допустим, мне пришлось заниматься и мультипликацией, волей-неволей пришлось понять, как она делается, и научиться этому (рис. 1). Ведь, избрав для себя язык анимации, для того чтобы визуализировать мифологию эскимосов и береговых чукчей, я вступил на территорию, о которой вообще ничего не знал. У меня была написана история, которую мы должны были воплотить, но как это сделать с точки зрения технологии - было неясно. Поэтому я привлек профессионалов и, в конечном итоге, стал одним из них. Анимационная линия «Книги моря» делалась три года. Рис. 1. Мультипликационный сюжет из фильма «Книга Моря» Ее главный художник - совершенно блистательный аниматор и режиссер мультипликации Эдуард Беляев. За полгода до завершения работы в цехе остались только он да я (так продиктовали финансовые обстоятельства) и двигались вперед по 14 часов без выходных. Анимация - долгое трудозатратное производство. Это следует принять и смириться. Скажем, одну из сцен (она длится на экране двадцать три секунды) мы делали больше сорока дней. По-моему, сорок пять дней мы ее делали, не считая создания персонажей и фонов. Получается, что режиссер документального кино вышел за рамки, мне пришлось стать композером (собирать воедино отснятые слои разных сцен), что-то я фактурил как художник мультипликации. Но в основном выполнял роль режиссера мультипликации. Мы вместе с Эдуардом придумывали или лично я придумывал поведение персонажей и развитие сюжета. Возвращаясь к визуальной антропологии, естественно, прежде чем приступить к созданию анимационной версии эскимосских и чукотских мифов, нами были прочитаны не только сборники мифологии СевероВосточной Азии, Северной Америки и Гренландии, но и масса литературы о событиях и персонажах, связанных с избранными нами сюжетами. Визуальный ряд нашей анимационной линии вобрал мотивы материальной культуры всего циркумполярного региона планеты. Что касается съемок документальной линии, то операторы были в курсе моего видения, когда оно окончательно сформировалось. В результате у нас была единая точка зрения. Мы видели не только алюминиевые лодки, людей в телогрейках с каким-то современным оружием, а архетипы людей и событий. Потому мы снимали сцены промысла не как это принято, по-другому, иначе. - Иначе - как Вы или как они на это смотрят? - На сто процентов как они, мы, наверное, не сможем все-таки на это смотреть. Но я думаю, что, в конечном итоге, мы все смотрели одинаково, потому что начиная с девяносто первого года я выходил на охоту бесчисленное количество раз в разных местах Чукотки. Когда мы снимали «Книгу моря», то раз восемьдесят сходили на охоту на все виды промысловых животных и по многу раз, и удачно, и неудачно, и с разными людьми, и тогда, когда это были пожилые люди, и тогда, когда это были люди среднего возраста, и тогда, когда они брали с собой маленьких детей для того, чтобы те привыкали к охоте. Для нас это давно утратило экзотичность, мы стали частью общины. Очень важно в фильме ничего не упустить, какие-то очень важные вещи, которые вам представляются важными. Они происходят самым естественным образом и для героев являются абсолютно обыденными, но на самом деле содержат очень глубокий смысл. Допустим, они берут на охоту маленького ребенка, чего, казалось бы, делать не стоило. Это опасно, это долго, холодно и прочее. К тому же он как будто ничего не делает, просто сидит рядом, потом встает, куда-то смотрит, потом ему начинает все надоедать, он начинает баловаться, его одергивают как-то, ну и так далее. Зачем он там?! Или Вуквукай, оленевод, вместо того чтобы быстро запрячь оленя самому, дает это делать внуку, а тот - и так, и сяк, и ничего у него не получается. Старик над ним смеется и говорит: «Ох, и неграмотный!» То есть получается, что в контексте традиционных представлений и ценностей «грамота» - это не счет и письмо, а совершенно другая вещь - важно уметь запрягать оленей, важно привыкнуть к охоте, важно быть рядом со старшими сызмальства и впитывать навыки, иначе не выжить в экстреме. Что касается операторов. С 2004 г. в течение пятнадцати лет в разные чукотские экспедиции шесть раз со мной летал Вячеслав Макарьев. Он очень открытый. Человек традиционной культуры - он открыт, и Слава открыт. Между ними моментально возникает общий язык. Важно, чтобы оператор понимал, что есть вещи проходные, а есть сущностные вещи, из чего жизнь складывается на самом деле и благодаря чему она дальше течет и развивается. И операторы мои, они, как правило, сущностные вещи понимали очень глубоко. Это тоже серьезно говорит о том, что такое наша антропологическая наука, то, к чему стоит стремиться, когда ты делаешь фильм, будучи визуальным антропологом. Ты погружаешься в какую-то тайну, ты становишься сопричастен каким-то скрытым законам, и ты это так или иначе транслируешь. Это круто! Я не знаю, происходит ли это с человеком, который приехал просто собрать какой-то материал исследовательский, статистику, но вот когда это кино. Потому что кино сопряжено всегда с массой очень сложных вещей. Ты не один, у тебя есть люди, их надо перевезти, потом у тебя есть ключевая задача: у тебя в руках высокотехнологичное оборудование, которое дорого стоит, которое очень капризное, ты должен в этих невыносимых зачастую условиях, с помощью этого инструмента что-то сделать. Ты всегда в напряжении, постоянно думаешь, «каким образом, а может быть вместо того, чтобы идти в море, мы можем сейчас снять какую-то сцену здесь, потому что это важно, об этом еще рассказать, эту сторону снять». И ты начинаешь над этим работать, ты постоянно в процессе, ты не ждешь прибытия из пункта А в пункт В просто для того, чтобы потом вернуться в пункт А. Ты постоянно идешь извилистым путем, это и есть визуальная антропология. Твоя главная задача - вывести героя на крупный план, и чтобы для зрителя он был словно открытая книга и зритель сопереживал герою. - Алексей, Вы в своих словах уже затронули тему аудитории, в связи с этим вопрос: Вы продумываете заранее возможную аудиторию Вашего фильма? Потому что все визуальные антропологи, с кем я говорил, все говорят: «Нет, я никогда не думаю об этом, я снимаю, и я не знаю, кто это будет смотреть, я совершенно не думаю об этом». Как в Вашем случае? - Думаю ли я об аудитории? Я профессиональный режиссер, поэтому мне недостаточно, чтобы мое кино посмотрело несколько сот человек. Так или иначе, я работаю над тем, чтобы его аудитория была максимальной, поэтому так трудно рождается любой проект, любой фильм, потому что есть какая-то профессиональная планка, некие критерии, ниже которых просто не получается опуститься. Чтобы что-то сделать хорошо, требуется много времени и усилий, а сейчас уже и денег, потому что если ты думаешь о том, что тебе нужно сделать аудиторию максимально широкой, - это должен быть кинотеатральный формат, а он предполагает привлечение каких-то дорогих технологий. У тебя есть задача, чтобы тема, которая тебя волнует, стала близка людям. Для этого необходимо сделать ее таким образом, чтобы она на разных уровнях восприятия воздействовала на аудиторию. Хочешь-не хочешь, но для того, чтобы картину можно было показать по всему миру, надо использовать современные технологии создания аудиовизуального произведения. Я думаю об аудитории, но я думаю об аудитории разной, и желательно, чтобы она была максимальной. Таким образом мы делаем и очень хорошую штуку для нашего цеха (визуальной антропологии), а именно выводим «этнографическую фильму» из ниши узко академической в широкий оборот. При этом я повторяю, она содержит все базовые принципы нашей дисциплины, но одновременно имеет такую форму и техническое качество, что может быть показана наравне с каким-нибудь серьезным кассовым фильмом. - Отечественная «школа» антропологического кино. Какой наиболее полезный опыт Вы приобрели в процессе своей деятельности? С какими трудностями пришлось столкнуться? - Профессионализм в области антропологии или этнографии как таковой плюс понимание важности киноэстетики и киноязыка. Плюс к этому стремление вглубь, вглубь явления, вглубь характера. Любой человек, который уехал в поле наше, зачастую попадает в такие чудовищные обстоятельства, из которых он должен выйти героем. Он понимает, что должен справиться с этим, что он столькими вещами поступился, и он задрал так высоко планку, что должен за эту планку держаться зубами и вернуться с хорошим материалом. Он должен вернуться с хорошим фильмом, он должен дойти до сути и найти способ раскрыть ее визуально... Он там сидит, как золото намывает, самородки на реке, и должен вернуться с этим золотым запасом. Мне кажется, что любой визуальный антрополог отечественной школы - абсолютно героический персонаж, который через «не могу», и через «нельзя», и через «не можно» должен сделать нечто такое, что обладало бы ценностью и эстетической, и смысловой, научной и любой другой. - Визуальный антрополог в России больше, чем визуальный антрополог. - Однозначно, совершенно. - Давайте поговорим о прикладной визуальной антропологии как некой дисциплине, направленной именно на решение, на озвучивание, на популяризацию актуальных социальных проблем. Как Вы относитесь к этому направлению? Как Вы считаете, способно ли это направление решать те задачи, которые оно себе ставит? Как-то влиять на общество? - Все мы так или иначе желаем изменить жизнь к лучшему. Но визуальный антрополог - не журналист. И если говорить о каких-то текущих вещах или процессах, то он все равно рассматривает их в какой-то исторической протяженности. Если говорить о том, что я делаю, то всегда появляется человек, который говорит: «А, опять! Опять эти чукчи, малые народы! И все это неактуально, а актуально вот это сейчас и об этом надо снимать кино». Мой ответ очень простой - все зависит от вас. Лично для меня последние лет тридцать актуален процесс вымывания основ традиционной культуры. Это одна из наиболее пугающих тем для меня - исчезновение самобытности. - Да, это актуальная проблема для этой культуры. - Так это не только для этой культуры, это универсальная проблема вообще для всего человечества. Очевидно, что человечество теряет этническое многообразие. Исчезают языки, исчезают народы, исчезают навыки, исчезают какие-то традиции, исчезают даже материалы, из которых эти люди что-то умеют делать, территории - на них воздействуют недропользователи, реки перестают быть нерестовыми, тундра перестает быть для оленей открытой планетой для передвижения и так далее. То есть весь мир современный, он влияет на то, что все эти народы, к сожалению, действительно дают крен. Дают крен в сторону вообще непонятно чего... Почему мои операторы так любят этих людей, с которыми мы работаем? Потому что эти люди - столпы своего фэнтезийного мира, как я воспринимал чукотского оленевода Вуквукая (рис. 2). Он как титан, который упирается в небо, читает по звездам свой путь, знает о том, с какой стороны и что произойдет, каждый бугорок для него наполнен каким-то смыслом и какой-то жизнью. Он знает все о своих оленях, может сидеть посреди многотысячного стада и петь песню, а олени будут ритмично вокруг него бегать, потом успокоятся, в то время как ото всех остальных они просто шарахаются и разбегаются по бескрайним просторам. Вуквукай говорит о себе: «У меня есть олени, у меня есть яранга, у меня есть семья, у меня есть квадроцикл... (странное вкрапление, но у него проблемы с ногами, ему действительно летом проще передвигаться на квадроцикле). Я - счастливый человек!» Вуквукай не включает в категорию счастья деньги, он не включает в свою планетарную систему важных для многих из нас понятий типа карьерного роста, моющих средств, туалетной бумаги, гаджетов и пр. Его мир самодостаточен, и без вмешательства извне Вуквукай абсолютно счастлив. Рис. 2. Главный герой фильма «Книга Тундры» Вуквукай Так вот, потеря вот этой самодостаточности, исчезновение этого -актуальнейшая сейчас проблема. Поэтому в нескольких фильмах есть тема интернатов, куда дети улетают на десять месяцев в году и таким образом остаются «неграмотными», они умеют складывать, вычитать и так далее, но при этом они не умеют запрячь оленя, они не могут для оленей зимой найти пастбища, на котором стадо в десять и более тысяч голов может прокормиться. Они не могут делать это, они не могут делать то, они не привыкают к охоте, они всю жизнь проводят в казенном доме, из которого часто выходят ни к чему не готовыми - они не приспособлены ни к жизни в современном обществе, они не готовы к жизни в тундре, в море. Это путь в никуда. Когда-то в 2007 г. мы с Никитой Хохловым забрались на северное побережье Чукотки, чтобы снять фильм «Добро пожаловать в Энурми-но!». Мы планировали показать замечательное место, где люди живут истинной традиционной жизнью в окружении нетронутой природы и все сохраняют, там нет никаких напастей типа алкоголизма. Так нам было преподнесено Энурмино. Но когда мы туда прибыли, то через полторы минуты увидели, что все ровно наоборот. Энурминцы продолжают сохранять традиционный уклад, охотиться, но в плане социальном они абсолютно не устроены, они брошены, они предоставлены сами себе, их проблемы никого не волнуют, к ним редко прилетает вертолет и так далее. Хотя в годы советской власти государство, напротив, патронировало чукчей, и они привыкли к патернализму. Мы решили с Никитой снять все, как есть. Сделать честный фильм. Именно с этого проекта я перестал снимать для телевидения, а стал снимать только авторское кино. Этот фильм был сделан для того, чтобы показать все внешнему миру, чтобы жизнь в этом поселке изменилась, чтобы к людям повернулись лицом. Это была такая поэтическая публицистика. - Ну а жизнь в итоге там изменилась? - Нет! И я ужасно по этому поводу переживал, что ничего не поменялось. Потом я понял, что если ты делаешь стильное кино, серьезно работаешь над формой, над эстетикой и над киноязыком, то в принципе ты не в праве рассчитывать на то, что ты можешь что-то изменить. Потому что форма, киноязык, по крайней мере мой, тем, которым я пытаюсь говорить, не ведет на баррикады. Выстраивая образный ряд, мы пытаемся раскрыть проблему через этих людей, они сами о ней говорят. Они говорят робко, они говорят, может быть, не всегда понятно. Мы делаем это внятным, но это не журналистика, это все-таки кино. В результате вы «Энурмино» можете смотреть сегодня, можете смотреть через сорок лет с одинаковым чувством, но на условия жизни в социальном плане картина не повлияла. - Алексей, сейчас, насколько я знаю, Вы работаете над проектом, посвященном показу Вашей картины «Книга Моря», не могли бы Вы поподробнее рассказать об этом, что и как проходит, какие цели Вы себе ставите, какие задачи? Короче говоря, о своем опыте показа картин. - «Книга Моря» - проект уникальный, потому что это наполовину мультипликационный, наполовину документальный фильм. Любой человек, заезжающий на Чукотку и снимающий про охотников на морского зверя, как правило, снимает охоту на морского зверя, какую-то поселковую жизнь, ну, собственно, и все. Мы так делали, за три дня снимали кино для Первого канала когда-то. Есть танцевальный коллектив, как правило, в поселке, который собирается в определенные дни для того, чтобы репетировать какие-то выступления, танцы разучивать. Мало кто говорит на родном языке, мало кто рассказывает сказки, те сказки, которые слышали в своем детстве наши герои, тот же замечательный Алексей Оттой. Он уже чукотский старейшина, организатор и глава территориально соседской общины «Лорино». Это человек, благодаря которому сохраняется традиционная охота и благодаря которому живет этот поселок, в котором полторы тысячи человек. Потому что охотники буквально обеспечивают этот поселок едой, добывая морского зверя. От Алексея я не раз слышал о том, как его бабка часами рассказывала эскимосские и чукотские сказки. Горела керосиновая лампа, они сидели и слушали, а для того, чтобы дослушать до конца, маленький Оттой вставал у стенки и брал в руки камешки. Если он засыпал, камешки падали, и он просыпался, снова брал камешки, чтобы дослушать до конца. Все это на чукотском языке, естественно, бабушка рассказывала. Короче говоря, вот таких вещей уже не бытует, что называется. Одновременно с этим все охотники на морского зверя Чукотского района и Провиденского продолжают считать себя наследниками традиции, хранителями навыков далеких предков. Безусловно, так оно и есть. Они продолжают чувствовать себя эскимосами и береговыми чукчами. Все те, кто живет в береговых поселках и ведет морской промысел, так или иначе обладают традиционным сознанием и являются хранителями традиций. Я уже говорил о том, что вся местность, которая их окружает, в их восприятии наполнена жизнью. То есть это не просто какие-то мертвые пустынные и малоприютные мысы, бухты и галечные пляжи, а места действия бесчисленных сюжетов, все так или иначе связано с жизнью их народа, с историей этого народа, с мифологией этого народа и так далее. И тогда мы решили попытаться это визуализировать, взяли фундаментальный для этой культуры миф «о женщине, которая родила кита», который говорит о естественной связи человека с природой, буквально о кровной связи, о кровном родстве с китами, и сделали его основой анимационной линии фильма. Анимация, благодаря Эдуарду Беляеву, сделана таким удивительным образом, что природное пространство, в котором происходят события документальной линии и анимационной, по сути, одно и то же, фоны и персонажи из скульптурного пластилина сделаны невероятно достоверно и аутентично. Кроме того, сам материал, если можно так выразиться, тактильный, это hand made: каждый персонаж вылеплен и сохраняет тепло рук художников и аниматоров. Короче говоря, анимационные сцены получились не только достоверными в смысле этнич-ности, но и невероятно живыми. Когда мы начали снимать документальный материал, мы снимали его и в море, и на берегу. У нас было четыре экспедиции общей продолжительностью по полгода. Так никто не снимает документальное кино. Так только визуальный антрополог работает. И вот, когда все было сделано и сцены обеих линий легли на монтажный стол, оказалось, что берег не монтируется. Жизнь в современном береговом поселке не вяжется с архетипами. У меня появились в тот момент европейские партнеры, которые давали средства для того, чтобы завершить производство при условии обязательного наличия социальной проблематики, и потому берег в картине должен был обязательно присутствовать. Однако промучившись на монтаже полтора месяца, я понял, что живое с мертвым никак не склеится, и отказался от этих средств. И в фильме у нас осталась только жизнь. То есть, само собой, помимо моей воли из всех документальных сцен в фильме остались сцены с единственной актуальной живой формой существования традиционной культуры, основанной на промысле морского зверя, - это сам промысел. Это, собственно, сама охота, когда человек выходит в море и отрывается от берега (рис. 3). И чем дальше он уходит, тем меньше он остается человеком сегодняшнего дня. Он словно попадает в некое пространство вневременное, он погружается в абсолютно мифологическое пространство и начинает проживать архетипические сюжеты, с ним начинают происходить события, которые происходили в море с его отцом, дедом, прадедом и предками сотни лет назад. По сути атрибуты и обстоятельства охоты все те же: море, небо, гарпун, ибо аборигенный промысел ведут только с использованием гарпуна, который был придуман как минимум две с половиной тысячи лет назад, и, собственно, зверь, которого человек должен добыть, с которым он имеет кровную связь, родственную связь, к которому у него есть определенное отношение, не просто потребительское отношение, как к одному из миллиона бройлеров с птицефабрики, а как к равному существу, у которого есть душа. Получается, что в море наши герои существуют вне времени, несмотря на то что они в телогрейках, на металлических лодках и с ружьями. Но в какой-то момент у них заканчивается бензин... У нас есть сцена в «Книге моря», в которой охотники возвращаются домой почти шестнадцать часов. Они набили много моржей, на их лодках висят огромные туши, и тут их затирает льдами. Сквозь ледяное поле они пробиваются к дому, везут добычу, как везли добычу их далекие отцы и деды. Твоя сущностная роль добытчика и кормильца выходит на первый план, и ты должен сыграть ее с полной отдачей сил до конца. Нечто подобное происходит у нас в мифологической части. Герои анимации существуют в пространстве мифа, абсолютно вне времени, и опираясь на те же ценности и базовые основы культурных представлений вообще обо всем, как и герои документальной линии. И две эти линии идеальным образом срослись. Они абсолютно идеально сшились. Но для берега там не оказалось места, он просто не встал в один ряд с архетипиче- Рис. 3. Сцена морской охоты из фильма «Книга Моря» Так сложилась «Книга Моря». События в одной реальности влияют на события в другой и наоборот. Они существуют в общем художественном пространстве и влияют друг на друга, приходя, в конечном итоге, к тому моменту, когда все неприятности остаются в прошлом и там, и тут. Для этого фильма такой финал был органичен и абсолютно необходим. Во-первых, потому что представитель
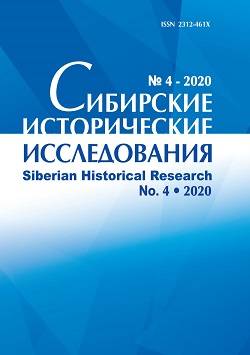

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью