Проведена оценка возможного влияния миграционного фактора на палеодемографические характеристики выборок русских Нового времени. Материалами для анализа послужили 64 скелетных серии, происходящие преимущественно из раскопок городских кладбищ XVII-XIX вв. Показано, что выборки с территории Сибири отличаются значительно более высоким процентом детей, а также относительно низкой долей индивидов зрелого возраста среди взрослых по сравнению с выборками европейской части России. В целом выявленные различия совпадают с различиями между выборками «первопоселенцев» и «старожилов» независимо от территории проживания. Одна из основных причин специфичности палеодемографической характеристики сибиряков заключается в особенностях половозрастного состава переселенцев и в более высоких темпах прироста населения к востоку от Урала. Обнаружены существенные расхождения в оценках ожидаемой продолжительности жизни, основанных на палеодемографических значениях индекса ювенильности и данных официальной статистики XIX в. Вероятнее всего, они обусловлены расхождениями между возрастными распределениями обитателей сельских и городских поселений, а также недостаточной репрезентативностью скелетных серий. Показано, что в среднем в выборках из военно-административных и промышленных поселений выше доля людей активного трудоспособного возраста, чем в сельских группах. Это объясняется как различиями в половозрастном составе живого населения, так и относительно высокими коэффициентами смертности отдельных возрастных групп, проживавших в поселениях указанных двух типов.
Impact of migrations on paleodemographic characteristics of the Russian population, 17th to 19th c.pdf Введение Информация о половозрастном составе скелетных серий, происходящих из раскопок археологических памятников, часто используется антропологами для оценки показателей смертности, рождаемости, среднего возраста смерти и продолжительности жизни различных популяций прошлого. Проведение такого анализа всегда сопряжено с целым рядом методических проблем, описание и возможные пути преодоления которых последние полвека становятся предметом специальных исследований так часто, что уже сами литературные обзоры по теме могут заслуживать отдельной публикации (Федосова 1994; Hoppa 2002; DeWitte 2018; Milner et al. 2018; Ubelaker, Longeway 2019 и др.). В числе таких проблем всегда указываются возможная нерепрезентативность выборок и их, как правило, небольшой объем, зачастую несоизмеримый с данными, задокументированными в письменных источниках, влияние обряда и сохранности костей на представленность детских останков, методические ограничения и ошибки в определении пола и возраста, условия и ограничения применения разнообразных моделей к конкретным популяциям. Некоторые проблемы можно считать специфическими для анализируемых периодов и регионов (различия между типами памятников, влияние механического и естественного прироста, фактор катастрофической смертности, обусловленной войнами и эпидемиями). Другие проблемы связаны с особенностями работы научных сообществ разных стран (методы раскопок, фиксации и хранения скелетных останков, методы установления пола и возраста, подходы к представлению данных в публикациях). В России заметную долю публикаций, посвященных палеодемогра-фии, составляют исследования, посвященные анализу скелетных серий из раскопок городских кладбищ эпохи Средневековья и Нового времени. Как правило, исследователи прибегают к суммарному описанию материалов, составляющих выборку из одного могильника, и составлению таблиц смертности, из которых затем выводятся оценки ожидаемой продолжительности жизни, проценты детской смертности, проценты дожития, коэффициенты фертильности и другие показатели. Точность этих показателей зависит от множества параметров, которые, однако чаще всего не подвергаются специальным оценкам. Между тем различия в темпах прироста населения, миграции коллективов со специфическим половозрастным составом, нелинейный характер колебаний численности населения оказывают существенное влияние на характеристики выборок. Анализу таких факторов на материалах выборок, характеризующих русское население Сибири и европейской России эпохи Нового времени, и посвящена данная публикация. С третьей четверти XVII по конец XIX в. общая численность русского населения, проживавшего в границах Российской империи XIX в., увеличилась с 8 до почти 56 миллионов человек (Брук, Кабузан 1982). Вероятно, эти оценки не очень точны, и колебания скорости прироста в разные периоды и на разных территориях были весьма существенными. Но сам по себе этот факт уже достаточен для того, чтобы утверждать: в анализе неприменимы стандартные таблицы смертности, основанные на стационарной модели. Проблема заключается в том, что модели, опирающиеся на некоторую заданную скорость естественного прироста населения, могут также оказаться некорректными. Заметную роль в истории России в эпоху Нового времени играли внутренние миграции населения. Центральные и северные районы европейской части России систематически исполняли функцию регионов-доноров, а южные районы европейской части, Поволжье, Приуралье и Сибирь - регионов, привлекающих на свою территорию новые группы населения (Там же). Кроме того, и внутри регионов миграции оказывали влияние на состав городских и сельских поселений. Направление миграций не носило однонаправленный характер: приток населения в города периодически сменялся оттоком в сельские поселения (Миронов 1990). Цель данного исследования состоит в оценке той роли, которую миграционный фактор играл в межгрупповой изменчивости палеодемо-графических характеристик выборок, как относящихся к поселениям разного типа, так и проживавших по разные стороны Урала. В основе анализа лежит предположение, что половозрастной состав мигрантов, (идет ли речь о переселении жителей Русского Севера в Западную Сибирь или сельских крестьян в промышленный центр) всегда отличается от состава исходной популяции. Действительно, даже по материалам начала XX в., когда миграции приняли массовый характер, известно, что среди сибирских переселенцев преобладали подростки и молодые люди, а младенцы и старики составляли лишь небольшую долю. Причем по прибытии на новое место младших членов семьи подталкивали к вступлению в брак для укрепления семейного хозяйства (Демографическая история. 2017: 27-34). Миграции влияли не только на механический прирост населения, но и приводили к увеличению темпов естественного прироста, которые на протяжении XIX - начала XX в. к востоку от Урала были в целом выше, чем по империи (Ивонин 2000; Зверев 2014). Вопрос заключается в том, позволяет ли обнаружить последствия миграций палеодемографический анализ скелетных серий, характеристики которых всегда неполны и искажены? Материалы и методы В течение последних двух лет автором собиралась вся доступная информация о скелетных сериях из раскопок русских сельских и городских кладбищ XVII-XIX вв. Часть данных удалось извлечь из публикаций, часть - получить из материалов археологических отчетов, часть -из личных архивов автора и коллег, любезно согласившихся поделиться неопубликованными сведениями. К настоящему времени собрана база данных, включающая в себя информацию о половозрастных характеристиках 19 тысяч человек, сгруппированных в 76 скелетных серий. База находится в свободном для читателей доступе на сайте: https://kunstkamera.academia.edu/IvanShirobokov Большая часть материалов - 58 выборок - происходит из европейской части России, 18 выборок - с территории Урала, Западной и Центральной Сибири (для краткости в дальнейшем обозначаемых как Сибирь) (рис. 1). Выборки характеризуют преимущественно городское население, небольшая часть представлена материалами сельских кладбищ и кладбищ при городских монастырях. Монастырские выборки (всего их 12) в большей части анализов не учитывались. Их характеристики смещены относительно общегородских, даже несмотря на то, что на таких кладбищах, помимо захоронений служителей монастыря, практически всегда присутствуют захоронения представителей привилегированных (и не только) сословий, а также отдельных горожан и их семей. Рис.1. Географическое расположение анализируемых серий. Карта с обозначением серий и полным списком ссылок на источники данных доступна на сайте: https://kunstkamera.academia.edu/IvanShirobokov Большинство скелетных серий, половозрастные определения которых положены в основу анализа, происходит из частично раскопанных кладбищ с относительно широкими датировками, редко укладывающимися в одно столетие. Без серьезной совместной работы с археологами они не могут быть разбиты на подгруппы, составляющие некоторую хронологическую последовательность. Суммарная характеристика отдельно взятой серии в действительности может опираться на разрозненные материалы разного времени или же относиться к более узкому периоду, чем позволили установить археологические наблюдения. Маловероятно, что все периоды функционирования кладбища будут представлены пропорциональным числом индивидов. У каждого кладбища есть структура, и даже плотность погребений и сохранность скелетов, как правило, различаются на разных участках, что может непосредственно отразиться как на точности оценок пола и возраста, так и на репрезентативности исследуемых выборок. С целью снижения выборочного эффекта, а также снижения возможного влияния межисследовательских расхождений в определении пола и возраста скелетов все анализы проводились путем сравнения не отдельных выборок, а их группировок, объединенных по некоторым внешним признакам - географическим, хронологическим и социально-экономическим. Хронологическая изменчивость палеодемографиче-ских показателей рассчитывалась для шести полувековых периодов, приходящихся на XVII-XIX вв. Характеристика каждого периода определялась путем усреднения значений признаков тех серий, датировки которых охватывают данный хронологический отрезок, отдельно для населения европейской части России и отдельно для Урала и Сибири. Усреднение признаков проводилось со взвешиванием: вклад каждой выборки в характеристику конкретного периода оценивался по формуле Xc = x ^^^у^Г), где x - исходное значение признака в выборке, n число наблюдений в выборке, p - условная вероятность совпадения датировки выборки с рассматриваемым периодом (например, для выборки, датирующейся XVII в., вероятность совпадения датировки с периодом «первая половина XVII в.» составит 0,5, а для выборки с датировкой XVII - середина XIX в. - 0.2), - сумма квадратных корней из числа наблюдений для всех выборок с датировками, приходящимися на рассматриваемый период, Е(Р) - сумма вероятностей совпадения датировок каждой из выборок с рассматриваемым периодом. Характеристика периода рассчитывалась как простая сумма вкладов всех выборок, датировки которых совпадают с ним хотя бы отчасти. При оценке ожидаемой продолжительности жизни использовались регрессионные формулы, основанные на заданной величине естественного прироста и рассчитываемой величине индекса ювенильности (JI -juvenility index) (Bocquet-Appel, Masset 1996)1. Индекс определяется как отношение индивидов от 5 до 14 лет к числу индивидов старше 20 лет (JI = d5-14/d20+). Показатель связан высокой отрицательной корреляцией с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении. Хотя существуют также формулы, учитывающие средний возраст смерти среди взрослых умерших, однако представляется, что индекс ювенильности имеет перед ними серьезные преимущества. Во-первых, величина индекса устойчива к межисследовательским расхождениям. Во-вторых, на его величину не оказывает влияния систематическая ошибка в определении возраста индивидов старших возрастных когорт, которая приводит к существенному занижению среднего возраста смерти (Широбоков 2019). Помимо хронологической изменчивости, оценивались различия между сибирскими и европейскими сериями, сельскими поселениями и городами, а также отдельно рассматривались изменчивость половозрастных характеристик в выборках из поселений, выполнявших военно-административные, аграрные и производственные функции. Эти признаки хотя и коррелируют между собой, но корреляции, как правило, имеют низкую величину. Одно и то же поселение могло выполнять разные функции в одно и то же время и менять их в течение определенного периода, на который приходится датировка скелетной серии. Отдельно оценивались различия между выборками, датировки которых хотя бы отчасти совпадают со временем основания поселения (для краткости обозначенными как «первопоселенцы»), и остальными выборками («старожилами»). Очевидно, что это разделение носит условный характер. В действительности ни одна из выборок не может считаться состоящей исключительно или преимущественно из семей первопоселенцев или старожилов. Однако для целей анализа достаточно предположения, что в указанных двух группировках существуют суммарные различия в представленности относительной доли останков тех и других. Это замечание справедливо и для группировок, сформированных по другим признакам. В конкретных выборках, отнесенных к поселениям аграрного или военно-административного типов, реальная доля лиц, занятых в сельском хозяйстве и в военном деле, может оказаться незначительной или даже близкой к нулю. Со стороны автора возможны также ошибки, связанные с недостатком сведений об истории формирования конкретных кладбищ и поселений. Однако представляется, что наиболее значимые тенденции в изменчивости половозрастных характеристик умерших при анализе большого массива данных будут проявляться даже несмотря на указанные недостатки. Сопоставление характеристик выборок, группируемых по перечисленным признакам, проводилось при помощи U-критерия Манна-Уитни в пакете программ STATISTICA 12.0. Для снижения вероятности ошибки первого рода (ложноположительного заключения о неслучайности выявленных различий) использовалась поправка на множественные сопоставления по методу Холма-Бонферрони при а = 0,05. Оценка значимости влияния миграций на палеодемографическую характеристику скелетных серий из поздних русских кладбищ проводилась путем проверки двух основных гипотез. Первая гипотеза заключается в том, что основные различия между характеристиками сибирских и европейских серий в значительной степени могут быть объяснены особенностями половозрастного состава переселенцев. Предполагается, что эти различия: а) будут заключаться в более высоком проценте детей и молодых людей, а также низкой доле стариков в сибирских сериях; б) будут совпадать в большей или меньшей степени с различиями между выборками «переселенцев» и «старожилов» независимо от территориальной принадлежности выборок. Вторая гипотеза состоит в том, что существуют систематические различия в половозрастной структуре групп живого населения, проживавшего в поселениях разного типа, и эти различия могут быть выявлены при анализе скелетных серий даже при условии, что нам неизвестны реальные возрастные коэффициенты смертности. Эта гипотеза рассматривалась на примере выборок из поселений, выполнявших военно-административные и производственные функции. Предполагалось, что: а) доля индивидов активного трудоспособного возраста (20-50 лет) в выборках из таких поселений будет выше, чем в выборках из сельских поселений; б) в первых относительная доля мужчин будет заметно выше доли женщин среди индивидов с установленным полом. Межисследовательские расхождения в расчете половозрастных распределений и некорректные интерпретации данных К сожалению, невозможно оценить влияние систематических расхождений в установлении пола и возраста погребенных между всеми исследователями, материалы которых были привлечены к анализу. В том числе и по этой причине в анализе сравнивались не отдельные выборки, а их совокупности, сгруппированные отдельным признакам. Теоретически объединение данных разных исследователей должно привести к уменьшению вероятности направленных различий. Тем не менее для дополнительного снижения рисков автором по возможности использовались исходные индивидуальные половозрастные определения, а все палеодемографические показатели рассчитывались заново, даже если материал уже был опубликован. Перерасчет признаков по индивидуальным данным был проведен для 46 из 76 выборок. Необходимость таких пересчетов отчасти была вызвана одним неожиданным наблюдением. Как оказалось, некоторые из исследователей считают допустимым определять возраст взрослых индивидов в очень узких диапазонах (35-40 лет, 50-55 лет, «30 лет) (см. например: Васильев, Боруцкая 2011; 2013; Молодин 2007). В стандартных таблицах смертности часто используются пятилетние возрастные интервалы, но возраст индивидов не определяется в таких узких границах. При вычислении суммарных долей каждой из возрастных групп учитывается вероятность, с которой к ней может быть отнесен каждый из погребенных с установленным возрастом. Однако ни один из морфологических методов не позволяет надежно устанавливать возраст взрослых индивидов в пятилетних интервалах или давать ему точечные оценки. Хорошо известно, что биологический и паспортный возраст зачастую не совпадают между собой, и чем старше человек, тем выше вероятность и величина расхождений. Для снижения погрешности исследовательских оценок первоначальные точечные и пятилетние определения возраста были преобразованы в десятилетние (например, если возраст оценивался в интервале 45-50 лет, последний преобразовывался в интервал 42,5-52,5 года, ок. 30 лет - 25-35 лет). Коррекция была проведена для определений возраста всех индивидов старше 25 лет. Она привела к сглаживаниям кривых возрастных распределений и некоторому увеличению доли финальной когорты (50+), что в свою очередь позволило несколько приблизить палеодемографические данные к распределению, ожидаемому по данным официальной статистики. Еще большего сближения удалось добиться при помощи коррекции формы возрастного распределения, основанной на результатах теста I Лавджоя (см. описание в: Широбоков 2019; в основной части анализов она не применялась) (рис. 2). Эти простые процедуры не только привели к сглаживанию пиков, но и показали отсутствие всякой необходимости привлечения аргументов хронологического и даже генетического характера для объяснения зубчатой формы распределений (Рейс, Савенкова 2019; Молодин 2007: 36). 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 >50 лет Рис. 2. Возрастное распределение умерших в России эпохи Нового времени: 1 - по материалам 76 выборок XVII-XIX вв.; 2 - по материалам 46 выборок XVII-XIX вв., распределения в которых были пересчитаны автором по индивидуальным данным; 3 - по материалам 46 выборок, распределения в которых были пересчитаны автором и откорректированы в соответствии с результатами теста Лавджоя (Широбоков 2019); 4 - в соответствии с данными официальной статистики за 1890-1994 гг. для 50 губерний Европейской России Интерпретации данных часто оказываются одним из наиболее уязвимых и спорных этапов в палеодемографических исследованиях. Для традиционного типа воспроизводства населения, который преобладал на территории России на протяжении всего периода Нового времени, характерны высокая младенческая смертность, относительно низкая продолжительность жизни и преобладание смертности от причин экзогенного характера. Историками часто подчеркиваются ограниченность доступа к медицинской помощи, проблемы акушерства и неправильного ухода за детьми, неблагополучность санитарных и экономических условий жизни, характерные для большинства российских губерний даже в конце XIX в. (Новосельский 1916; Рашин 1956; Демографическая история... 2017). Эти справедливые замечания успешно используются антропологами при описании половозрастных характеристик исследуемых скелетных серий, в том числе более ранних периодов. Но правдоподобное заключение не всегда является истинным. В некоторых работах исследователи прибегают к суммарным оценкам демографического благополучия населения, определяя характеристики скелетных серий как «благополучные», «относительно благополучные» «типичные», «неблагополучные» и «типично неблагополучные». Так поступал и автор, не задумываясь глубоко над содержанием характеристики. Поскольку речь идет о населении одной страны, культуры и эпохи, вполне допустимо задаться вопросом, какие же именно палеодемографические параметры позволяют отличить благополучную популяцию от неблагополучной? Сравнение характеристик выборок, сгруппированных в категории «благополучные» и «неблагополучные» в соответствии с интерпретацией авторов, показывает, что между ними нет ни одного различия, которое можно было бы признать статистически значимым с учетом пороговых требований поправки на численность. Если же подойти к результатам теста более мягко, то обнаружится, что различия заключаются в том, что в «благополучных» группах сравнительно невелика доля индивидов в возрасте от 20 до 29 лет, (17 и 24% соответственно, p = 0,034). Индивиды старше 50 лет, напротив, составляют в таких выборках в среднем более высокий процент (23 и 13%, p = 0,034). На первый взгляд, эти различия кажутся вполне логичными - чем выше процент людей, доживающих до старости, тем более обоснованным выглядит предположение о благоприятных условиях жизни популяции. К сожалению, при таком подходе совершенно не учитывается фактор естественного прироста. В растущей популяции доля молодых людей будет повышаться, а процент стариков, напротив, сокращаться как в структуре живого населения, так и в распределении умерших. Игнорируя эту тенденцию, мы вынуждены будем признать выборку из активно развивающегося нового поселения ярким примером влияния неблагоприятных демографических факторов, а выборку из кладбища, расположенного при вымирающей деревне, население которой преимущественно состоит из одних стариков, образцом благополучия и процветания. То же замечание справедливо по отношению к оценке детской смертности. Анализ публикаций показал, что процент детей (в возрасте до 14 лет включительно), свидетельствующий, с точки зрения исследователей, о высокой детской смертности, в среднем в два раза выше, чем при противоположной оценке (42,7 и 21,4% соответственно, p = 0,0052). Однако эти цифры не отражают уровень смертности ни напрямую (процент детей всегда занижен), ни даже косвенно, поскольку в действительности изменение уровня смертности почти не влияет на кривую возрастного распределения, в отличие от колебаний уровня рождаемости (McCaa 1998; Sattenspiel, Harpending 1983). Бессознательно многими исследователями возрастное распределение в палеодемографии воспринимается как отражающее изменчивость вероятности смерти в конкретных возрастных группах, а сами доли возрастных групп оцениваются как независимые признаки. Отсюда возникают правдоподобные, но абсолютно некорректные заключения, например: «Процент детской смертности в данной выборке меньше, чем в выборке №1 и составляет 16,1%. Но при этом 56% детей умирало именно в первый год жизни или сразу после рождения. Это указывает на низкий уровень медицины, а может быть, и особую экономическую и военную обстановку в городе во время формирования кладбища.» (Боруцкая, Васильев 2016: 110). В действительности даже в скелетной серии идеальной сохранности, включающей останки всех умерших, процент детей в возрасте до года сам по себе ничего не говорит о том, какой процент детей в популяции умирал в течение первого года. Для такой оценки требуются сведения о возрастной структуре живого населения и темпах прироста. Кроме того, именно низкий, а не высокий процент младенцев, рассчитанный от общего числа детей, с более вескими основаниями может рассматриваться как свидетельствующий о неблагоприятных условиях жизни. Высокая доля младенцев в выборке скорее всего будет отражать высокий уровень рождаемости, тогда как высокий процент детей других возрастов (при условии репрезентативности выборки) не может объясняться никакими факторами, кроме как высокой смертностью экзогенного характера. Четверть века назад В.Н. Федосова писала, что в России «большая часть специалистов прерогативу палеодемографии видит в успешном определении среднего возраста смерти для каждого отдельно взятого могильника и, как правило, не более того». (Федосова 1994: 67). К сожалению, ситуация с тех пор не претерпела изменений к лучшему. Различия в половозрастном распределении умерших на территории Сибири и в Европейской России Средние значения основных палеодемографических параметров в сибирских и европейских выборках разных периодов приведены в табл. 1. Т а б л и ц а 1 Хронологическая изменчивость некоторых половозрастных характеристик выборок из раскопок 64 кладбищ XVII-XIX вв. Европейской России и Сибири Период (число выборок) 41 ■ 0 d + 5 d1/ съ - 5 d1 + 5 d1/ 9/ 2 - 0 2 d + 5 d1/ съ 3 - 0 3 d + 5 d1/ съ 4 - 0 d4 + 5 1d/ /+ 0 5 d + 0 § - 5 d PSR(m) PSR(f) AA15+ AAm AAf Европейская часть России 1 пол. XVII в. (31) 29,7 6,7 21,1 28,0 22,9 21,2 17,3 57,1 42,9 37,8 39,5 36,4 2 пол. XVII в. (32) 32,0 7,1 22,2 27,5 23,0 20,3 17,6 55,6 44,4 37,5 39,1 36,4 1 пол. XVH в. (33) 37,0 6,3 21,0 30,7 24,2 17,8 22,6 54,0 46,0 37,3 39,0 36,0 2 пол. XVIII в. (31) 28,8 5,9 20,2 29,5 25,1 19,3 12,3 54,2 45,8 37,5 39,8 36,2 1 пол. XIX в. (7) 26,4 4,0 19,8 26,3 25,1 24,9 9,2 52,4 47,6 40,0 41,2 37,8 2 пол. XIX в. (10) 20,5 7,9 21,0 21,6 22,0 27,5 12,1 56,0 44,0 38,5 40,2 37,7 XVII-XIX вв. (47) 30,4 7,0 20,5 26,2 23,9 22,5 19,1 57,6 42,4 37,7 39,3 36,0 Урал и Сибирь 1 пол. XVII в. (9) 46,6 10,8 24,7 25,5 20,0 19,0 24,4 60,1 39,9 35,2 37,1 33,5 2 пол. XVII в. (11) 42,5 10,7 25,1 26,3 20,6 17,4 25,1 57,2 42,8 35,6 37,4 33,8 1 пол. XVIII в. (9) 52,2 8,7 25,2 29,5 22,0 14,6 32,0 53,8 46,2 36,3 38,6 34,6 2 пол. XVIII в. (13) 55,9 7,6 22,9 29,3 21,2 19,0 25,9 54,0 46,0 37,2 39,0 36,4 1 пол. XIX в. (7) 51,0 6,4 25,1 33,2 21,8 13,6 13,3 54,3 45,7 35,8 37,5 34,5 2 пол. XIX в. (4) 47,7 9,3 24,9 25,1 20,2 20,5 21,3 50,6 49,4 36,1 38,7 34,6 XVII-XIX вв. (17) 51,1 9,3 21,4 27,6 21,3 20,5 24,4 55,3 44,7 36,6 38,5 35,3 Характеристики выборок без учета территориальной принадлежности Первопоселенцы 44,7 9,6 21,8 28,6 21,9 16,1 28,3 56,0 44,0 35,2 37,6 34,3 Старожилы 31,5 7,1 21,4 28,0 24,9 23,0 17,6 58,0 42,0 37,1 38,3 36,0 Примечания. PSR(m) - доля мужчин среди индивидов с установленным полом; PSR(f) -доля женщин среди индивидов с установленным полом; АА15+ - средний возраст погребенных старше 15 лет; ААт - средний возраст мужчин старше 15 лет; ААf - средний возраст женщин старше 15 лет; d0-14 - процент детей (до 15 лет) от общего числа погребенных; d15-19/d15+ - доля индивидов 15-19 лет относительно числа индивидов старше 15 лет; d20-29/d15+ - доля индивидов 20-29 лет относительно числа индивидов старше 15 лет; d30-39/d15+ - доля индивидов 30-39 лет относительно числа индивидов старше 15 лет; d40-49/d15+ - доля индивидов 40-49 лет относительно числа индивидов старше 15 лет; d50+/d15+ - доля индивидов старше 50 лет относительно числа индивидов старше 15 лет; d5-14/d20+ - доля индивидов 5-14 лет относительно числа индивидов старше 20 лет (индекс ювенильности); «первопоселенцы» - выборки, датировки которых хотя бы отчасти совпадают со временем основания соответствующих им поселений; «старожилы» - все остальные выборки. Наиболее заметное отличие серий с территорий, расположенных к востоку от Урала, заключается в высокой доле детей, составляющих в среднем половину от числа всех учтенных погребенных. Изменчивость признака между выборками объясняется различиями в сохранности скелетных останков и, вероятно, особенностями погребального обряда. Однако выявленные суммарные различия, скорее всего, не случайны. Это заключение подтверждают и результаты U-теста Манна-Уитни: процент детей в сибирских сериях в среднем в 1,7 раза выше, чем в европейских (30 и 51% при p = 0,000106 и а = 0,05/10 = 0,005). Такое направление различий соответствует ожидаемому в рамках гипотезы о преобладающем влиянии миграций на палеодемографическую характеристику сибиряков. Высокий процент детей в сочетании с тенденцией к пониженной доле индивидов 40-49 лет среди взрослых (p = 0,031, т.е. меньше порогового уровня с учетом поправки) в сибирских сериях может объясняться как разными темпами естественного прироста населения, так и сдвигом исходного состава мигрантов в сторону младших возрастных групп по сравнению с составом населения регионов-доноров. Справедливость гипотезы о существенной роли миграционного фактора подтверждают результаты сопоставления групп выборок, условно разделенных на «старожилов» и «первопоселенцев» без учета территориальной принадлежности. Различия имеют то же направление и сходную величину (средний процент детей среди погребенных составляет 29 и 49% соответственно при p = 0,000022). Может быть, такое распределение в действительности связано с региональными различиями, ведь большинство выборок «первопоселенцев» относится к территории Сибири? Результаты повторно проведенного анализа, ограниченного материалами европейской части России, позволяют отвергнуть это предположение. В Европейской России различия в средней доле детей среди умерших имеют то же самое направление и близкие значения (27 и 43%, p = 0,0094 при а = 0,005, т.е. меньше порогового уровня, что не принципиально в рассматриваемом случае, поскольку проверяется гипотеза о направленных различиях, а не различиях вообще). Сравнение характеристик шести разных периодов показывает, что в каждом из них относительная доля детей выше в сибирских сериях. Процент индивидов финальной возрастной когорты, рассчитанный относительно числа индивидов старше 15 лет (т.е. независимо от числа детей), напротив, на всех этапах выше в европейской части. Как в Сибири, так и на европейской территории России доля стариков выше всего во второй половине XIX в. Можно предположить, что в данном случае общая тенденция объясняется не снижением темпов прироста, а некоторым улучшением санитарных условий и доступности медицинского обслуживания в конце XIX - начале XX столетия, поскольку та же самая особенность наблюдается в хронологической изменчивости признаков в монастырских выборках (которые не входят в основной состав сравниваемых группировок). В сибирских сериях раннего периода (XVII в.) относительная доля мужчин в среднем в полтора раза выше, чем доля женщин, но ко второй половине XIX в. соотношение полов становится примерно равным. На европейской части доля мужчин среди взрослых погребенных заметно выше на протяжении всех трех столетий (может быть, за исключением первой половины XIX в.). В целом соотношение мужчин и женщин показывает большее отклонение от равного на европейской территории, а не в Сибири, что кажется странным, если исходить из концепции миграционного фактора, поскольку мужчины, несомненно, среди переселенцев преобладали (Зверев 2014). Такая картина может иметь разные объяснения. Наиболее простое (и формальное) объяснение заключается в том, что эти различия случайны. Значимые различия между соотношением мужчин и женщин в сибирских и европейских выборках действительно отсутствуют. Но почему именно? По всей вероятности, потому что полученные результаты основаны почти исключительно на сериях из городских кладбищ (сельские группы представлены всего 13 выборками). Следовательно, выявленные различия между Сибирью и Европейской Россией могут отчасти объясняться более высоким уровнем урбанизации последней. Мужчины преобладали в составе переселенцев в Сибирь, но они также преобладали в числе наличного населения городов независимо от территории. Например, по результатам переписи 1897 г. соотношение мужчин и женщин в Западной Сибири было приблизительно равным (что согласуется и с палеодемографическими данными для второй половины XIX в.), причем в городах доля мужчин была выше, чем женщин, а в селениях - наоборот (Демографическая история... 2017: 25). Та же тенденция характерна для поселений европейской части. Более того, мужская смертность во всех возрастных группах старше 25 лет в городах заметно выше, чем женская, тогда как в сельской местности различия между полами либо не выражены, либо имеют обратное направление (Новосельский 1916: 141-142). Проблема оценки темпов естественного прироста и средней (ожидаемой) продолжительности жизни в России в эпоху Нового времени Процент детей среди умерших положительно коррелирует с темпом естественного прироста населения (McFadden, Oxenham 2018). Если исходить из того, что величина искажения признака примерно одинакова для всех периодов, то формально следует признать, что на протяжении всего рассматриваемого времени темпы прироста населения были заметно выше в Сибири, чем в Европейской России. Данные церковной и административной статистики второй половины XVIII-XIX в. согласуются с этим предположением (Ивонин 2000). В рамках каждого из шести периодов средний возраст смерти взрослых индивидов (старше 15 лет), как мужчин, так и женщин, выше в Европейской России2. На территории Урала и Сибири наибольшее значение признака приходится на вторую половину XVIII в., на европейской - на первую половину XIX в. Если бы средние темпы прироста населения были равны нулю, то ожидаемая продолжительность жизни была бы равна среднему возрасту смерти. Однако в России Нового времени это очевидно не так. Для оценки ожидаемой продолжительности жизни необходимы данные о естественном приросте населения - разнице между числом родившихся и умерших за определенный период. С одной стороны, эта информация не может быть получена из половозрастных распределений скелетных серий3. С другой стороны, игнорирование фактора прироста, как правило, ведет к искажению оценки средней продолжительности жизни - чем выше скорость естественного прироста, тем выше реальная средняя продолжительность жизни по сравнению со средним возрастом смерти. Причем это отклонение будет проявляться в оценке продолжительности жизни как при рождении, так и при достижении 15- или 20-летнего возраста, часто используемой в палеодемографии. В табл. 2 представлены оценки ожидаемой продолжительности жизни при рождении, рассчитанные традиционным способом по стандартным таблицам смертности, а также по значениям индекса ювенильно-сти при разных темпах естественного прироста (в соответствии с формулой из: Bocquet-Appel, Masset 1996). Т а б л и ц а 2 Модельная ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России эпохи Нового времени по палеодемографическим данным при разных темпах естественного прироста Европейская часть e0 при r = 0,00* e0 при r = 0,00 e0 при r = 0,005 e0 при r = 0,01 1 пол. XVII в. 28,3 27,1 30,8 34,5 2 пол. XVII в. 27,4 26,8 30,4 34,1 1 пол. XVIII в. 26,1 22,4 25,9 29,5 2 пол. XVIII в. 28,9 33,4 37,3 41,3 1 пол. XIX в. 30,5 39,2 43,4 47,6 2 пол. XIX в. 31,9 33,8 37,7 41,7 XVII-XIX вв. 27,8 25,4 29,0 32,6 Урал и Сибирь e0 при r = 0,00 e0 при r = 0,00 e0 при r = 0,005 e0 при r = 0,01 1 пол. XVII в. 21,8 21,2 24,6 28,1 2 пол. XVII в. 20,6 20,8 24,2 27,7 1 пол. XVIII в. 18,6 16,9 20,2 23,6 2 пол. XVIII в. 18,5 20,2 23,6 27,1 1 пол. XIX в. 19,9 31,9 35,8 39,7 2 пол. XIX в. 22,3 23,5 27,0 30,6 XVII-XIX вв. 19,5 21,2 24,6 28,1 Примечания. e0 - ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; r - среднегодовой естественный прирост населения; * показатель рассчитан по таблицам смертности и равен среднему возрасту смерти, в остальных случаях для расчета e0 использованы регрессионные уравнения для индекса ювенильности в соответствии с: Bocquet-Appel, Masset 1996. Из полученных данных следует, что оценка средней продолжительности жизни при нулевых темпах прироста на 5-20 лет ниже оценки при r = 0,01 (т.е. среднегодовом приросте в 10%о). Из них также следует, что если принять тезис о том, что темпы прироста населения были примерно равными на протяжении XVII-XIX вв., то окажется, что первая половина XVIII в. являлась в демографическом отношении самой неблагополучной в российской истории Нового времени, а первая половина XIX в. - эпохой относительного благоденствия. Но так ли это? И почему часть оценок, особенно для поздних периодов, выглядит столь неправдоподобно высокой и изменчивой? В самом деле, оценки, полученные по таблицам смертности, могут показаться значительно более точными - по крайней мере в той части, которую можно сравнить с историческими источниками. По данным официальной статистики, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в XIX в. в России составляла 26-32 года (Рашин 1956: 205; Новосельский 1916: 67, 85, 130; Миронов 1990; и др.), что хорошо соответствует па-леодемографическим оценкам для стационарной модели. Второе достоинство этих оценок заключается в том, что в пределах каждого из двух больших регионов колебания средней продолжительности жизни между периодами незначительны, тогда как оценки, полученные по величине индекса ювенильности, даже для смежных периодов могут превышать 10 лет. Особенно подозрительно выглядит необычайно высокая продолжительность жизни, получаемая для первой половины XIX в. при любом темпе естественного прироста, отличающемся от нуля. Тем не менее совпадение оценок, опубликованных демографами, и оценок, полученных по таблицам смертности для скелетных серий, является случайным и объясняется довольно просто. В последнем случае ожидаемая продолжительность жизни рассчитывается с учетом относительной доли всех возрастных групп. Однако средний процент детей, особенно в первом пятилетнем интервале, несомненно, является заниженным. С другой стороны, применение традиционных методов приводит к систематическому занижению доли финальной возрастной когорты (старше 50 лет). В данном случае величины ошибок, искажающих доли обеих крайних возрастных групп, удачно наложились друг на друга, что и позволило получить правдоподобную оценку. Но это лишь удачное совпадение с данными статистики для европейской части XIX в. Для территории Сибири оценки средней продолжительности жизни, полученные по таблицам смертности, вероятнее всего, занижены. К сожалению, к настоящему времени не существует обобщающих работ по исторической демографии населения, проживавшего к востоку от Урала, содержащих необходимые данные. По расчетам Б.Н. Миронова, в 1897 г. средняя продолжительность жизни русских в Тобольской губернии составляла 29 лет. В. А. Зверев предположил, что в конце XIX в. средняя продолжительность жизни в Сибири была выше, чем в европейской части, и составляла 33-35 лет (цифры приводятся в соответствии с: Панишев 2009). Во всяком случае, вызывает большие сомнения, что средние различия в величине показателей между двумя регионами составляли целых 10 лет. Маловероятно, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в какой-либо из периодов Нового времени на европейской части России была заметно выше, чем в конце XIX в., в пореформенное время. Если предположить, что реальное значение признака колеблется вокруг оценки в 30 лет, то придется признать, что расчеты, основанные на индексе ювенильности, для периодов, начиная со второй половины XVIII в., неверны, даже при условии, что темпы прироста городского населения в целом отставали от темпов в сельской местности
Батиева Е.Ф. К антропологии населения Азовской крепости XVII-XVIII веков // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2015-2016 гг
Азов: Изд-во Азовского музея-заповедника, 2018. Вып. 30. C. 399-416
Бессер К., Баллод К. Смертность, возрастной состав и долговечность православного населения обоего пола в России за 1851-1890 годы. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1897
Брук С.И., Кабузан В.М. Динамика численности и расселения русского этноса (16781917 гг.) // Советская этнография. 1982. № 4. С. 9-25
Васильев С.В., Боруцкая С.Б. Палеоантропологическое исследование первопоселенцев г. Липецка (XVIII в.) // Актуальные вопросы антропологии. Минск: Беларуская навука, 2011. Вып. 6. С. 396-418
Васильев С.В., Боруцкая С.Б. Палеоантропологический анализ погребений из Кашинского Кремля (раскоп Воскресенский 1) // Вестник антропологии. 2013. № 3 (25). С. 107-120
Васильев С.В., Боруцкая С.Б. Комплексное палеоантропологическое исследование населения, оставившего средневековый могильник Исупово (Костромская область) // Беларускае Падзвшне: вопыт, методыка i вынт палявых i мiждысцыплшарных даследаванняу. Наваполацк: ПДУ, 2011. С. 5-13
Демографическая история Западной Сибири (конец XIX-XX вв.). Новосибирск, 2017
Зверев В.А. Люди детные: воспроизводство населения сибирской деревни в конце имперского периода. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014
Ивонин А.Р. Западносибирский город последней четверти XVIII - 60-х гг. XIX в. в системе региональных социально-экономических отношений: дис. ... д-ра ист. наук. Барнаул, 2000
Миронов Б.Н. Русский город в 1740-1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л.: Наука, 1990
Молодин В.И. Кресты-тельники Илимского острога. Новосибирск: ИНФОЛИО, 2007
Новосельский С.А. Смертность и продолжительность жизни в России. Петроград: Типография МВД, 1916
Панишев Е.А. Медицинское обслуживание и охрана здоровья населения Тобольской губернии во второй половине XIX - начале ХХ в. // Известия Алтайского государственного университета. 2009. № 4, т. 3. С. 161-164
Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913). М.: Государственное статистическое издательство, 1956
Рейс Е.С., Савенкова Т.М. Демографическая характеристика населения города Красноярска XVII - начала XX вв. (по материалам православных некрополей) // Преодоление времени и пространства: статьи по актуальным проблемам охранно-спасательных работ на памятниках археологии. Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2019
Сарафанов Д.Е. Смертность населения в Барнауле в XIX в. // Миграции и постмиграционные сообщества (Алтай - Казахстан, XIX-XX вв.). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. С. 182-212
Федосова В.Н. Развитие современной палеодемографии (методические проблемы) // Российская археология. 1994. № 1. С. 67-76
Широбоков И.Г. Возрастное распределение умерших в России XVII-XIX вв.: обманчивая палеодемография // Сибирские исторические исследования. 2019. № 4. С. 180-196.
Bocquet-Appel J.P., Masset C. Expectancy and false hope // American Journal of Physical Anthropology. 1996. Vol. 99. P. 571-583
DeWitte S.N. Demographic anthropology // American Journal of Physical Anthropology. 2018. Vol. 165. P. 893-903
Hoppa R.D. Paleodemography: Looking back and thinking ahead // Paleodemography: age distributions from skeletal samples. Cambridge, 2002. P. 9-28
McCaa R. Calibrating Paleodemography: The Uniformitarian Challenge Turned. 1998. URL: http://users.pop.umn.edu/~rmccaa/paleo98/index0.htm
McFadden C., Oxenham M.F. Rate of natural population increase as a paleodemographic measure of growth // Journal of Archaeological Science: Reports. 2018. Vol. 19. P. 352-356.
Milner G.R., Wood J.W., Boldsen J.L. Paleodemography: Problems, progress and potential // Biological Anthropology of the Human Skeleton. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ., 2018. P. 593-633
Sattenspiel L., Harpending H. Stable population and skeletal age // American Antiquity. 1983. Vol. 48, No. 3. P. 489-498
Ubelaker D.H., Longeway A. Skeletal age estimation of the living and the dead: the evolution of methodology // Age Estimation. 2019. P. 29-40
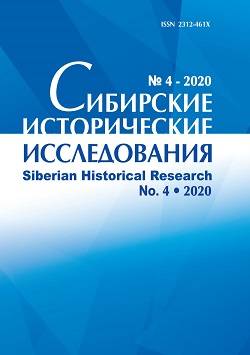

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью