«Белый царь» в русских письменных источниках XVI в.
Рассматриваются особенности употребления в России XVI в. неофициального титула русского государя «белый царь». Б.А. Успенским, В.В. Трепавловым и другими исследователями установлено, что, как правило, он употреблялся выходцами с Востока, а непосредственно в России - исключительно в XVIII-XIX вв. В литературе отмечались отдельные упоминания «белого царя» в более ранних источниках - в Повести о Флорентийском соборе Симеона Суздальца (ок. 1447-1448 гг.), Похвальном слове Василию III (ок. 15331534 гг.), а также в записках С. Герберштейна и Дж. Флетчера. Автор статьи привлек новый неизвестный источник, в котором фигурирует «белый царь», -запись рукописного Октоиха 1547/48 г. В работе показано, что, скорее всего, его происхождение не было связано с церковной и политической элитой. Делается вывод о том, что неофициальный титул «белый царь» проник в среду переписчиков книг, которые представляли достаточно многочисленные слои русского общества XVI в. - белое и черное духовенство, светских лиц невысокого статуса.
The 'White Tsar' in sixteenth century Russian written sources.pdf Введение Целый ряд источников Нового времени именует российского монарха официально непринятым, но, тем не менее, прочно укорененным в массовом сознании титулом - «белый царь». Хорошо известно, что так с XVI в. величали носителя верховной власти в России выходцы с Востока - тюрки и монголы. Об употреблении этого термина, воплотившего в себе идеал государя, непосредственно в России известно существенно меньше. Соответствующие русские источники, как правило, относятся к XVIII-XIX вв. (их обзор см. Трепавлов 2017). Это порой побуждает исследователей предполагать исключительно восточное происхождение понятия «белый царь». В связи с этим закономерен вопрос: насколько широко данный термин был распространен в России более раннего времени? В поисках ответа мы сосредоточим внимание на письменных источниках XVI в. и предпримем попытку определить социальную широту употребления данного понятия в этот период. Известные упоминания В литературе уже отмечалось, что применительно к интересующему нас столетию русского самодержца именовали «белым царем», как правило, представители мусульманских народов и лишь в дипломатических документах (например, в русско-ногайской переписке). В XVI в. «белым царем» в них чаще всего называли Ивана IV (Трепавлов 2017: 18-69). В русских письменных источниках XV-XVI вв. данный термин хотя и использовался, но относительно редко1. Самым ранним памятником, упоминающим великого князя московского как «белого царя», является Повесть о Флорентийском соборе Симеона Суздальца (Успенский 1996: 389). Она создавалась ок. 14471448 гг. лицом, близким к суздальскому епископу Авраамию (они оба принимали участие в работе знаменитого Собора)2. В «Повести» Василий II именуется «благоверным и христолюбивым и благочестивым истинным православным великим князем... белым царем всея Руси (здесь и далее выделено мною. - А.У.)» (Малинин 1901: Прил. 98). Б.А. Успенский с термином «белый царь» сопоставил упоминание в «Слове избранном. еже на латину» (ок. 1461-1462 гг.) «большего православия и высшего христианства Белой Руси» (Попов 1875: 364). По его мнению, «в обоих случаях речь идет о Московском государстве как оплоте истинной веры и источнике благочестия» (Успенский 1996: 389). Хотя, как уже отмечалось в литературе, непосредственная связь терминов «белый царь» и «Белая Русь» неочевидна (Герберштейн 2008б: 340), трудно не согласиться с тем, что речь идет об особых чертах правителя, воплощенных в данном термине. Согласно Б. А. Успенскому, в первую очередь это исключительная роль «белого царя» в деле защиты православия (Успенский 1996: 413). На это, в частности, указывает отмеченный ученым рассказ Конрада Буссова о том, что руководитель первого ополчения Прокопий Ляпунов стал именовать себя «белым царем», защищающим православную веру (Буссов 1961: 157). Любопытно, что со временем появления в русских источниках «белого царя» также связано нарастание числа упоминаний непосредственно царского титула. Ранее - до середины XV в. - применительно к русским князьям (например, к Борису и Глебу) он использовался, во-первых, крайне редко, во-вторых, исключительно для подчеркивания личных характеристик - прежде всего, благочестия - и с конкретным политическим статусом напрямую связан не был. «Политический» контекст был характерен для применения этого титула лишь по отношению к византийскому императору и хану Золотой Орды (Водов 2002а). Ситуация начала меняться в середине - второй половине XV в. когда данный титул в памятниках письменности стал употребляться чаще и постепенно приобрел вполне определенные политические коннотации. Они были связаны с утверждением нового статуса великого князя московского в период напряженной борьбы за независимость Русского государства от осколков Золотой Орды (Водов 2002б; Горский 2004: 302-304, 316-318, 321-322; Рудаков 2014: 167-171). Судя по всему, сходным образом обстояло дело и с интересующим нас эпитетом. В.В. Трепавлов, рассмотрев контексты употребления этого термина по отношению к великому князю московскому, заключил, что одним из значений понятия «белый царь» являлось «вольный» государь, т.е. независимый от какой-либо внешней власти, не платящий дань кому-либо (Трепавлов 2017: 47-51). В. В. Трепавлов указал на еще один источник, упоминающий «белого царя», - Похвальное слово Василию III (Трепавлов 2017: 42). Оно создавалось, по-видимому, вскоре после его кончины (т.е. ок. 15331534 гг.). В этом сочинении содержится следующий отрывок: «Ныне же нашими благочестивыми белыми руськыми цари - глаголю же славнаго великаго князя премудраго Ивана (III. - А.У.) Васи-лиевичя, иже в своя лета владычьствовавшаго божественным рачением попаляя противныя и непокоривыя истинне. От сего же славнаго Ивана родися нашь государь. Сей славный от славнаго же и благородный от благороднаго князь великы Василеи Ивановичь - рускый белый царь, самодръжець всея Русии» (Розов 1965: 281). В конце Похвального слова интересующий нас термин упоминается еще раз: «Сице имат Василие белый царь: своим благочестием огнь безбожиа погашает» (Розов 1965: 289). Как видим, данный эпитет адресован Ивану III и Василию III. Хотя в происхождении Похвального слова много неясного (в частности, неизвестно имя его автора), очевидно, что оно вышло из круга достаточно образованных книжников, знакомых с важнейшими памятниками древнерусской оригинальной и переводной литературы. Так, установлено, что в этом сочинении использовался перевод популярного на Западе и Востоке Европы «Поучения благого царства» Агапита, а также «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона3. Для Похвального слова характерен прославляющий Василия III тон, возможно, готовящий почву для его канонизации4. Это побуждает автора данного сочинения связывать не только с церковной, но и с политической элитой. Во всяком случае, известно, что примерно через два десятилетия после своего создания Похвальное слово, судя по малому числу сохранившихся списков, не самый распространенный памятник литературы во второй половине 50-х - начале 60-х гг. XVI в. был привлечен к составлению Степенной книги царского родословия (Дьяконов 1889: 105; Степенная книга... 2012: 386). Ее текст создавался по поручению митрополита Макария духовником Ивана IV благовещенским протопопом Андреем (впоследствии - митрополит Афанасий) при московском Чу-довом монастыре, вероятно, непосредственно для первого русского царя (Усачев 2009). Любопытно, что автор Степенной книги, заимствуя крупные фрагменты текста Похвального слова Василию III (Степенная книга... 2008: 286-287, 317-318, 321-322), интересующий нас термин не использовал. Это могло быть связано с тем, что в кругах, близких к митрополиту и государю, по каким-то причинам он не закрепился. Последнее хорошо согласуется с отсутствием эпитета «белый» в официальном титуле русского государя в рассматриваемый период. Возможно, это обусловливалось расширением семантического поля понятия «царь», вобравшего в себя те смыслы, которые ранее вкладывались в понятие «белый царь». Эпитет «белый» для книжников круга митрополита Макария был уже излишним. Термина «царь» для них было вполне достаточно для обозначения независимого государя, главной задачей которого являлась защита православия. Другие письменные памятники русского происхождения по XVI в. включительно, упоминающие «белого царя», неизвестны. Как видим, речь идет об ограниченном круге сочинений, происхождение которых было связано с близкими к церковной и политической элите писателями. Однако, судя по всему, этот термин был известен не только высокообразованным книжникам. Он вращался и в придворной, и, возможно, в приказной среде. На это косвенно указывают записки иностранцев5. Посетивший Россию в 1517 и 1526 гг. С. Герберштейн отметил, что «некоторые именуют государя московского Белым царем. Я старательно разузнавал о причине, почему он именуется Белым царем, ведь ни один из государей Московии ранее не именовался таким титулом. Я полагаю, что как (государь) персов называется ныне по причине красного головного убора "красная голова", так и те именуются белыми по причине белого головного убора» (Герберштейн 2008а: 97). Упоминание белого цвета в связи с династией русских государей, правда, с иной интерпретацией, мы находим в сочинении другого известного иностранного дипломата, посетившего Россию в 1588-1989 г., -Дж. Флетчера. Он отметил, что «царский дом в России имеет прозвание Белого. Название (как предполагают) происходит от королей Венгерских, и это, кажется, тем вероятнее, что короли Венгерские некогда действительно так назывались» (далее в источнике упомянуты венгерские короли с именем Бела) (Флетчер 1906: 19-20). Как видим, несмотря на разницу в объяснениях происхождения данного термина, в сочинениях С. Герберштейна и Дж. Флетчера указывается на то, что в России на протяжении всего XVI в. русского государя, по крайней мере «некоторые» (С. Герберштейн), именовали «белым царем», а всю династию - «белой» (Дж. Флетчер). Вполне естественно возникает вопрос: откуда эта информация могла поступить к этим авторам и, соответственно, где или насколько широко она была распространена? В полной мере ответить на данный вопрос трудно. Очевидно, что источники записок иностранцев могли быть весьма разнообразными, включая сведения из более ранних сочинений о России, рассказы купцов, русских эмигрантов, иностранных дипломатов, высокопоставленных чиновников Польско-Литовского государства и т.д.6 Также известно, что, по крайней мере, некоторые англичане во второй половине XVI в. поддерживали неофициальные контакты с представителями русской политической элиты. Например, о подобных контактах с главой Боярской думы кн. И.Ф. Мстиславским упоминает современник Дж. Флетчера Дж. Горсей (Солодкин 2006). Также очевидно, что иностранцы по понятным причинам тесно взаимодействовали со служащими Посольского приказа. Вероятнее всего, информация о «белом царе» могла поступить к иностранцам из придворной или приказной среды. Косвенно на факт бытования интересующего нас термина в среде служилых людей (что особенно интересно, провинциальных) указывает уже упомянутый выше случай с Прокопием Ляпуновым, в критический момент Смутного времени объявившим себя «белым царем». Читатель вправе спросить: упоминали ли «белого царя» в рассматриваемый период за пределами сравнительно узкого круга представителей церковной и политической элиты (как столичной, так и провинциальной) и служащих приказов? В литературе уже отмечалось, что «белым царем» русского государя именует целый ряд фольклорных источников. К их числу, в частности, относятся исторические песни XVI-XVIII вв.7 В них фигурирует ряд самодержцев, которых иногда именуют «белыми царями» (чаще всего данный эпитет адресовался Ивану IV и Петру I). Рассматривая эти источники, следует иметь в виду, что вне зависимости от времени возникновения записаны они были существенно позднее - в XVIII-XX вв. В них порой отражалась более поздняя терминология, которая могла и не использоваться в период их создания. Например, в исторических песнях, посвященных Ивану IV, фигурируют «пехотные полки», «корпуса», «канониры», «солдаты», «Питер» и прочие явно не характерные для соответствующей эпохи понятия (Исторические песни... 1960: 90, 92-93, 106 и др.). Это заставляет с осторожностью относиться к данному виду источников при определении ареала употребления интересующего нас эпитета в рассматриваемый период. Неизбежен вопрос: есть ли какие-либо письменные источники XVI в., которые указывают на бытование термина «белый царь» за пределами элиты? «Белый царь» в массовых источниках В ходе выявления русских рукописных книг, имеющих датированные выходные записи (нами учтено 734 таких манускрипта), мы обратили внимание на, казалось бы, мало чем примечательный манускрипт, содержащий список 1547/48 г. Октоиха. Он дошел в составе Нового собрания рукописной книги ОР РНБ (Ф. 905. № 816) (см.: Новые поступления 1998: 77; Усачев 2018б: № 342). Формат рукописи - 4° (20,1^14) - вполне обычен для списков Октоиха. Подобных манускриптов в российских архивохранилищах сохранились многие сотни. Необычна его выходная запись, выполненная полууставным почерком писца. Она помещена на л. 326 об. (фрагмент листа утрачен). Приведем текст источника полностью: «[С]ея писана книга при белом царе [и п]ри великом князе Иване Васильевиче всея Руси лета 7050 шестаго. А всех тех тотратеи две да [с]орок» (Усачев 2018б. № 342). Из 734 известных нам датированных выходных записей почти в половине, в 365, в той или иной форме упоминается государь, в период правления которого манускрипт был переписан (порой писцы также приводили имена митрополита и правящего архиерея). Однако его они именуют «великим князем», либо «царем и великим князем». Данная запись является единственной, в которой упоминается «белый царь». Рассматривая происхождение рукописи и, соответственно, определяя ту среду, в которой был зафиксирован интересующий нас термин, обратим внимание на ряд обстоятельств. 1. Рукопись дошла не в составе собрания, в основу которого была положена библиотека какого-либо крупного монастыря или собора (Троице-Сергиева, Иосифо-Волоколамского, Кирилло-Белозерского, Соловецкого, Чудова монастырей, Софийского, Успенского или Архангельского соборов), а поступила в государственное архивохранилище из частной коллекции сравнительно недавно (в 1989 г.). 2. С точки зрения техники исполнения и оформления рукопись трудно отнести к шедеврам книжного искусства, которые, как правило, создавались при крупных центрах. 3. Исходя из текста продажной записи 1615 г. на л. 326 об., можно полагать, что книга бытовала за пределами церковной и политической элиты. Ее владельцами, продавцами и покупателями спустя несколько десятилетий после создания выступали далекие от вершины церковной иерархии рядовые священники8. 4. Есть основания считать, что писец работал на заказ. На это косвенно указывает приписка о числе тетрадей кодекса, по сути, сообщавшая об объеме проделанной переписчиком работы. Вероятно, данное уточнение было сделано для обоснования цены перед заказчиком9. Большинство писцов, работавших на заказ, судя по всему, являлись светскими лицами сравнительно невысокого статуса и представителями белого духовенства (как правило, дьяки, дьяконы и дьячки) (Усачев 2018а: 249-304). Случаи выполнения соответствующих поручений иноками или монастырскими слугами за плату, за редчайшим исключением, нам неизвестны10. Как правило, они работали «по благословению» «своего» игумена (о финансовых условиях их работы нет сведений). В свете сказанного выше допустимо думать, что, скорее всего, манускрипт создавался за пределами крупного книгописного центра лицом, связь которого с церковной или политической элитой сомнительна. Рассматривая вопрос о происхождении данного термина в тексте колофона Октоиха 1547/48 г., конечно, следует иметь в виду, что в XVI в. «белым царем» русского государя именовали выходцы с Востока. Могла ли запись быть выполнена одним из них (например, перешедшим на русскую службу новокрещеном)? Известно, что в рассматриваемый период на русской службе находились тысячи татар различного статуса, которые в той или иной степени были знакомы с русским языком11. Отвечая на этот вопрос, зафиксируем, что степень глубины погружения в православную культуру (тем более книжную) подавляющего большинства находящихся на русской службе выходцев с мусульманского Востока (прежде всего татар) не стоит переоценивать. Судя по всему, даже немногие принявшие православие служилые иноземцы предпочитали демонстрировать лояльность русскому государю на военной или дипломатической службе, а не в культурной или бытовой сфере. С этим, в частности, было связано то, что вклады даже крещеных татар в русские монастыри крайне редки, а случаи их участия в русской книжной культуре в роли заказчиков и тем более писцов неизвестны (Усачев 2019а). В силу этого предполагать восточное происхождение термина «белый царь» в данной записи не приходится. Скорее всего, запись Октоиха 1547/48 г. была выполнена лицом -духовным или светским - сравнительно невысокого статуса за пределами какого-либо крупного книгописного центра. Речь может идти о сравнительно небольшом монастыре, более или менее значительном городе или сельской местности12. Несомненно одно: в источнике середины XVI в., происхождение которого, скорее всего, не было связано с церковной или политической элитой, употреблен термин, бытование которого ранее связывалось исключительно с ней, а также с рядом иностранных источников. Не позднее чем через столетие после первого известного нам упоминания в памятнике литературы (ок. 1447-1448 гг.) термин «белый царь» проник в среду переписчиков книг. Неизбежен вопрос: насколько широко этот термин распространился в рассматриваемый период? Учитывая то, что мы располагаем лишь одним упоминанием термина «белый царь» в писцовой записи, в полной мере ответить на него трудно. В то же время можно обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, на дату создания списка Октоиха 1547/48 г. Она близка ко времени венчания Ивана IV на царство (16 января 1547 г.). В ряде памятников древнерусской оригинальной и переводной литературы («Поучение благого царства» Агапита, Чин венчания, послания митрополита Макария Ивану IV и др.) этот титул связывался с характеристиками, которыми должен обладать его носитель (Дьяконов 1889: 91-132; Вальденберг 1916; Филюшкин 2006: 82-105). Главной среди них была верность православию. Она, как отмечалось выше, была характерна и для семантики понятия «белый царь». Очевидно, что после 16 января 1547 г. царский титул с различными эпитетами стал употребляться существенно чаще. Во-вторых, отметим, что на середину XVI в. в России, судя по всему, приходится интенсификация книгописных работ. Вероятно, это было связано с разрушительными для библиотек столицы последствиями Московского пожара лета 1547 г., которые, возможно, ускорили введение книгопечатания (Усачев 2017). На 50-е гг. приходится наибольшее число выявленных нами сохранившихся датированных книг XVI в. Если к этому десятилетию относится около 14,6% от их общего числа, то к 60-м гг. - около 9,7, к 70-м - около 4,6, к 80-м - около 7% (сопоставимыми с 50-ми гг. цифрами мы располагаем лишь применительно к 90-м гг. рассматриваемого столетия - около 14,5%) (Усачев 2019б: 181). Допустимо думать, что с этим и связано то, что Октоих 1547/48 г., в записи которого упомянут сравнительно редко употребляемый термин, относится именно к этому периоду. В 50-е гг. XVI в. книг было переписано и, соответственно, сохранилось существенно больше. Отсутствие известных нам манускриптов, относящихся к другим десятилетиям, с колофонами, упоминающими «белого царя», косвенно указывает на то, что этот термин писцами использовался нечасто. Заключение Есть серьезные основания утверждать, что ареал распространения неофициального титула русского государя - «белый царь» - подчеркивающего его независимый статус и особую роль в деле защиты православия, в письменных источниках рассматриваемого периода, по-видимому, был существенно шире, чем это представлялось ранее. Помимо иностранных (как правило, восточных) источников его использовали и в России, начиная, по крайней мере, с середины XV в. При этом речь шла не только о книжниках, связанных с церковной и политической элитой, авторах Повести о Флорентийском соборе и Похвального слова Василию III, но и о писцах, представлявших иные - более многочисленные социальные группы.
Ключевые слова
история России,
XVI в.,
массовое сознание,
«белый царь»,
записи на книгах,
книжная культураАвторы
| Усачев Андрей Сергеевич | Московский государственный институт международных отношений; Российский государственный гуманитарный университет | доктор исторических наук, профессор РАН; профессор | asuuas1@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Беляков А.В. Чингисиды в России XV-XVII веков. Просопографическое исследование. Рязань: Мiр, 2011
Буссов К. Московская хроника. 1584-1613. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961
Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти: очерки русской политической литературы от Владимира Святого и до конца XVII в. Пг.: Тип. А. Бенке, 1916
Водов В. Замечания о значении титула «царь» применительно к русским князьям в эпоху до середины XV в. // Из истории русской культуры. Т. 2, кн. 1: Киевская и Московская Русь. М.: Языки славянской культуры, 2002а. С. 506-542
Водов В. Титул «царь» в Северо-Восточной Руси в 1440-1460 гг. и древнерусская литературная традиция // Из истории русской культуры. Т. 2, кн. 1: Киевская и Московская Русь. М.: Языки славянской культуры, 2002б. С. 543-553
Герберштейн С. Записки о Московии: в 2 т. Т. 1 / под ред. А.Л. Хорошкевич. М.: Памятники исторической мысли, 2008а
Герберштейн С. Записки о Московии: в 2 т. Т. 2 / под ред. А.Л. Хорошкевич. М.: Памятники исторической мысли, 2008б
Горский А.А. Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М.: Языки славянской культуры, 2004
Дьяконов М.А. Власть московских государей: очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI в. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1889
Исторические песни XIII-XVI веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960
Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания (историколитературное исследование). Киев: Тип. Киево-Печерск. Успенск. лавры, 1901
Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (1989-1993): каталог. СПб.: РНБ, 1998
Попов А.Н. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI-XV в.). М.: Типография Т. Рисъ, 1875
Розов Н.Н. Похвальное слово великому князю Василию III // АЕ за 1964 год. М.: Наука, 1965. С. 278-289
Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII XV в. М.: Квадрига, 2014
Самойлова Т.Е. Новооткрытый «портрет» Василия III и идея святости государя и государева рода // Искусствознание. 1991. № 1. С. 39-58
Селин А.А. Татары-мусульмане и новокрещены в Новгородской земле: формирование и функционирование малой социальной группы (конец XVI - начало XVII в.) // Quaestio Rossica. 2016. Т. 4, № 3. С. 93-110
Солодкин Я.Г. Тайна «хроник» боярина И.Ф. Мстиславского (К истории частного летописания в России XVI в.) // ТОДРЛ. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 945-949.
Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. М.: Языки славянских культур, 2008. Т. 2
Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. Т. 3: Комментарий / сост. Г. Д. Ленхофф. М.: Языки славянских культур, 2012
Трепавлов В. В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV-XVIII вв. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2017
Усачев А. С. Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2009
Усачев А. С. О возможных причинах начала книгопечатания в России: предварительные замечания // Canadian-American Slavic Studies. 2017. Vol. 51, № 2-3. P. 229-247
Усачев А. С. Книгописание в России XVI века: по материалам датированных выходных записей. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2018а. Т. 1
Усачев А. С. Книгописание в России XVI века: по материалам датированных выходных записей. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2018б. Т. 2
Усачев А.С. Состав заказчиков рукописных книг XVI в. и проблемы формирования русской военно-служилой элиты // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019а. № 3 (77). С. 70-89
Усачев А. С. Книгописание и проблемы социально-экономического развития в России XVI в. // Российская история. 2019б. № 6. С. 180-201
Успенский Б.А. Дуалистический характер русской средневековой культуры (на материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина) // Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 381-432
Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006
Флетчер Дж. О государстве русском. СПб.: Издание А.С. Суворина, 1906
Черепнин Л.В. К вопросу о русских источниках по истории Флорентийской унии // Средние века. М.: Изд-во АН СССР, 1964. Вып. 25. С. 176-187
Martin J. Tatars in the Muscovite Army during the Livonian War // The Military and Society in Russia, 1450-1917. Leiden: Brill, 2002. P. 365-387
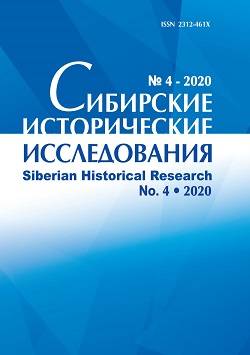

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью