Этнография этнографа: Андрей Григорьевич Данилин и его архивы
Настоящая статья посвящена жизни и деятельности советского этнографа Андрея Григорьевича Данилина (1896-1942). На основании документов из сохранившегося личного архива, а также частей «официального» архива, разбросанных по разным институциям, авторы ставят своей целью реконструировать его интеллектуальную, личную и полевую биографии. Второй целью исследования является реконструкция «архивного пространства» этнографа, а именно, как через отношения с разными людьми, бюрократическими инстанциями и порой вещами складывался его архив. Документальное многоголосье, а также персональная связь с главным героем (второй автор статьи - дочь этнографа) позволяет нам рассматривать наш эксперимент как историческую этнографию, которая содержит в себе некоторые элементы «включенного наблюдения». Соединение этих двух измерений мы предлагаем называть этнографией этнографа.
Ethnography of an ethnographer': Andrei G. Danilin and his archives.pdf Пропуск Дмитрий Арзютов: Однажды я просматривал фотографии, выложенные в виртуальном сообществе «Город, которого нет» социальной сети «ВКонтакте». Каждый день в этом сообществе, посвященном истории Петербурга, появляются десятки новых фотографий старого города. Среди них я случайно обнаружил отсканированный пропуск в столовую Академии наук на имя А.Г. Данилина (рис. 1). Сочетание «Академия наук» и «Данилин А.Г.» почти не оставляло у меня сомнения, что передо мной копия документа, принадлежащего Андрею Григорьевичу Данилину - известному этнографу-алтаисту и автору книги «Бурханизм» - единственного монографического описания религиозной ревитализации на Алтае первой трети XX в. Открыв страницу модератора группы, я тут же написал ему сообщение с вопросом о том, кто прислал этот документ? Не прошло и нескольких часов, как раздался зуммер - модератор любезно ответила, что эта фотография была добавлена Лидией Андреевной Данилиной. Лидия Андреевна -«это, должно быть, дочь Андрея Григорьевича!», - проскочило у меня в голове. Так и вышло. Как позже выяснилось, она выкладывала отсканированные копии документов из своего архива на «Яндекс. Фотки», а уже оттуда они «перекочевывали» на другие виртуальные площадки. Я тут же написал письмо Лидии Андреевне и спустя буквально несколько недель был уже у неё в гостях - она в тот год ненадолго приехала в Санкт-Петербург навестить родных. Лидия Андреевна не только рассказала мне о судьбе её отца, но и любезно поделилась теми материалами, которые сохранились у неё дома. После этого была не всегда регулярная, но долгая переписка, которая и привела нас к идее опубликовать совместную статью. Рис. 1. Пропуск Андрея Григорьевича Данилина в закрытую столовую АН СССР. 1930-е гг. (личный архив ЛАД)1 Лидия Данилина: Я смотрела на архив отца как на уникальный источник того времени, которое частично застала и сама. Отца я помню не очень хорошо. Но читая его дневники и письма сегодня, а их сохранилось огромное множество, я каждый раз словно пересматриваю долгий фильм, в котором сотни персонажей, одни из которых мне прекрасно знакомы, другие - знакомы только по рассказам родителей. Какое-то время назад я решила выкладывать сканированные копии фотографий и документов онлайн - ведь, многим было бы интересно увидеть ушедший мир 1920-1930-х. И вот однажды я получила письмо от Димы. Это было весьма неожиданно. Мы стали общаться сначала по переписке, а потом уже познакомились лично. Дима мне рассказывал о Данилине-этнографе, а я ему - об отце как человеке. Уже вскоре мы встретились, и между нами завязались дружеские отношения, которые частично реализовались в замысле по написанию этой статьи. До Димы с материалами отца немного работал Саша Решетов. Он брал некоторые дневники 1930-х, читал их, потом возвращал. Что-то из них, вероятно, попало в его статьи по истории советской этнографии. Работала с материалами и Лена Ревуненкова, которая совсем недавно опубликовала статью, где рассказала и о моей матери - Вильгельмине Герардовне Трисман (Ревуненкова 2018). До этого была книга на голландском, которую также на основании архива написала моя добрая знакомая Жанин Ягер (Jager 2012). Немного с личным архивом отца работала и Вера Дьяконова, которая в своей время помогала издавать его главную книгу - «Бурханизм» (Дьяконова 1993). Но, увы, о самом отце пока ничего не было издано. Столько осталось материалов, а его имя продолжает оставаться в тени... *** Настоящая статья - продукт нашей коллективной работы по собиранию воедино архива А.Г. Данилина (и частично Л.Э. Каруновской). Дмитрий Арзютов как полевой антрополог, работающий в Сибири и на Севере и историк антропологии, работающий в российских и зарубежных архивах, сделал обзор материалов и постарался их контекстуали-зировать. Лидия Данилина, много лет читавшая документы Данилина, рассказала о жизни Андрея Григорьевича и об истории его личного архива, а также тех документах, которые там хранятся. Оговоримся, что в статье дается минимальное количество ссылок на исследования, а основное внимание сосредоточено именно на архивных материалах. Мы рассматриваем нашу статью не только как своеобразный гид по разбросанным архивным коллекциям одного исследователя, но и как попытку написания этнографии одного этнографа через эти порой весьма запутанные сети документов. Эта работа о человеке, для которого «поле» и «архив» были едва ли не самыми важными понятиями во всей его интеллектуальной биографии. Андрей Григорьевич Данилин, его мысли, переживания, решения, действия, его семья и знакомые, а также жизнь того, что им было написано - дневники, письма, научные работы, - все это и составляет ткань нашего рассказа. Как мы покажем ниже, именно практики письма - личного дневника, в первую очередь, - были формирующими для личности Данилина. Папки его дневников - это не просто «свидетельства эпохи», а продукт и источник его субъектности (ср. Halfin 2003, 2011; Hellbeck 2006). Смещаясь из области социальной истории в область исторической антропологии, мы имеем возможность наблюдать и интерпретировать увиденное / прочитанное, пропуская это через свой опыт, через записи и воспоминания рассказов своих родственников (Л. Д.) и коллег (Д. А.), что в совокупности может в какой-то мере напоминать «включенное наблюдение» - ключевой метод полевой этнографии, но взятый в его возможном историческом измерении, а сам анализ - этнографию этнографа. Данная работа преимущественно написана на материалах личного архива А.Г. Данилина. Большинство материалов впервые вводятся в научный оборот. Линия жизни Андрей Григорьевич Данилин (1896-1942) родился в селе Красное Михайловского уезда Рязанской губернии в крестьянской многодетной семье. Отец Андрея Григорьевича - Григорий Васильевич - работал на железнодорожной станции, о матери - Анне Ионовне - почти ничего не известно. Судя по личным воспоминаниям, по разговорам с родственниками А.Г. Данилина, семья жила трудно. У Андрея были два брата (Иван и Петр) и три сестры (Клавдия, Елизавета и Пелагея). Двое из них сыграли довольно важную роль в жизни Андрея. Клавдия (или, как её называли в семье, Клавдя) стала этнографом, специалистом по дагестанской этнографии и проводила одну из экспедиций вместе с Андреем. Брат Иван стал крупным архитектором, начальником управления строительства Дворца Съездов - неосуществленного сталинского проекта. В 1951 г. он в числе других архитекторов был удостоен Сталинской премии 3-й степени «за разработку большепролётного шедового покрытия и способа его выведения». Несмотря на довольно трудные условия, крестьянский дом Данилиных был полон книг, и чтение было важным для всех братьев и сестер. Жизненный путь Андрея Григорьевича, как и многих его ровесников, пролегал довольно извилисто. После школы он окончил Учительскую семинарию, где особенно увлекся внешкольным образованием. Позже поступил в Училище торгового флота в Ростове-на-Дону. Прослужив два года в каботажном плавании на Черном море, простился с морской специальностью в Одессе в 1917 г., где он познакомился с культурой большого города - театры, музыка, лекции - и интересными людьми и их революционными настроениями (рис. 2). Живя в этом пространстве, у Андрея появилось желание продолжить образование, и Москва казалась одним из тех мест, где можно было реализовать свою мечту. Эта мечта превращалась в явь немного необычно - через экспедиции. 1921-1922 гг. он вместе с друзьями проводит в авантюрной экспедиции в Туркестане, которая имела, главным образом, этнографический интерес. Этнографические дневники той экспедиции А.Г. Данилина сохранились в архиве МАЭ почти полностью (тетради № 3-8 по нумерации автора) (АМАЭ РАН. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 38, 39, 41, 43-46). Рис. 2. Андрей Григорьевич Данилин. 1918 г. В своём дневнике (7 июля 1921 г.) он упоминает о разговоре с С.Ф. Ольденбургом2 и интересуется экспедицией Козлова: «С.Ф. говорит, что П. Козлов3 - в Москве. - «А как его экспедиция? Да едва ли, не дадут возможности выехать за границу. Да еще всё в периоде организации. И я живо представил себе нашу организацию экспедиции. Ну, у него наверное есть деньги». Здесь нужно сделать небольшое уточнение, что осенью 1921 г. С.Ф. Ольденбург полностью меняет стратегию экспедиционных работ в Советской России. Если во второй половине XIX - начале XX в. Русское географическое общество курировало все виды экспедиционных исследований на территории Российской империи и за её пределами, то в октябре 1921 г. С.Ф. Ольденбург создает специальную структуру -Комиссия по экспедиционным исследованиям, которая переподчиняет всю экспедиционную деятельность набирающей властный ресурс «империи знания» Академии наук (см. подробнее: Андреев, Юсупова 2001: 54; Arzyutov and Kan 2017: 53-54). Немного позже Ольденбург будет продвигать даже идею «Бюро этнографических экспедиций РСФСР», что было своеобразной альтернативой Специальной комиссии по изучению союзных и автономных республик, которая возникла в 1926 г. и возглавлялась академиком А.Е. Ферсманом4. А.Г. Данилин со своей коллегой и первой женой Лидией Эдуардовной Каруновской позже будут публиковать небольшие отчетные материалы по экспедиции в Ой-ротии на страницах официального вестника этой комиссии - «Осведомительного бюллетеня». Хранящиеся в семье личные дневники дают некоторую информацию относительно жизни А.Г. Данилина в это время. 7 июля 1921 г. Андрей Григорьевич пишет об огромном желании присутствовать на Третьем конгрессе Коммунистического интернационала, который проходил в Москве 22 июня - 12 июля 1921 г., вспоминает, как он был в Екатеринбурге, затем - был корреспондентом РОСТА (Российское телеграфное агентство). Письма к родным и близким довольно прямо говорят, что положение его семьи оставалось тяжелым. Из письма его брата Ивана (30 июня 1921 г.), который уже жил в Москве и был погружен в дискуссии о конструктивизме в архитектуре, становится ясно, что другого брата - Петра забирают в Красную Армию, Андрей и Иван - вдалеке от родных, а отец оставался единственным мужчиной в деревенском доме. Из письма Петра (14 июля 1921): «А дома на зиму совсем помирать будут. Хлеба у нас скоро совсем не будет, а рассчитывать и надеется не на что. Может, ты». Получив письмо, Андрей пишет в своём дневнике (21 июля 1921): «Получ[или] мы грустных вестей из дома. И сразу мысль, старая, давно уже решенная: хорошо ли, что бросил всех на голодную смерть? Это - заботит и теперь и нет сил говорить: я делаю правильно. Ведь, кто любит отца свое [нрзб.] меня» и т.д. и опять я остался с прежними сомнениями ...». Вернувшись в Москву, он все еще некоторое время оставался без работы. Но уже в 1922 г. ему удается поступить в Географический институт (жизнь института он описал в 1928 г.: СПФ АР АН. Ф. 135. Оп. 2. Ед. хр. 103). Обучение (1922-1926 гг., защита диплома в 1927 г.) и работа были на два города, что заставляло Андрея почти постоянно находиться в дороге. В 1923 г. умирает мама Андрея Григорьевича. Для семьи это был еще один удар. Сохранились письма этого времени к отцу, брату Ивану и сестрам - в них повторяются взаимные слова поддержки, которые были так необходимы всей семье в тот тяжелый период времени. В 1923-1924 гг. Данилин - сотрудник Центрального бюро краеведения, а 1925 г. ненадолго даже становится заведующим Музеем Центрально-промышленной области (ЦПО). В том же 1925 г. Андрей Григорьевич едет в экспедицию в родную Рязанскую губернию, вероятно, по направлению Музея ЦПО (Данилин 1926а, 19266). В этой экспедиции он изучает крестьянскую одежду (СПФ АРАН. Ф. 135. Оп. 2. Ед. хр. 104; МАЭ № И-1323), о чем спустя два года публикует небольшую статью (Данилин 1927б). Обучаясь в ЛГУ, Андрей знакомится с Лидией Эдуардовной Кару-новской (1893-1975, о ней см.: Решетов 1997), чьё обучение в университете уже шло к концу. Начало личных отношений привело к оседанию Андрея в Ленинграде после окончания университета в 1926 г. и свадьбе, сыгранной в том же году. По воспоминаниям, фотографиям и разного рода личным документам можно сказать, что личная жизнь Лидии и Андрея (1926-1934 гг.) была счастливой, а сам союз невероятно гармоничным, хотя и относительно недолгим - около десяти лет совместной жизни. Оба они были влюблены друг в друга и разделяли одни интересы к музыке, театру и, конечно же, этнографии. Примеру брата последовала и Клавдя, которая поступает также на географический факультет, где специализируется по этнографии и лингвистике Кавказа, активно занимаясь у Н.Я. Марра. В 1926 г. Андрей и Клавдя Данилины вместе с молодой женой Андрея Лидией Ка-руновской отправляются в Дагестан (Данилин 1926в; ср.: Данилин 1931б)5, где Клавдя изучает положение женщин (см. продолжение её исследования в Грузии (Аджария): Данилина 1932). Для Андрея это была единственная этнографическая поездка на Кавказ, а для Клавди -начало профессиональной, но, увы, недолгой карьеры кавказоведа. В.П. Дьяконова также отмечает, что в 1926 г. «в составе Крымской экспедиции он (Данилин. - Авт.) проводил комплексное изучение крымских болгар, входил в авторский коллектив ГИИМК им. Н.Я. Марра по изданию этнографического альбома Западной Украины и Западной Белоруссии» (Дьяконова 1993: 5). Среди основных университетских наставников Данилина были Д. К. Зеленин6 и В. Г. Богораз. В личном архиве А. Г. Данилина сохранились некоторые конспекты лекций Богораза, которые не могут не создать у читателя своеобразное чувство присутствия в момент рождения во многом экспериментальной этнографии. Это может напомнить яркие фрагменты о лекциях Богораза и Штернберга, приведенные Н.И. Гаген-Торн в её знаменитой книге (1975). В летние месяцы 1927-1929 гг. Данилин вместе с Лидией Карунов-ской начали полевую работу на Алтае / Ойротии в рамках Ойротской комплексной экспедиции АН СССР (см.: отчетные материалы (СПФ АРАН. Ф. 135. Оп. 2. Ед. хр. 101) и дневники за 1927-1929 гг.) (АМАЭ РАН. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 2; СПФ АРАН. Ф. 135. Оп. 2. Ед. хр. 102) (описание фотографий и вещей, привезенных из экспедиции, см. ниже) (см.: Данилин 1930б) (рис. 3, 8), а зимой 1927-1929 гг. он работал заместителем секретаря Комиссии по изучению народной музыки Географического общества (см.: Данилин 1928а). Эта работа в области музыковедения была не случайной, так как сам Андрей Григорьевич очень хорошо играл на скрипке и активно собирал музыкальный фольклор во всех своих экспедициях (рис. 4-6). Рис. 3. По дороге в первую алтайскую экспедицию. В окне поезда - Лидия Эдуардовна (в косынке). 1927 г. Рис. 4. Запись песен на фонограф. Улус Индигеш, [26 августа] 1928 г. (см. список ниже и ср. ФА ИРЛ 4703.01-03, один из детей, возможно, Егор Серкин) Рис. 6. Запись песен на фонограф у телеутов. 1928 г. Говоря о музыкальной биографии Данилина, нужно сказать, что в его личном архиве сохранилась афиша отчетного концерта самодеятельного симфонического оркестра Выборгского дома культуры, датированная 22 апреля 1937 г. Андрей Григорьевич входил в состав оркестра (ср. рис. 7). В семье и сейчас помнят, что Данилин был увлеченным поклонником классической музыки, а также заядлым театралом. Более того, разбирая его фоновалики в Пушкинском доме, один из авторов статьи обнаружил запись, где Андрей Григорьевич декламирует стихотворение В.В. Маяковского «Иду. Мясницкая. Ночь глуха.» (ФА ИРЛИ 4704.01). Видимо, все это и позволило Данилину проявить себя в том числе как музыкальному этнографу. Позже он опубликовал небольшую заметку о музыкальной этнографии алтайцев (Данилин 1936в, см. также: Данилин 1927а, 1928а). Все это удавалось в перерывах между экспедициями и написанием отчетов. Так, вернувшись из первой своей алтайской поездки 1927 г., уже 10 мая 1928 г. он делает доклад «Материалы по бурханизму у алтайцев и телеут, собранные летом 1927 г.» на Радловском кружке МАЭ - официальный семинар МАЭ, посвященный преимущественно тюркской и турецкой этнографии. В конце 1920-х Данилин проводит в «поле» больше времени, чем дома. V V1 Рис. 7. Андрей Данилин играет на скрипке среди телеутов улуса Крутой. 1929 г. В 1928 г., не успев вернуться с Алтая, А.Г. Данилин тут же отправляется к вепсам Ленинградской области (некоторые материалы этой экспедиции сохранились в СПФ АР АН. Ф. 849. Оп. 4. Ед. хр. 80, 827 (фотографии)). В тот же год он публикует обзорную статью о сноповой сушке хлеба у славян (Данилин 1928б). В 1929 г. Данилин и Карунов-ская посещают телеутов и алтайцев и привозят от них как коллекции вещей, так и фотографии. О судьбе одной коллекции мы расскажем подробнее ниже. Краткие отчеты об экспедициях к алтайцам и телеутам Данилин и Каруновская публикуют в «Осведомительном Бюллетене ОКИСАР АН», который сегодня является библиографической редкостью (см. следующие выпуски бюллетеня: 1927, № 17, 19; 1928, № 1/38, 15/52, 16/53, 17/54, 18/59; 1929. № 14/75, 17/78) (об этом издании см.: Arzyutov and Kan 2017: 54). Рис. 8. Андрей Данилин и Лидия Каруновская. 28 июля 1929 г. Алтай. Жизнь Данилина в этот послеуниверситетский период поражает сходством с нашим временем. Андрей долгое время оставался без постоянной работы, перебиваясь разного рода краткосрочными контрактами. Это фрагмент одного из многочисленных писем в разные инстанции с целью найти работу по профессии (датировано 10 октября 1929 г. и направлено в Союз научных работников): «Скоро пройдет три года как я окончил Этнографическое отделение геофака ЛГУ [...] за это время я неоднократно обращался к руководителям ленинградских этнографических учреждений с просьбой дать мне оплачиваемую работу по специальности. Но ответом со стороны руководителей этих учреждений был совет подождать. Временную же работу я выполнял: участвовал в научных командировках и экспедициях, работал «сдельно» в Русском музее и КИПС'е и т. п. В качестве постоянного заработка имею в среднем 30 рублей за руководство экскурсиями в этнографические музеи». Ответ был через четыре месяца (13 февраля 1930 г.): «Ваше ходатайство о предоставлении работы в Академии наук отклонено ввиду отсутствия соответствующих вакансий». Несмотря на отсутствие работы, Данилин продолжает писать. Он обрабатывает алтайские полевые материалы и пишет сразу несколько статей. Это - статья «Одежда алтайцев» (1930 г.) (черновик: АРЭМ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 108), которую несколькими годами позднее он перепишет и расширит, изменив название на «Одежда алтайцев и телеут» (АМАЭ РАН. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 20), а также «Обработка кожи у телеут» (1929-1939) (АМАЭ РАН. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 19) и «Жилище алтайцев и телеут» (1927-1929) (АМАЭ РАН. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 1). В период с 1930 по 1932 г. Андрей Григорьевич Данилин работает научным сотрудником Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК) (см. его заметку: СПФ АРАН. Ф. 135. Оп. 2. Ед. хр. 105; см. также: Данилин 1930), а в 1931-1933 гг. - научным сотрудником Института по изучению народов СССР (ИПИН), который позже войдет в состав Института этнографии. В 1930 г. он совершает экспедицию в Боровичский округ Ленинградской области в рамках так называемых «колхозных экспедиций», т.е. полевого этнографического и экономического исследования только что появившихся колхозов (см. материалы: СПФ АРАН. Ф. 135. Оп. 2. Ед. хр. 106, 107; СПФ АРАН. Ф. 135. Оп. 1. Ед. хр. 228). По итогам этой поездки Данилин пишет статью «Первые шаги колхозов бывшего Бо-ровичевского округа» (Данилин 1931а, 1931 в). Как пишет Станислав Петряшин, подобные поездки были подчинены экспозиционной работе для отражения типичных / средних районов, позволяющих отразить «советскую современность» (2018). На это также указывает и тот факт, что в это время А. Г. Данилин публикует обзоры об экспозиционной и научной деятельности музеев на Северном Кавказе и в Тульской области (Данилин 1931б, 1931г, 1932б). В 1933 г. Андрей Григорьевич на очень непродолжительный период времени переходит на работу в МАЭ на должность заведующего по-литпросветотделом, но уже в ноябре 1933 г. становится сотрудником (по договору) Этнографического отдела Государственного Русского музея, который вскоре был переименован в Государственный музей этнографии (ГМЭ, ныне - Российский этнографический музей). В этот же год он участвует в работе Всесоюзного географического съезда (1119 апреля 1933 г.), о чем пишет обзор для «Советской этнографии» (Данилин 1933). Однако, в это же время начинается разрыв отношений с Лидией Эдуардовной Каруновской... В Ленинград через Коминтерн приезжает индийский революционер и этнограф Вирендранат (Бирендранатх) Чатопадая (Чаттопадхьяя) (Virendranath Chattopadhyaya, Ь(.5|Т№Н), или как его называ ли друзья в России, - Вирен, или Чатто, который в 1933 г. получает работу в Институте этнографии - МАЭ (АВ ИВР РАН. Ф.138. Оп. 1. Ед. хр. 48; см. о нем: Baruwa 2004; Решетов 1998). Лидия Эдуардовна увлеклась новым сотрудником, что стало сильнейшим потрясением и для нее самой. Личные документы говорят о всех перипетиях и непростых решениях, которые необходимо было принять. В итоге было решено сохранить дружеские отношения. Несмотря на все сложности личной жизни, в это время у Андрея Григорьевича начинает складываться карьера в ГМЭ. В январе-мае 1934 г. он состоял сверхштатным научным сотрудником по выставке «Ленинградская область и Карелия», в 1935 г. становится младшим научным сотрудником с обязанностями курирования научного архива, а в 1936 г. он -старший научный сотрудник отдела Украины, где он собирает материалы для выставки о Бессарабии и Буковине (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 804), и заведующий научным архивом. Ему - 40 лет (см. рис. 9). В это время Андрей встречает свою будущую жену - Вильгельмину Трисман (Wilhelmina Triesman), голландку, которая эмигрировала в революционную Россию в 1925 г. Вильгельмина, или, как её называли близкие Вилли, по приезде в постреволюционный Петроград не могла найти работу и вынуждена была вначале трудиться галошницей на фабрике «Красный треугольник», чтобы хоть как-то прокормить себя и сына Михаила, рожденного в её первом браке с русским моряком Тимофеем Рязанцевым. Уже вскоре, пройдя обучение на рабфаке, ей удаётся поступить в Восточный институт, где преподавал Чатопадая. Именно благодаря этому знакомству сложился четырехугольник друзей, а впоследствии двух пар - Андрей и Вилли, Лидия и Вирен (о Три-сман см.: Jager 2012; Ревуненкова 2018). В это время Андрей Григорьевич становится секретарем редакцион-но-издательского бюро ГМЭ - в музее, в котором он проработал до самой своей смерти в 1942 г. (личное дело А.Г. Данилина: АРЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Ед. хр. 43). Дневник этого времени содержит немало этнографических записей жизни Ленинграда. Рис. 9. Андрей Данилин в квартире Лидии Каруновской на Невском проспекте. 1938 г. 2 апреля 1937 г.: Интересную картину наблюдали мы. Идем (Вилли, Минна [подруга семьи. - Авт.] и я) - видим нечто необычное. У одного магазина - «живая очередь» в неск[олько] параллельных рядов, в у дверей - просто куча. Все стремятся к двери. Теснота - невозможно представить себе! И над всеми - белый дым! Мы думали, что это пожар (серьезно!) в магазине. Оказалось же: это пар от разгоряченных любителей велосипедов (ибо очередь была к магазину спортивных принадлежн [остей]). Первый ряд, стоящий у стены магазина, взобрался на перила витража и стоял над толпой. Нужно было видеть их лица! Усталые, бледные или красные, льется пот. Крики: «тов. милиционер помогите!». Эти картины выживания перемежаются письмами из «поля». Так, буквально через шесть дней Данилин получает письмо (8 апреля 1937) от своего старого алтайского знакомого Сергея Максимова, в котором среди описаний арестов в Ойротии (как представляется, он не осознавал масштаба и причин, лишь уточняя, что кого-то выявили «троцкистом») пишет и о своём сыне Клименте, который хочет пойти учиться в художественную школу. Среди прочего он добавляет и одну просьбу от себя: «Ан[дрей] гр[игорьевич] я тебя пошлю 250 р. а вы вседаки кувите мне велосипеда и пошлете мне здес нет не ките кувить» (сохранены стиль и орфография оригинала, курсив наш. - Авт.) Увы, мы не знаем, удалось ли Данилину штурмовать человеческие стены перед ленинградскими магазинами, чтобы добыть велосипед. Дневник об этом не говорит. Но мы знаем, что Данилин и Трисман распахнули двери их дома для Климента, который жил у них довольно долгое время, а позже смог поступить в художественное училище в Павловске, сохранив тесные дружеские связи с семьей этнографов. В это время Андрей Данилин почти все своё свободное время находится за рабочим столом, заканчивая «Бурханизм». Первоначально задуманная как кандидатская диссертация, она должна была увидеть свет и как отдельная монография. В силу разных обстоятельств, о которых мы скажем отдельно ниже, издание книги произойдет только через 50 лет после защиты диссертации в 1940 г. в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена. Уже летом 1937 г. происходит то, что мы почувствовали при чтении дневника за несколько предыдущих лет. 19 июля 1937 г.: «Был в Музее [ГМЭ. - Авт.], вызывают зачем-то. Прихожу - вот так новости! Арестованы Супинский и Таланов! Делами заправляет Шара-дутдинова [?]. Летом оказывается была резкая статья, написанная кем-то из райкомовцев, и вот результаты. Поговорил об издательских планах - куда тут Сборник (в 30 листов!). Это явно нереально. Архив научный в моё отсутствие опечатали, теперь будем в комиссии пересматривать все содержание». Следующий день - 20 июля 1937 г.: «Была Лида. Удручающая новость: Вирен арестован. Мы пошли гулять, и маленькая Лидушка хоть немного смягчала горе Лиды. Мы же что могли сказать? Мы с Лидией одинаково трезво взвешиваем возможные причины такого политического] шага правительства по отношению к индусу-эмигранту, более 30 лет не видевшему родных. Но Вилли - переживает «от сердца», и это делает честь её свежести [?], непосредственности». Другие фрагменты дневника говорят, что он до конца не мог понять, что происходит вокруг. Впрочем, история ареста Вирена, точнее его конфликта с И.Н. Винниковым, Д.К. Зелениным и другими коллегами в МАЭ / ИЭА, была ему хотя бы косвенно понятна. Уже после ареста Вирена была собрана комиссия при ИЭА, о которой Данилин записывает в дневнике следующее (25 июля 1937 г.): «Спрашивали всех поодиночке, знакомились с материалами. Лида с радостью ждала оргвыводов. Она, кажется убедительно доказала, что тут дело не в «склоке», а гораздо глубже, в борьбе небольшой части советски-настроенных ученых с реакционными] осколками маторинщи-ны (Винн[иков], Вишнев[ский] и др. Вирен показал документы, изобличающие (впрочем, давно всем известные) отриц[ательные] черты Вин-никова (плагиат, отношение к наследию Моргана, и ученому Стэрну8 из Америки). Он также показал нам (вскользь) одно место из обширного документа, направляемого им в секретном порядке в комиссию (тоже о Винникове)». «Маторинщина». Характерное словообразование эпохи. Одно из первых звеньев в этой страшной цепи взаимных подозрений и доносов, культивировавшихся в МАЭ / ИЭА. Двумя годами ранее, когда в январе 1935 г. арестовали Н.М. Маторина (Решетов 2003) - бывшего директора Института этнографии, Данилин задавался скрытым между строк вопросом: «а если мы и правда чего-то не знали?»... Отвечать на этот вопрос Андрей, впрочем, не решался. Возникал какой-то вакуум. Еще до ареста Вирена в феврале 1937 г. Лидия Каруновская, осознавая невыносимость своего и Вирена положения в МАЭ / ИЭА, вызванного доносами, подозрительностью и т. д., пишет заявление в НКВД, «что у них в Ин[ститу]те резкое искривление политич[еской линии?], описав все безобразия». Ответ доносом на донос, вероятно, казался действенным средством, выводящим, однако, сам конфликт в несколько иную плоскость. Лидия обсуждает это с Андреем, о чем он пишет в дневнике (29 февраля 1937 г.): «Я сначала пробовал отговаривать Лиду от участия в «склоках» музейных, но потом, когда она решительно заявила, что не желает терпеть, равнодушно или трусливо прятаться от злоупотреблений, а хочет бороться, чего бы ей это не стоило, я увидел, что действительно она права. Вирен говорит, что он давно бы ушел из ИАЭ, но не хочет оставить Лиду одну, на съедение. Ибо, действительно, она теперь совершенно одинока в Ин[ститу]те, все против нее. И я думаю с тоской: ужасно, никому верить нельзя, нужно уметь у всех видеть подлинное нутро. Увы, я не могу этого, не способен». Продолжение методичной фиксации событий вокруг себя, вероятно, как-то успокаивало А.Г. Данилина. Вот лишь фрагмент такой автоэтнографии с обращением к своему читателю в будущем - дочери Лидии, соавтору настоящей статьи: «11 авг[уста] 1937. С утра очередь. Удача: 1 кг риса, 2 кг сахара (очередь относит [ельно] небольшая, встал второй раз - и получил) и 2 десятка яиц. Так обеспечены будем на неделю, если же поеду в Валдай... придется еще раза два постоять. Ничего, погода хорошая. А как интересно наблюдать быт очереди! Все занимают одновременно две-три очереди и бегают от магазина «мясного» к «сахарному», оттуда к «яичному», наведаться, не забыли ли их соседи по очереди. Когда есть уверенность что товару много и всем хватит - настроение у всех веселое, много оживления. А если мало - тут и пойдут ссоры, склоки, до рукопашной. Лидушка9, когда ей придется 20 лет спустя, читать это, будет удивляться и сравнивать свой быт с бытом родителей. Да, история на наших глазах, и бытовые черточки не теряют своего значения». В мае 1941 г. он должен был бы отправиться в экспедицию в Украину (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 839), но в июне Андрей Григорьевич будет в Ленинграде, который его семья сумела покинуть в первые дни блокады. Собирая архивы и коллекции вместе Незадолго до смерти в первую блокадную зиму, будучи уже совсем слабым, Андрей Григорьевич на санках перевез свой архив (сотни тетрадей своих дневников, коллекции фотографий и десятки папок научных работ) в квартиру Лидии Эдуардовны, своей первой супруги. Хранить дневники в своей квартире ему казалось довольно опасным, тем более, что в соседний с Данилиными дом на Серпуховской улице попала бомба. Вильгельмина Герардовна с детьми Владимиром и Лидией уехали в эвакуацию (рис. 10). Её сын от первого брака Михаил был мобилизован и в 43-м ранен под Ленинградом, проведя последующие месяцы вплоть до конца войны в госпитале. Квартира Каруновской казалась более безопасной... Как и многие другие коллеги Андрея Григорьевича, он переехал жить в музей, что было официальным решением руководства и вместе с этим немного облегчало страдания и лишения. Лидия Эдуардовна в это время жила по другую сторону Невы, в подвале другого музея - Музея антропологии и этнографии. Видя, как Андрея покидают силы, она готовила ему «супчик» (как она писала в своих письмах) и носила через мост из МАЭ в ГМЭ. Спасти Андрея было невозможно. Не слишком крепкий здоровьем и прежде, он угасал буквально на глазах и 12 февраля 1942 г. скончался от дистрофии (или колита: Груздева 2013: 39) на работе в ГМЭ. Лидия Эдуардовна была рядом с ним до конца. Из письма Евгении Эдуардовны Бломквист Надежде Павловне Гринковой (13 февраля 1942 г.): «Вторая партия [эвакуации] намечена между 15 и 18, по-видимому, будет массовый выезд, только не все дождутся. Так, Лидия Эдуардовна, упорно не хотевшая эвакуироваться, решила ехать, чтобы спасти Данилина, она помогала ему последнее время, подкармливала его, но не удалось дотянуть; он все время был бодр и жизнерадостен, как всегда, я часто видела его в нашем бомбоубежище, но дня 3-4 [назад?] он слёг, Лидия Эдуардовна с трудом довела его до вашего Музея, последнюю ночь она была с ним, и вчера ночью (на 12-е) он умер на её руках там, в бомбоубежище том» (Груздева 2013: 35). Вскоре Л.Э. Каруновская смога эвакуироваться в Ташкент вместе с другими коллегами. Рис. 10. Последняя фотография А.Г. Данилина с семьей. 30 июня 1941 г. На обороте надпись: «Вся семья вместе и душа на месте» Ленинград, - 30 hmhj, IJtyh В личном архиве семьи Данилиных-Трисман сохранилось письмо Л.Э. Каруновской из Ташкента к В.Г. Трисман от 25 февраля 1943 г., т.е. через год с небольшим после смерти А.Г. Данилина. Она пишет: «Милая Вилли, [...] Относительно твоих дипломов - я уже писала, что целую пачку разных бумаг я забрала в Институт (этнографии. - Авт.), вместе с дневниками Андрея - в стенах Академии наук их сохранность все же более надежная, какие именно из бумаг там, я тебе сказать не могу, потому что не помню. Когда я переправляла [нрзб.] книги в Акад[емию] наук я сама уже была настолько слаба, что еле держалась на ногах, а разбор и переправка книг Андрея оказали на меня очень тяжелое действие - я еще больше обессилила. Когда я после болезни, через месяц после смерти Андрея, явилась с ключом от него в квартиру вашу и с управхозом вошла, впечатление было такое, что это не жилое помещение - на полу и кроватях разные тряпки, чужая кровать. Дрова соседей и т.д.». Вероятнее всего, что именно Л.Э. Каруновская была первым человеком, кто приводил архив Андрея Григорьевича в порядок. Надо сказать, что педантичный к хранению собственных документов, Данилин держал свои записи и дневники в идеальном порядке. Его страсть к архивированию и классификации очень хорошо видны при работе с его личными дневниками. Их, как и этнографические дневники, А.Г. Данилин рассортировал сам (АМАЭ РАН. Ф. 15). Как следует из письма Каруновской к Трисман и рассказов Каруновской Лидии Андреевне Данилиной, она накануне своей эвакуации перевезла все документы из квартиры в МАЭ. В то время, когда стал формироваться архивный фонд МАЭ, Илья Яковлевич Треногов, отвечавший за курирование архивных документов по разным отделам в 1962 г., составляет список архивных материалов А.Г. Данилина (Жуковская: АМАЭ РАН. Ф. 15, предисловие к описи). Вероятно, что в этом разборе документов принимали участие Л.Э. Ка-руновская и В.Г. Трисман. В середине 1960-х гг. Лидия Эдуардовна передает личные документы и тетради А.Г. Данилина его дочери, которые и сейчас хранятся у неё в Санкт-Петербурге и частично в Амстердаме. За эти годы архивом Данилина в МАЭ пользовались исследователи, но опубликована была лишь его незначительная часть. Это, прежде всего, сокращенный вариант книги «Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения в Ойротии», вышедшее с предисловием Веры Павловны Дьяконовой - этнографа-алтаиста и близкой коллеги Л.П. Потапова (Данилин 1993). Помимо этого, алтайские коллеги публиковали несколько бурханистских текстов, записанных Данилиным в «поле» (Екеев 2004). Такова самая общая история архивной коллекции A.Г. Данилина. Однако собрание МАЭ не исчерпывает всего корпуса документов Андрея Григорьевича. Обратимся к другим частям архива. Личный архив. Он сохранился благодаря Л.Э. Каруновской и B.Г. Трисман. Это 177 папок с документами, которые представляют собой тетради, в которых записаны события прошедших дней, листы которых зачастую переложены письмами, вырезками из газет, афишами, билетами на концерты и т. д. В силу того, что все папки были пронумерованы (вероятнее всего, самим Андреем Григорьевичем), мы могли заметить, что в этой коллекции отсутствует несколько папок: с 4-й по 8-ю. Будем надеяться, что они будут однажды обнаружены. Следующим крупным собранием следует считать коллекции архива, фотоархива и вещевое собрание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН - это, прежде всего, материалы полевых исследований и некоторые черновики статей. В собрании этого же музея имеется большая коллекция фотографий и негативов исследователя, а также материальных предметов, привезенных из экспедиций. Ниже мы приводим краткий указатель фотоколлекций Данилина и Каруновской. Номер коллекции Народ Год поступления Место10 Количество изображений Краткое описание МАЭ № И-1324 Крымские татары 1923 Крым 21 (негативы) Жилище, одежда, занятия МАЭ № И-132311 Русские 1925 Рязанская область 12 (негативы) Постройки, рыболовство, лесорубы МАЭ № И-1322 Аварцы 1926 Республика Дагестан 6 (фотографии) Одежда, жилище, домашние работы МАЭ № И-4120 Телеуты 1927 Республика Алтай 99 (негативы) Жилище, поселения, хозяйство, бурха-низм, занятия МАЭ № И-4121 Алтайцы 1927 Республика Алтай 70 (негативы) Жилище, поселения, хозяйство, бурха-низм, занятия МАЭ № И-4122 Алтайцы 1927 Республика Алтай 24 (негативы) Жилище, бур-ханизм МАЭ № И-4123 Телеуты 1928 Кемеровская область 10 (негативы) Строения, портреты Жилище, по- МАЭ № И-4124 Алтайцы 1928 Республика Алтай 83 (негативы) селения, хозяйство, портреты, шаманизм, занятия МАЭ № И-4125 Телеуты 1929 Алтайский край 29 (негативы) Жилище, поселение, хозяйство, ритуалы Жилище, поселения, хо- МАЭ № И-4126 Алтайцы 1929 Республика Алтай 162 (негативы) зяйство, портреты, бурха-низм, шаманизм, занятия МАЭ № И-4127 Русские и цыгане 1929 Республика Алтай 37 (негативы) Портреты, хозяйство, занятия Часть коллекций, привезенных с Алтая, была зарегистрирована Л.Э. Каруновской. Однако в силу того, что они проводили полевые исследования вместе, эти коллекции следует также учесть в нашей статье. Это - коллекции МАЭ № 4053 (привоз 1927-1928 гг.; 20 негативов) и МАЭ № 4054 (датирована 1931 г.; 11 фотографий). Всего же в собрании МАЭ сохранилось 584 фотографии и негатива. Эта цифра может показаться не столь уж значительной сегодня, однако нужно помнить, что речь идет о стеклянных негативах, изготовление и перевозка которых были делом весьма непростым. Примечательно в этом списке и то, что фото
Ключевые слова
советская этнография,
Андрей Данилин,
Алтай,
бурханизм,
архивАвторы
| Арзютов Дмитрий Владимирович | Королевский технологический институт ; Абердинский университет ; Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН | кандидат исторических наук, соискатель ученой степени PhD в Отделе истории науки, технологии и окружающей среды; почетный научный сотрудник кафедры антропологии; научный сотрудник | arzyutov@kth.se |
| Данилина Лидия Андреевна | Амстердам (Нидерланды) | дочь этнографа Андрея Григорьевича Данилина | |
Всего: 2
Ссылки
«...твои письма - документ незабываемого времени.» Из эпистолярного наследия Е.Э. Бломквист. 1942-1945 / подг. текста, предисл., комм. Е.Н. Груздевой. СПб.: Реноме, 2013
Андреев А.И., Юсупова Т.И. История одного не совсем обычного путешествия: Монголо-Тибетская экспедиция П. К. Козлова 1923-1926 гг. // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. № 2. С. 51-74
Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествий по Алтаю в 1910-1912 гг. по поручению Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии // Сборник МАЭ. Л., 1924. Т. 4, вып. 2
Батьянова Е.П. Алтайская этнография в письмах // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2020. № 1 (42). С. 99-111
Батьянова Е.П. Телеутская версия бурханизма // Этнографическое обозрение. 2005. № 4. С. 70-85
Бурханизм - Ак jam1: документы и материалы: (к 110-летию событий в долине Теренг) / отв. ред. Н.В. Екеев. Горно-Алтайск: Юч-Сюмер - Белуха, 2004
Василевич Г.М. Автобиографии эвенков // Советская этнография. 1938. № 1. С. 73-75
Гаген-Торн Н.И. Лев Яковлевич Штернберг. М.: Наука, 1975
Головко Е.В., Швайтцер П. Эскимосские «попы» поселка Наукан: об одном случае revitalization movement на Чукотке // Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. С. 102-115
Данилин А.Г. Государственный Музей Центральной Промышленной области и его этнографическая работа // Этнография. 1926а. № 1-2. С. 271-272
Данилин А.Г. Общество исследователей Рязанского края // Этнография. 1926б. № 1-2. С. 290
Д[анили]н А. Музыкально-этнографическая работа в Дагестане // Этнография. 1926в. № 1-2. С. 306-307
Д[анили]н А. Государственный институт музыкальных наук (ГИМН) // Этнография. 1927а. № 1. С. 212
Данилин А.Г. Крестьянская одежда района Богословщины Рязанской губернии // Труды общества исследователей Рязанского края. Рязань, 1927б. Вып. 9. С. 19-22
Д[анили]н А. Комиссия по изучению народной музыки при Русском географическом обществе // Этнография. 1928а. № 1. С. 130-131
Данилин А.Г. Приспособление для сноповой сушки хлеба у восточных славян и их соседей // Этнография. 1928б. № 2. С. 68-90
[Данилин А.Г.] Из опыта ленинградских этнографов (разряд этнографии ГАИМК после реорганизации) // Этнография. 1930а. № 4. С. 81-85
Данилин А.Г. Черты кочевого быта алтайцев (из впечатлений этнографической поездки на Алтай) // Безбожник. 1930б. № 11. С. 10-11
Данилин А.Г. Группа по изучению опыта колхоза ИПИН // Советская этнография. 1931а. № 1-2. С. 161-162
Д[анили]н А. Краевой музей горных народов Северно-Кавказского края // Советская этнография. 1931б. № 3-4. С. 219-222
Данилин А.Г. Первые шаги колхозов бывш[его] Боровичского округа // Труд и быт в колхозах: из опыта изучения колхозов. Сб. 1: Из опыта изучения колхозов в Ленинградской области, Белоруссии и Украине. Л.: АН СССР, 1931в. С. 9-71
Данилин А.Г. Тульский Краеведческий музей и его этнографическая работа // Советская этнография. 1931. № 3-4. С. 216-217
Данилин А.Г. Бурханизм на Алтае и его контрреволюционная роль // Советская этнография. 1932а. № 1. С. 63-91
Данилин А. Этнографическая работа Брянского музея // Советская этнография. 1932б. № 5-6. С. 213-216
Данилин А.Г. Секция этнографии Всесоюзного Географического съезда // Советская этнография. 1933. № 2. С. 113-117
Данилин А.Г. Два письма Н.Я. Марра // Советская этнография. 1936а. № 4-5. С. 219-222
Данилин А.Г. Из истории национально-освободительного движения на Алтае в 1916 г. // Борьба классов. 1936б. № 9. С. 36-44
Данилин А.Г. Опыт работы с национальной ойротской песней // Советская музыка. 1936в. № 12. С. 49-52
Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1993
Данилина К. Изучение труда и быта аджарок // Советская этнография. 1932. № 5-6. С. 228-231
Доронин Д.Ю. Что опять не так с «алтайской принцессой»? Новые факты из ньюслор-ной биографии Ак Кадын // Сибирские исторические исследования. 2016. № 1. С. 74-104. DOI: 10.17223/2312461X/11/7
Дьяконова В.П. Предисловие // Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1993. С. 5-14
Князев Г.А. Дни великих испытаний: дневники, 1941-1945. СПб.: Наука, 2009
Петряшин С. С. Соцреализм и этнография: изучение и репрезентация советской современности в этнографическом музее 1930-х гг. // Антропологический форум. 2018. № 39. С. 143-175. DOI: 10.31250/1815-8870-2018-14-39-143-175
Потапов Л.П. Очерк истории Ойротии. Алтайцы в период русской колонизации. Новосибирск: ОГИЗ, 1933
Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Историко-этнографи-ческий очерк. Л.: Наука, 1969
Ревуненкова Е.В. ...Судьбы скрещенья (из жизни исследователей и собирателей индонезийских коллекций) // Музейные коллекции и современная культура народов Индонезии, Малайзии, Филиппин, Океании / Сборник МАЭ Т. ЬХУ. СПб.: МАЭ РАН, 2018. С. 171-204
Решетов А.М. «Работала не награды ради». Памяти Л.Э. Каруновской // Этнография, история, культура стран Южных морей: Маклаевские чтения 1995-1997 гг. СПб., 1997. С. 233-244
Решетов А.М. В.А. Чатопадая: индийский революционер и советский этнограф: к 60-летию со дня гибели // Кюнеровские чтения 1995-1997 гг.: краткое содержание докладов. СПб.: МАЭ РАН, 1998. С. 148-151
Решетов А.М. Трагедия личности: Николай Михайлович Маторин // Репрессированные этнографы. Вып. 2 / сост. Д. Д. Тумаркин. М.: Восточная литература, 2003. С. 147-192.
Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск: Наука, 1992
Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев: Центрально-азиатские влияния. Новосибирск: Наука, 1984
Стебницкий С.Н. Автобиография нымыланов // Советская этнография. 1938. № 1. С. 76-79
Тадина Н.А. Бурханизм и этикет у алтайцев // Этнографическое обозрение. 2011. № 6. С. 127-140
Тадыев П.Е. Реакционная сущность шаманизма и бурханизма. Горно-Алтайск: Книжное издательство, 1955
Тан [Богораз] В.Г. Новый этап // Революция в деревне. Очерки / под ред. В.Г. Тан-Богораз. М.; Л.: Государственное издательство, 1925. Вып. 2. С. 3-24
Тюхтенева С.П. «Японский след» в алтайском бурханизме: вымысел или реальность? // Этнографическое обозрение. 2005. № 4. С. 65-69
Функ Д.А. Рецензия на: А.Г. Данилин. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Горно-Алтайск, 1993. 206 с. // Этнографическое обозрение. 1995. № 4. С. 171-173
Функ Д.А. О методике описания техники плетения из кожи // Расы и народы. М.: Наука, 2007. Вып. 33. С. 260-276
Хохолков В. Сокровищница духовной культуры алтайцев (о научном наследии А.В. Анохина) // Фольклорное наследие Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1989. С. 116-124
Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск: Томский государственный университет, 2010
Arzyutov D. V. Voices of the Land, Samizdat, and Visionary Politics: On the Social Life of Altai Narratives. // Anthropology & Archeology of Eurasia. 2018. Vol. 57 (1). P. 38-81. DOI: 10.1080/10611959.2018.1470426
Arzyutov D. V., Kan S.A. The Concept of the 'Field' in Early Soviet Ethnography: A Northern Perspective // Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian Studies. 2017. Vol. 16 (1). P. 31-74. DOI: 10.3167/sib.2017.160103
Baruwa N.K. Chatto, the Life and Times of an Indian Anti-Imperialist in Europe. Oxford University Press, 2004
Broz L. The Spirit of Explanation: invisible causes of visible disasters in the Altai Republic. PhD Thesis. Cambridge: University of Cambridge, 2008
Burch E.S., Jr. The Method of Ethnographic Reconstruction // Alaska Journal of Anthropology. 2010. Vol. 8 (2). P. 133-140
Fenton W.N. The Training of Historical Ethnologists in America // American Anthropologist. 1952. Vol. 54 (3). P. 328-39
Fitzpatrick S. Supplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s // Slavic Review. 1996. Vol. 55 (1). P. 78-105. DOI: 10.2307/2500979
Halfin I. Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2003
Halfin I. Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik Self. Seattle: University of Washington Press, 2011
Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2006
Jager J. Wilhelmina Triesman (1901-1982). Een Nederlandse in Leningrad. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, 2012
Kan S., Arzyutov D. The saga of the L.H. Morgan Archive, or how an American Marxist helped make a bourgeois anthropologist the cornerstone of Soviet ethnography // Local Knowledge, Global Stage / ed. by R. Darnell, F.W. Gleach. Lincoln: University of Nebraska Press, 2016. P. 149-220. (Histories of Anthropology Annual. Vol. 10). DOI: 10.2307/j.ctt1dxg7dv.10
Kolarz W. The Peoples of the Soviet Far East. New York: Frederick A. Praeger, 1954. Krader L. A Nativistic Movement in Western Siberia // American Anthropologist. 1956. Vol. 58 (2). P. 282-92. DOI: 10.1525/aa.1956.58.2.02a00050
La Barre W. Materials for a History of Studies of Crisis Cults: A Bibliographic Essay // Current Anthropology. 1971. Vol. 12 (1). P. 3-44. DOI: 10.1086/201167
Pinsky A. The Diaristic Form and Subjectivity under Khrushchev // Slavic Review. 2014. Vol. 73 (4). P. 805-27. DOI: 10.5612/slavicreview.73.4.805
Smith A.D.S. Nationalism in the Twentieth Century. Canberra: Australian National University Press, 1979
Wallace A.F.C. Revitalization Movements // American Anthropologist. 1956. Vol. 58 (2). P. 264-81. DOI: 10.1525/aa.1956.58.2.02a00040
Znamenski A.A. Shamanism and Christianity: Native Encounters with Russian Orthodox Missions in Siberia and Alaska, 1820-1917. Westport, CT: Greenwood Press, 1999
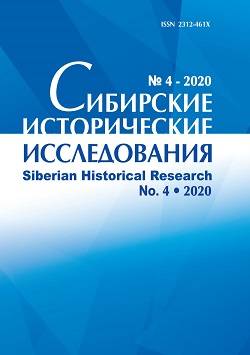

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью