Русская молодежь в современных реалиях нового российского зарубежья (случай Кыргызстана)
Russian youth in modern Kyrgyzstan.pdf Остапенко Л.В., Старченко Р.А., Субботина И.А. Русская молодежь Кыргызской Республики в ХХ1 веке. Стратегии адаптации. М.: ИЭА РАН, 2018. 300 с. ISBN 978-5-4211-0212-0 СТЛ^СМШ R Л_ C>GGdtviha И.Л. Русс КАЙ молодежь Кыргызской Республик» в XXI вене На протяжении почти 30 лет на территории центрально-азиатских республик бывшего СССР происходят трансформации политического, экономического и социокультурного характера. Не всегда эти изменения создают благоприятные условия для развития стран, что провоцирует, среди прочего, миграционный «отток». Несмотря на масштабные волны миграции на «историческую родину», в республиках все еще живут русские семьи. Как изменилась жизнь русского населения, ставшего меньшинством в государствах Центральной Азии, и каково жить русским в странах, которые активно вступили на путь независимости, -на эти и другие вопросы предпринимается попытка дать ответ в рецензируемой монографии на примере русского меньшинства в Кыргызской Республике. Среди русского населения Кыргызстана важную роль играет молодежь, которая в значительной мере определяет будущее русской диас- Научное исследование выполнено при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. поры в странах нового российского зарубежья (с. 6), по этой причине именно молодежь выбрана авторами в качестве объекта рассмотрения способов и степени адаптации русских к жизни в Кыргызстане. Монография основывается на результатах масштабного исследования, проведенного в 2014 г. сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН Л.В. Остапенко, Р.А. Старченко и И.А. Субботиной совместно с учеными Кыргызского государственного университета им. Ишеналы Арабаева в рамках международного проекта «Молодежь в системе межэтнического взаимодействия в полиэтничных средах». Основным инструментом сбора данных послужил этносоциологический опрос русской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет в Бишкеке и ряде городов. Другие города в работе не называются, хотя такого рода уточнения представляются важными, в том числе потому, что учет исторически сложившихся различий между южными и северными регионами республики и особенностей заселения русским населением этих территорий может позволить лучше понять происходящие здесь процессы. В этносоциологическом опросе приняли участие 100 человек. Национальная принадлежность опрошенных определялась в соответствии с самосознанием, т.е. опрос проводился среди молодых людей, которые считали себя русскими. Принципиально важно, что полученные в ходе этносоциологического опроса данные сравнивались с результатами аналогичного опроса 100 молодых кыргызов. Рецензируемая работа состоит из пяти разделов и приложения с таблицами, составленными по результатам проведенного опроса. Первый раздел служит введением к рассмотрению адаптационных стратегий русской молодежи. В этой части представлена динамика миграционных перемещений русских на протяжении почти 150 лет. Лейтмотивом настоящего раздела монографии служит этнодемографическая ситуация республики, складывающаяся со времен присоединения территории к Российской империи и изменившаяся на современном этапе. Тем самым первый раздел вводит читателя в курс дела относительно исторически обусловленного положения русского населения в Центрально-Азиатском регионе. Второй раздел выступает в качестве исторического очерка жизни русского населения в Советской Киргизии. Описание указанной «эпохи» основано, прежде всего, на данных всесоюзных переписей населения. В этой части обоснован выбор жителей Бишкека как участников опроса. В советский период Фрунзе (с 1991 г. - г. Бишкек) является крупным промышленным, экономическим центром Киргизской ССР, сосредотачивая в себе большинство этнических русских, которые работали в сфере производственного и непроизводственного труда. Авторы монографии рассуждают здесь об особенностях социально-экономического развития Кыргызстана и социальных позиций русских в республике. Было определено, что накануне суверенизации республики русские занимали четко очерченную профессионально-отраслевую нишу. Конкуренция между русскими и киргизами в социально продвинутые места в сферах управления, медицины, образования остро не прослеживалась, и русские продолжали занимать весомые позиции в индустрии, в том числе среди высококвалифицированных рабочих. Преобразования в независимой республике в политической, социально-экономической и культурно-языковой сферах, с одной стороны, резко ограничило возможности русских по трудоустройству и служебному продвижению, с другой - не дало особенно широко развернуться националистической политике ущемления прав и интересов русских в сфере труда и образования. В том числе не происходило массового увольнения русскоязычных работников из-за незнания государственного языка, прежде всего потому, что далеко не везде могла найтись адекватная замена русским кадрам (с. 42). Однако опрос русской молодежи показал, что сегодня в республике ее положение в экономическом плане ухудшилось, если сравнивать его с тем, какое было у их родителей. При этом удалось выявить, что русская молодежь не стремится занять высокие посты, а больше устремлена в предпринимательство и самозанятость. Основная тема, которой посвящен третий раздел, - положение и роль русского языка в Кыргызской Республике. Отмечу, что государственным языком в стране является кыргызский. В 2000 г. Парламентом Кыргызстана был принят Закон «Об официальном языке Кыргызской Республики», в котором русский язык был определен как официальный и тем самым получил защиту и гарантию на государственном уровне (с. 88). На сегодняшний день в школах ведется обучение и на русском, и на кыргызском языках. Русский язык является языком преподавания в большинстве вузов Кыргызстана (с. 90). Весьма интересным выводом авторов монографии в отношении языковой политики выступает то, что городская киргизская молодежь не утратила интереса к русскому языку и владеет им в той же степени, что и их родители. В связи с распространением русского языка в городах Кыргызстана, согласно опросу, русская молодежь не испытывает каких-либо трудностей в повседневной жизни. Однако широкое использование русского языка создает проблему в языковой ориентации русских. В силу экономических и социокультурных обстоятельств растет потребность в знании кыргызского языка, которым владеет малое количество опрошенных. Авторы признают, что принципиально важным является распространение двуязычия среди всех этнических сообществ в полиэтничном Кыргызстане. «Необходимо, в частности, чтобы не только представители титульного народа и местных этнических меньшинств знали русский язык, но и живущие там русские владели языком этнического большинства» (с. 100). Все же, как показывают материалы авторов книги, значительная часть русской молодежи считает, что сегодня знание кыргызского языка в республике необязательно. В четвертом разделе говорится о стратегиях адаптации русской молодежи в этнокультурном контексте Кыргызстана. По данным опросов, которые были проведены авторским коллективом в 1999 г., более половины опрошенных русских (54%) оценили межэтническую ситуацию как в основном нормальную, но порой ухудшающуюся, а в 2014 г. такого мнения придерживалось лишь 29% респондентов (с. 108). В этом разделе представлен также сравнительный анализ ответов русской и кыргызской молодежи. Авторы отмечают, что и те и другие показывают, прежде всего, экономические причины сохранения межэтнической напряженности: конкуренция за рабочие места (23% среди русских), конкуренция за землю (23% среди кыргызов). Сравнительный подход в проведении этносоциологического опроса показал, что кыргызская молодежь более критично относится к деятельности социальных институтов, правоохранительных органов и руководителей государственных структур в сфере межэтнических отношений. Весьма любопытна авторская позиция, согласно которой межэтническая напряженность имеет экономические причины. Опрос подтверждает, что 63% русской молодежи отмечает относительное повышение уровня и качества жизни, создание рабочих мест и преодоление безработицы, в чем они видят снижение межэтнической напряженности. Однако выводы были бы более убедительными, если бы в основной части для аргументации выдвигаемых тезисов использовались не только материалы опроса и данные сети Интернет, но и данные экспертного опроса и углубленных интервью. Об их проведении авторы упоминают в заключении. Последний раздел монографии посвящен потенциальной миграции русской молодежи из Кыргызстана. Высокие эмиграционные настроения проявляются из-за неудовлетворенности жизнью и социальными преобразованиями. Исследователи подчеркивают, что «важнейшим условием социально-психологической адаптации к новым изменяющимся условиям и одновременно показателем (критерием) ее успешности / неуспешности является степень удовлетворенности индивида / группы различными сторонами своей жизнедеятельности» (с. 136). Основным тезисом данного раздела выступает «структурирование массивов опрошенных по степени их адаптированности к среде и степени активности или пассивности их жизненных позиций» (с. 140). Авторы разделили респондентов на группы: «адаптанты» и «мобилизаторы» (активный компонент), «выжидатели» и «пессимисты» (люди с пассивной жизненной позицией). Респондентов с активной жизненной позицией оказалось 73%. В связке с жизненной позицией анализируется удовлетворенность жизненной ситуацией, которая вытекает из политического, экономического, социального положения в стране в целом. При этом среди молодежи титульной национальности этот показатель ниже. Здесь интересно сравнение с Молдавией, где в 2007 г. авторы рецензируемой монографии проведели аналогичное исследование, в ходе которого было определено, что молдавская молодежь настроена менее оптимистично, чем русские в этой стране. Существенным вкладом в выявление адаптационных стратегий русской молодежи, на мой взгляд, можно считать анализ политической ситуации в стране. Авторы отмечают, что за время независимости Кыргызстана на политической «арене» не было представлено партии, которая отстаивала бы права русских как этнического меньшинства. При этом русские поддерживают проправительственную партию республики, а кыргызы настроены оппозиционно. Несмотря на то что большинство респондентов родились в постсоветском Кыргызстане и считают его своей родиной, миграционные настроения русских высоки. Страной приема в первую очередь выступает Россия, такая практика присуща и для кыргызской молодежи, активно включающейся в трудовую и «учебную» миграцию. На мой взгляд, исследователи несколько преувеличивают потенциал русской миграции из Кыргызстана, которая практически исчерпала себя. Между тем важно отметить вклад настоящего исследования в последующее изучение будущей эмиграции, ее направлений, структурных показателей потоков миграции, выявление миграционной мотивации разных групп русского населения Кыргызстана. Это может помочь как в анализе перспектив сохранения русского сообщества в той или иной стране, так и в регулировании процессов миграции (с. 166). Прежде всего, следует отметить, что лишь 28% респондентов собираются уехать из республики, а почти 70% видят Киргизию, свой родной Бишкек единственной Родиной. По мнению авторов, чтобы почувствовать себя в республике «своим» человеком, наладить отношения с окружающими, русской молодежи пришлось выработать собственную «стратегию выживания», в том числе снизить свои социальный статус и запросы, отойти от политики и общественно-политической деятельности, закрыть глаза на те или иные ущемления своих прав и интересов. Работа может быть интересна не только антропологам и этнологам, но и более широкому кругу читатей, поскольку посвящена жизни городской русской молодежи как этнического меньшинства в Киргизии, стратегиям межэтнического взаимодействия и миграционнным настроениям русских в одной из бывших советских республик.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 490
Ключевые слова
Авторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Джанызакова Сеиль Давлетовна | Томский государственный университет | ассистент кафедры антропологии и этнологии | seildzhanyzakova@gmail.com |
Ссылки
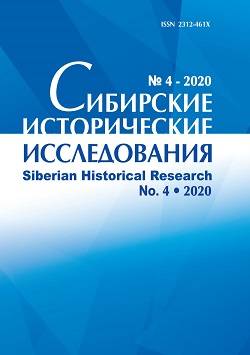
Русская молодежь в современных реалиях нового российского зарубежья (случай Кыргызстана) | Сибирские исторические исследования. 2020. № 4. DOI: 10.17223/2312461X/30/18
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 746

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью