«Империалистические разведчики» или коллеги? Советско-американский антропологический диалог в период ранней холодной войны (конец 1940-х - начало 1960-х гг.)
. Статья рассматривает научные контакты между советской этнографией и американской антропологией во второй половине 1940-х - начале 1960-х гг. Автор прослеживает динамику этих контактов от жесткой идеологической критики и изоляционизма конца 1940-х через постепенное налаживание связей во второй половине 1950-х гг. до периода накануне 7-го МКАЭН в Москве (1964), когда советская этнография поставила задачу глобального соперничества с американской антропологией. В этот же период происходит становление американской антропологической советологии и налаживание контактов антропологов левых взглядов с советскими коллегами.
‘Imperialist spies' or colleagues? Soviet-American anthropological dialogue during the early Cold War.pdf Представление, согласно которому разрыв международных связей и самоизоляция характеризуют развитие советской этнографии начиная с рубежа 1920-1930-х гг., принадлежат в историографии к самоочевидным (Соколовский 2009: 52; Соловей 2001: 119). Действительно, сложно отрицать барьеры, выстроенные в Советском государстве на пути свободного общения с зарубежными учеными. Однако, устанавливая в начале 1930-х гг. жесткий контроль международных связей, власть была заинтересована и в престиже советской науки на международной арене, предпринимая для этого организацию международных конгрессов (Krementsov 1997: 43-44). Исследователи советской культуры также указывают на феномен интернационализма как часть культуры сталинизма наряду с националистическими и изоляционистскими тенденциями (Кларк 2018: 10-11). С частичным открытием СССР при Н.С. Хрущеве, возобновились и научные контакты, свернутые в 1939- 1953 гг. Все это заставляет обратить более пристальное внимание на международный аспект истории советской этнографии. Так ли изолирована была эта наука? Как осуществлялся обмен идеями между отечественными антропологами и их зарубежными коллегами на разных этапах истории? Каковы были отношения с представителями доминирующей на сегодняшний момент в мировой науке американской культурной антропологии? Рассмотрение этих вопросов имеет не только историографическое значение. «Просторность» предмета антропологии как науки и фраг-ментированность составляющих ее субдисциплин усугубились в постсоветское время кризисом идентичности, проявляющемся в отсутствии ясности относительного таких базовых вещей, как название науки (этнография / этнология / социокультурная антропология) и предмет ее исследования (Соколовский 2011). Бывшим советским этнографам пришлось доказывать, что предмет, методы и «информационное поле» их науки соответствуют англо-американской социальной и культурной антропологии, а многочисленные учебники и образовательные программы по этим «новым» в России дисциплинам написаны, как правило, людьми, от нее далекими (Артемова 2008). История отношений между советской этнографией и американской антропологией, послевоенному эпизоду из которой посвящена данная статья, показывает как различия этих научных традиций, так и тот несомненный факт, что они принадлежат к одному «информационному полю» и даже вступают в резкое противостояние за доминирование на нем, развиваются в диалоге друг с другом. Сотрудничество российских / советских и американских антропологов имело давние корни. Оно восходило к трудам Джезуповской экспедиции под руководством Ф. Боаса, в которой принимали участие В.Г. Богораз, В.И. Иохельсон и Л.Я. Штернберг (Вахтин 2005). Утверждение марксизма в качестве безальтернативной теории в советской этнографии имело двойственный эффект. Советские этнографы стали рассматривать подавляющее большинство зарубежных коллег в качестве «буржуазных» и подвергать их идеологической критике. Это сказалось и на отношениях между Боасом и Богоразом (Кан 2007). Несмотря на то, что Богораз настаивал на том, что исследования на территории СССР должны проводить только советские ученые, проблематика древних азиатско-американских миграций притягивала археологов и антропологов двух континентов и сформировала сеть сотрудничества, поддерживавшуюся на протяжении поколений (Arzyutov 2021). Идеолог марксистской этнографии Н.М. Маторин предполагал «схватиться с врагами марксизма на международном научном фронте», рассчитывая сплотить вокруг друзей СССР и сторонников «классического направления». «Ближайшие конгрессы американистов, - писал он, - должны быть использованы советскими учеными для твердого и решительного провозглашения марксистских принципов в этнографии» (Маторин 1931: 38). Таким образом, советская этнография, по крайней мере в первые годы, представляла собой проект, ориентированный на объединение «прогрессивных» ученых всего мира. Намечались проекты по академическому обмену, осуществить которые удалось, правда, только Ю.И. Аверкиевой с советской стороны и Арчи Финни с американской (Кузнецов 2018; Kuznetsov 2020). По возвращении в СССР Аверкиева опубликовала обзор американской этнографии, в котором охарактеризовала Боаса и Кребера как диффузионистов, отрицающих «внутренние закономерности в развитии человеческого общества» (Аверкиева 1932). Этот тезис окажется одним из наиболее устойчивых в советской рецепции культурной антропологии, а Аверкиева станет главным специалистом по истории данной науки, совмещавшим личную признательность Боасу с марксистской критикой его трудов (Кан 2018). Среди американских антропологов интерес к сотрудничеству проявляли ученые левых взглядов. Лесли А. Уайт, наиболее известный среди них, посещал СССР в 1929 и 1964 гг., публиковался в «Советской этнографии» и выступал в США с восторженной оценкой социализма в СССР (Peace 2004: 70-75). Антрополог, биограф Л.Г. Моргана и марксист Бернард Стерн на протяжении 1930-х гг. снабжал советских коллег копиями документов из архива Моргана (Kan, Arzyutov 2016). Еще один американский радикал - филиппиновед Рой Франклин Бартон - проработал в Институте этнографии в Ленинграде с 1930 по 1940 г. (Станюкович 1979). Сотрудничество было наиболее естественным в области изучения культурных связей североамериканских и североазиатских культур и проблемы заселения Америки. Главными инициаторами были американский физический антрополог чешского происхождения Алеш Хрд-личка (1869-1943), американский археолог Фройлих Рейни (1907-1992) и датский археолог Кай Биркет-Смит (1893-1977). На протяжении 1930-х гг., однако, дело ограничивалось в основном предложениями с американской и датской стороны, перепиской и визитами в СССР. В 1934 г. Хрдличка обратился в МАЭ и АН СССР с предложением о совместном исследовании связей между культурами Сибири и Аляски. В том же году на I Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Лондоне был сформирован Международный комитет по изучению народов Арктики, однако советских представителей на конгрессе не было (Корсун 2015: 301). Хрдличка состоял в переписке с Г.Ф. Дебецом и А.М. Золотаревым, опубликовавшим две статьи в журнале «American Anthropologist». В 1939 г. Хрдличка посетил МАЭ. По результатам заседания Ученого совета МАЭ / ИЭ было решено организовать археолого-этнографическую экспедицию в Северо- Восточную Азию (Корсун 2015: 343). В 1936 г. совместными усилиями Биркет-Смита и Богораза удалось организовать поездку советского специалиста по эскимосам А.С. Форштейна в Национальный музей Дании, однако в 1937 г. Форштейн был арестован и расстрелян. В 1938 г. СССР посетил специалист по археологии Аляски Фройлих Рейни, просивший у АН разрешения участвовать в раскопках в Прибайкалье и Чукотке и положить начало совместным исследованиям Университета Аляски «с одним из университетов СССР, заинтересованных в археологических исследованиях в Северной Сибири» (Корсун 2015: 337). Война нарушила планы организации конференции, посвященной 450-летию открытия Америки (1942), и возможных совместных исследований. В то же время риторика о «буржуазной науке» отходила на второй план по отношению к ученым из стран-союзников. В 1942 г. умер Франц Боас, годом позже - Алеш Хрдличка. В 1945 г. в Москве состоялось специальное заседание, посвященное их памяти, были опубликованы некрологи (Левин 1946; Аверкиева 1946). Новый директор института С.П. Толстов писал о необходимости объединения всех прогрессивных антропологов, упоминая вклад в борьбу с фашизмом и расизмом Боаса, Хрдлички и других ученых Запада (Толстов 1946: 5). В июне 1945 г. состоялось празднование 220-летия Академии наук. В торжественных мероприятиях приняли участие 123 иностранных гостя. Самыми представительными были делегации стран-союзников (Корзун, Груздинская 2020: 381). В числе делегатов из Англии был выдающийся археолог-марксист Вир Гордон-Чайлд, популяризовавший достижения советской археологии. В результате в США Гордон-Чайлд был объявлен persona non grata и не мог посещать эту страну (Peace 1988: 419). Появление работ иностранных авторов в СССР оставалось затруднительным процессом. В 1947 г. были опубликованы в сокращении две статьи Алика Джолли и Фредерика Роуза (1947): «Место туземцев Австралии в эволюции общества» и «Значение табу в первобытном обществе». Обе статьи представляли собой основанную на австралийских материалах страстную защиту теории Моргана. Оба автора были членами Коммунистической партии Австралии. В 1956 г. из-за преследования и дискриминации коммунистов в Австралии Роуз уехал в ГДР (Тумаркин 2015). 16 октября 1942 г. Джолли и Роуз отправили письмо со своими статьями, адресовав его «Институту примитивной социологии АН СССР» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 19. Л. 9). Статья была опубликована с предисловием С.А. Токарева (1947), отметившего не только значение продолжения прогрессивной моргановской традиции, но и «абстрактно-дедуктивный» метода авторов. В рецензировании работ американских антропологов в первые послевоенные годы умеренная критика не заслоняла собой академического анализа. В 1946 г. «Советская этнография» опубликовала развернутую рецензию М.О. Косвена, посвященную работам Маргарет Мид. Он утверждал, что работы Мид имеют «большое научное значение и могут быть с успехом использованы в советской науке» (Косвен 1946: 228). М.Г. Левин анализировал полемику Лесли Уайта с боаснианцами, в целом принимая сторону Уайта, однако отмечая необоснованность его критики Боаса и неправильное понимание соотношения понятий «история» и «эволюция» (Левин 1947). С.П. Толстов гораздо более резко критиковал связи британских функционалистов с колониальной администрацией, сближал модели культуры «этно-психологов» с «расовой душой», однако обсуждал и теоретические вопросы (Толстов 1947: 14-19). Академический характер носил и обзор Ю.П. Аверкиевой «Психологическое направление в современной американской этнографии» (Аверкиева 1947). Вскоре, однако, тон этих обсуждений резко изменился. Холодная война: СССР Сигналом к началу холодной войны принято считать выступление Уинстона Черчилля в американском городе Фултоне 5 марта 1946 г. Черчилль говорил о необходимости защитить свободу и демократию «англоязычных народов» и сдерживать влияние СССР и коммунистической «пятой колонны». В ответ Сталин дал интервью газете «Правда», в котором сравнил риторику Черчилля с немецкой расовой теорией и назвал ее «английской расовой теорией» (Интервью 1946). В тот же день было принято постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое критиковало журналы за печать произведений, культивировавших «дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада». Началась кампания по борьбе с космополитизмом. В этнографии и смежных дисциплинах жертвами этой кампании стали П.Г. Богатырев, Д.К. Зеленин, В.Я. Пропп и В.С. Равдоникас. В октябре 1948 г. в ИЭ состоялось обсуждение работ М.О. Косве-на, в вину которому было поставлено и некритическое отношение к работам зарубежных ученых вообще и Мид в частности (Золотарев-ская 1949: 184). Главным рецензентом работ американских антропологов стал ученик В.Я. Проппа и специалист по этнографии Океании Н.А. Бутинов. В его рецензии на книгу Абрама Кардинера с соавторами «Психологические границы общества» впервые, по всей видимости, появляется характеристика работ направления «культура и личность» как расистских. Аргументация этого тезиса сводилась к тому, что поскольку «основная личность» (basic personality Кардинера) народа формируется в раннем детстве, то изменение ее структуры представителями данного народа невозможно. Произвести его могут только носители более «приспособленной», а именно западной или американской культуры. Расовый детерминизм заменяется не менее жестким культурным (Бутинов 1948: 191). В обзоре «Современная американская “теоретическая” этнография» ученый обобщил свои впечатления о работах Р. Бенедикт, Р. Линтона и А. Кардинера. Его подход сводился в целом к тому, что работы этих ученых представляют откровенную апологетику капитализма и расизма и лишены научной ценности. Статью предваряло вступление «от редакции», в котором говорилось о трех источниках теории «психологического расизма»: психоанализе, психотехнике и шпенглерианстве (Бутинов 1949). Отдельного упоминания заслужил тот факт, что Кора Дюбуа рассматривала возможность проведения полевой работы в Сибири благодаря широкой распространенности там «арктической истерии» (Бутинов 1949: 216). В том же 1949 г. вышла статья заместителя директора ИЭ И. И. Потехина «Задачи борьбы с космополитизмом в этнографии». «Этнопсихологическая школа», по Потехину, являлась «сосредоточением всего реакционного и отсталого», показывающего глубину падения буржуазной этнографии (Потехин 1949; Корбе, Стратанович 1949). Итогом кампании идеологической критики стал изданный институтом в 1951 г. сборник статей «Англо-американская этнография на службе империализма». В него вошли вводная статья С. П. Толстого «Кризис буржуазной этнографии», а также статьи И.И. Потехина «Космополитизм в американской этнографии», Д. А. Ольдерогге и И.И. Потехина «Функциональная школа в этнографии на службе британского империализма», М.Г. Левина, Я.Я. Рогинского и Н. Н. Чебок-сарова «Англо-американский расизм» и Н. А. Бутинова «Психорасизм в американской этнографии». Риторика этих статей, в которых смешивались в одну кучу социал-дарвинизм и колониализм, биологический расизм и «психорасизм», влияние Шпенглера, Ницше и премьер-министра ЮАР Яна Христиана Смэтса, была выдержана в худших традициях разносной идеологической критики, выставлявшей ученых «кампанией бойких империалистических разведчиков» и «пропагандистов человеконенавистнических расистских идей, отравляющих народы фрейдистской порнографией и недостойной клеветой на другие народы» (Толстов 1951: 16). «Советская этнография», естественно, приветствовала сборник (Баскин 1952). Был он отрецензирован и журналом «Американ Антроположист». Автором рецензии стал Александер Вуцинич (1914-2002), автор многочисленных трудов по истории российской науки. Он назвал его «искажающей факты атакой на антропологические исследования на Западе». Он также охарактеризовал состояние антропологической теории в СССР как «сочетание эволюционизма XIX в. и советского “патриотизма”» (Vucinic 1953). Холодная война: США По сравнению с пристальным вниманием советских этнографов к теориям и идеологии американской антропологии, интерес противоположной стороны первоначально был минимальным. Изучение России и СССР в США до 1940-х гг. было, по словам одного из немногих специалистов, «уделом чудаков и психов». Немногочисленные специалисты только в 1939 г. объединились в Комитет изучения славян (Committee on Slavic Studies). Однако, по словам историка американской советологии, «война изменила все» (Engerman 2009: 13-15). Холодная война вызвала к жизни профессию советологов и привела к созданию таких крупных центров советологии, как Русский институт при Колумбийском университете или Русский исследовательский центр в Гарварде. С вступлением США в войну армии требовались сведения о культуре жителей оккупированных территорий и перемещенных лиц, а также разработка планов послевоенных переселений (Price 2008). Создаются специальные подразделения для ведения «психологической войны», не последнюю роль в которых играли антропологи. Именно в этих структурах (Офис военной информации и Офис стратегических операций) работали Рут Бенедикт, британские антропологи Грегори Бейтсон и Джефри Горер. Мид возглавляла Комитет по пищевым привычкам, занимавшийся изучением и рекомендациями по улучшению питания американцев - именно эту тему она выберет для доклада на VIII МКАЭН в Москве (Mead 1970). С точки зрения Мид, это сотрудничество было не только выполнением гражданского долга, но и способом поставить антропологию в один ряд с более «точными» социальными науками (как экономика и социология). Еще до войны Мид и Бейтсон стремились применить разработанные ими подходы в сфере отношений между культурами и нациями (Mandler 2009: 152). Эти подходы опирались на неофрейдизм и уделяли большое внимание становлению характера в той или иной культуре. Основным фактором этого становления считался опыт раннего детства и методы воспитания. Однако переход от изучения племенных обществ к современным нациям, который стремились осуществить Бенедикт, Бейтсон и Мид, влек за собой некоторое огрубление теории: вместо «моделей», «конфигураций» и этоса, уже в 1940-1941 гг. Мид и Бейтсон стали использовать понятие «национальный характер», которое, по словам историка Мендлера, «несло в себе путаницу и упрощение, обещавшие неприятности в будущем» (Mandler 2013: 56-57). Это в полной мере проявилось в последовавших уже после войны дебатах о «пеленальной теории» русского характера, ставшей, по словам того же Мендлера, «одной из главных ошибок в жизни Мид» (Mandler 2009: 158). Сотрудничество антропологов направления «личность и культура» с армией было направлено на изучение национальных характеров «на расстоянии» (т. е. при помощи интервью с эмигрантами и работы с литературой, кино и т.д.). В 1947 г. стартовал проект «Изучение современных культур» (Research in Contemporary Cultures), финансировавшийся подразделениями флота США, в 1948 г. Мид начала проект изучения «советской культуры» (Studies in Soviet Culture), финансировавшийся институтом военно-воздушных сил армии США RAND. Уже в том же году Джефри Горер представил гипотезу, согласно которой «ключом» к русскому характеру был обычай туго пеленать детей. Чередование тугого пеленания и освобождения для щедрого кормления грудью представлялось «одним из важнейших факторов формирования характера великоруса» (Gorer 2001: 92), который объясняет резкие смены настроения, способность на самые противоречивые действия и слабое чувство я, не отделяемое от коллектива. Бессознательные страхи и чувство вины перерастают в боязнь чужаков и верность Лидеру, которые свойственны русским. Гипотеза Горера была воспринята со скепсисом уже на стадии первых «презентаций» перед американскими советологами, многие из которых имели русские корни. Мид защищала «пеленочную теорию», что повредило ее репутации. Внутри RAND подход Горера также не встретил понимания, в результате чего собственная работа Мид «Советское отношение к власти» (1951) была очищена от психоаналитических теорий (Mead 1951). В Советском Союзе работы Мид и Горера вызвали ожидаемую реакцию. В феврале 1952 г. газета «Известия» опубликовала, пожалуй, одну из наиболее оригинальных рецензий в истории антропологии: текст Владимира Орлова «Клеветники и пеленки» под рубрикой «фельетон». Он отличался крайней степенью риторического накала: «Американские попугаи в докторских мантиях распространяют фашистский расистский бред, целью которого является доказать превосходство американской “высшей расы”» (Орлов 1952). Орлов также дал оригинальную версию истории исследования. Перед «учеными мужами» США была поставлен задача доказать, что «гнев и буйство» является неотъемлемой частью русского характера. Коллектив под руководством Мид обнаружил статью Горера о роли пеленания и «решили украсть эту идею» без ссылок на автора. В восприятии советских этнографов, однако, «пеленочная теория» осталась связанной с именем Мид. В разговоре с Солом Таксом в Москве И.И. Потехин отметил: «Пусть африканцы, пусть индийцы и другие народы сами пишут о себе. Иначе получаются курьезные вещи, вроде статьи Маргарет Мид о национальном характере русских или статьи Дюбуа о национальном характере японцев» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 985. Л. 26). Характеристики исследований школы «культуры и личности» как расистских, а работ Мид и Горера как «клеветнических измышлений» остались стандартными в советской этнографии (Аверкиева 1963а: 80-84). По сравнению с познаниями советологов от антропологии, представления о советской этнографии в США в начале 1950-х гг. были более адекватны. Археолог русского происхождения из Колумбийского университета Пол Толстой опубликовал статью «Морган и советская антропологическая мысль», которая была основана на внимательном чтении советских публикаций 1930-1940-х гг. Не скрывая ироничного отношения к культу Моргана, Толстой указывал на перемены, произошедшие в советской послевоенной науке. К ним относились введение в оборот понятия «культура» (в противовес эволюционной стадии) и возникновение исследований по этногенезу, что связывалось с усилением национализма (Tolstoy 1952). Обзор деятельности советских антропологов за авторством Дмитрия Шимкина и Николаса Де Витта появился в «Международном справочнике антропологических институций», выпущенном при поддержке фонда Веннер-Грена. Статья подчеркивала, что работа ученых в СССР осуществляется под строгим контролем плана и «высших политических властей», однако сравнительная свобода в археологии приводит к большему количеству качественных работ (Shimkin, Dewitt 1953: 253-254). В том же году Шимкин в соавторстве опубликовал статью, применяющую психологическую теорию Германа Роршаха к анализу русских пословиц (Shimkin, Sanjuan 1953). В 1941-1946 гг. он работал в военной разведке, анализируя информацию о СССР. Шимкин подвергался расследованию ФБР в связи с возможными коммунистическими симпатиями его самого и членов его семьи, однако таковых обнаружено не было (Price 2004: 189-192). В Москве следили за этими публикациями, однако вступать в контакт с американскими коллегами не решались. В 1956 г. Потехин обрисовал ситуацию следующим образом: «За все послевоенные годы в американских журналах была напечатана лишь одна статья Павла Толстова «Морган и советская этнографическая мысль, в которой советские этнографы обвиняются в национализме. В справочнике по этнографическим учреждениям мира, изданном фондом Веннер-Грена, напечатана клеветническая статья Шимки-на. В 1954 г. этот фонд опубликовал этнографический ежегодник. Фонд упорно добивался от С.П. Толстова присылки статьи о советской этнографии. Статья не была послана. Тогда они перепечатали из канадского журнала “Эксплорейшн” статью, опубликованную И. Потехиным и М. Левиным» (АРАН Ф. 142. Оп. 1. Д. 784. Л. 54). В этой статье авторы характеризовали основные черты советской этнографии, такие как: вовлечение в этнографию «местных работников», связь с «задачами коренного преобразования культуры и быта», а также признание «решающей роли материального производства в истории общества и единства путей, по которым развивались и развиваются все народы мира». Они также резко отмежевывались от «модной в США психологической школы» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 595. Л. 7). В 1955 г. только что вернувшаяся из сталинских лагерей Аверкиева опубликовала подробный обзор «съезда этнографов», состоявшегося в Нью-Йорке в 1952 г. Основное внимание в нем было уделено прозвучавшей на съезде критике в адрес «психологического направления». Аверкиева с удовлетворением констатировала, что «этнопсихологи» не смогли «подчинить своему влиянию» не только ученых Старого Света, но и многих американцев, среди которых «растет стремление найти новые пути этнографического исследования» (1955: 155). В архиве Ю.П. Аверкиевой сохранился черновой вариант данной статьи. Сравнение его с опубликованным текстом показывает, что риторический накал публикаций об американской науке начал снижаться. К примеру, в окончательном варианте были снят пассаж о том, что «в психоаналитическом обследовании клиническим путем давно нуждаются некоторые поборники психо-анализа (sic) и невропатологии в науке об обществе, расистские бредни которых граничат с параноидным заболеванием» (АИЭА. Ф. 16. Д. 40. Л. 16, 29). Это свидетельствовало о том, что пик риторического противостояния Западу был пройден, и советские этнографы были готовы к более конструктивному диалогу. На пути к «разрядке» Во второй половине 1950-х гг. происходил отход от жесткой конфронтации к более гибкой политике с ориентацией на мирное сосуществование с системой капитализма. Широкие массы увидели симптомы новой открытости в выставке Пикассо (1956), московском Всемирном фестивале молодежи и студентов (1957) и Американской национальной выставке в Сокольниках (1959). В 1959 г. было подписано «Соглашение между СССР и США об обменах в области культуры, техники и образования» (Zhuk 2013: 5). Советские этнографы были одними из пионеров новой «разрядки». Переход к личным контактам и возобновлению научных связей был достигнут на Пятом международном конгрессе антропологических и этнологических наук, прошедшем в Филадельфии 1-9 сентября 1956 г. под председательством Ф. Рейни. Первоначальные планы участия советских ученых были масштабными. Академик-секретарь Отделения исторических наук М.Н. Тихомиров в письме президенту АН СССР А.Н. Несмеянову предлагал делегацию из 25 человек. «Учитывая состояние, идеологическую и политическую направленность современной американской этнографии, - писал Тихомиров, - надо предполагать, что положение советской делегации будет нелегким. Поэтому совершенно необходимо иметь в составе делегации специалистов по самым разнообразным отраслям этнографии, антропологии и археологии, которые могли бы в необходимых случаях квалифицированно высказать и защитить точку зрения советской науки» (АРАН Ф. 142. Оп. 1. Д. 784. Л. 70). Гостями конгресса в итоге стали только Г.Ф. Дебец, Д.А. Ольдерогге и И.И. Потехин. Делегаты получили официальное приглашение вступить в Международный союз антропологических и этнологических наук и многочисленные заверения в необходимости сотрудничества. В докладе о поездке Потехин привел «программу информирования американских ученых о советской этнографии», в которую входили: присылка аннотированного списка изданий, публикации в «Американ Антрополоджист», публикация отдельной книгой информации о советской науке «взамен клеветнических измышлений Шимкина», обмен книгами и т.д. (Там же: 55). В частном порядке Сол Такс организовал дискуссию о понятиях прогресса и «теории value», в которой приняли участие Ольдерогге, Потехин и «самые крупные представители американской и английской этнографии», включая Р. Ферса и М. Фортеса. Беседа «вылилась в острую научную дискуссию» о культурном релятивизме и теории «ценности». Сторонники этой идеи в частных беседах «обвиняли нас в однолинейной интерпретации общественных явлений» (Дебец, Ольдерогге, Потехин 1957: 164-165). Резюмируя впечатления советских делегатов об американской этнографии, Потехин выделял чрезмерное увлечение теоретическими обобщениями и преобладание «идеалистических реакционных взглядов». Тем не менее в ней идет процесс «переоценки старых ценностей» и отхода «психологической школы» на второй план: «Если несколько лет тому назад господствующее положение занимала наиболее реакционная психологическая школа, то сейчас, на Конгрессе ее представители занимали весьма скромное место. Маргарита (sic) Мид - “специалистка” по характеру русского народа - была совершенно незаметна на Конгрессе и скоро уехала. Так же мало был заметен Клюкхон. Еще на Нью-Йоркском съезде этнографов в 1952 г. эта школа подверглась острой критике как со стороны ряда американских, так и особенно со стороны зарубежных ученых. Сейчас на первый план выдвигаются теория культурного релятивизма и связанная с ней теория value. При всех недостатках этих теорий, они представляют собой шаг вперед по сравнению с концепцией психологической школы. Они анти-расистские. Сейчас, когда психологическая школа отошла на второй план, мы уже не можем рубить с плеча. Обстоятельная, научная критика и хорошо поставленная информация о советской этнографии окажут существенную помощь прогрессивному крылу американской этнографии» (АРАН Ф. 142. Оп. 1. Д. 784. Л. 60-61). Делегаты делали выводы и относительно корректировки развития советской науки. Дебец указывал на отличия в интересах советских и американских физических антропологов: если первые изучают в основном этническую антропологию и этногенез, вторые - в основном морфологию человека и медицинские проблемы. «Советскому делегату, не удалось создать впечатление, что советская антропологическая наука занимает первое место в мире», писал ученый, рекомендуя при подготовке докладов на следующий съезд обратить внимание на «забытые отрасли» - изучение крови, дерматоглифики и физического развития (АРАН Ф. 142. Оп. 1. Д. 784. Л. 63-65). Президент конгресса Фройлих Рейни, организовавший для советских гостей не только комфортные условия на конгрессе, но и поездку по стране, экскурсии в музеи и обеды в домах С. Такса и М. Херскови-ца, в следующем году был приглашен в СССР. В июне 1957 г. он посетил Ленинград и Москву, был принят в МАЭ и ИЭ и прочитал две лекции (Рейни 1957, 1958). Во время визита Рейни предложил «обменяться учеными»: Дебец будет командирован на два месяца в Музей Пенсильванского университета для изучения остеологической коллекции из стоянки Ипиутак на Аляске. Он ознакомился с этой коллекцией во время конгресса 1956 г. и пришел к выводу, что скелеты имеют «сибирский тип» и сходны с юкагирскими. В обмен в СССР приедет специалист по шумерам С.Н. Крамер для работы с шумерскими табличками из Эрмитажа (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 893. Л. 9). В мае 1958 г. советская делегация в лице С.П. Толстова, Г.Ф. Дебеца, М.Г. Левина и А.П. Окладникова посетила международную конференцию по антропологии и археологии Арктики в Копенгагене. В отчете об этой конференции Толстов писал: «Глава американской делегации д-р Ф. Рейни неофициально довел до сведения главы советской делегации С.П. Толстова, что он имеет полномочия от правительства США для заключения соглашения о взаимном посещении советскими учеными Аляски и американскими учеными - Советской Арктики. Предвидя возможность предложений о совместных экспедициях, я перед отъездом из Москвы запросил руководство АН СССР по этому вопросу. Получив инструкцию избегать обсуждения этой темы и принимать решения о совместных экспедициях, я не упомянул об этой форме совместной работы в своем приветственном слове… В дальнейшем этот вопрос не поднимался и в резолюции, которая была составлена на основе нашего проекта, вопрос об экспедициях не фигурирует в числе форм совместной работы» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 988. Л. 29). Выводы, однако, были сделаны и на этот раз: «с полной очевидностью выявилось, что исследования советских ученых играют важную роль в антропологическом, археологическом и этнографическом изучении Арктики. Однако в настоящее время, когда американские, датские и канадские исследователи развернули широкие археологические работы на севере Америки, необходимо усилить темпы и интенсивность исследований в советской Арктике и Субарктике. Необходимо разработать программы исследований в Советской Арктике на ближайшие годы и предусмотреть ассигнования для этой цели» (Там же: 33; см. также Корсун 2009). В августе 1956 г. А.П. Окладников, Ю.В. Кнорозов и И.А. Золотарев-ская побывали на XXXII Конгрессе американистов в Копенгагене, где представили доклады Е.А. Бломквист, Э.В. Зиберт и М.Г. Левина. Доклад Окладникова о древних истоках эскимосской культуры вызвал большой интерес и потребовал дополнительного времени на обсуждение (Золотаревская Окладников 1957: 158). На этом же конгрессе Окладников познакомился с учеником Хрдлички Вильямом Лафлином (William S. Laughlin), сотрудничество и совместные экспедиции с которым в 1970-1980-е гг. стали продолжением давней традиции совместного изучения азиатско-американских связей (Laughlin 1985). План научных командировок и приглашений на 1957 г. свидетельствует о том, что советские этнографы «входили во вкус» международного общения. Были отправлены приглашения знаменитому американисту Полю Риве, директору Музея человека Анри Валуа (уже приезжавшему на Всесоюзное совещание этнографов в 1956 г.), Каю Биркет-Смиту, Максу Глакмену, приглашение которого «облегчило бы организацию советской экспедиции в Африку» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 893. Л. 40-41), и ряду ученых из социалистических стран. Жена Глакмена Мери была членом Коммунистической партии, однако вышла из нее в начале 1950-х гг. Глакмены также покинули Общество культурных связей с СССР после разоблачения культа личности в 1956 г. В 1957 г. ученый, сочувствовавший социализму, посетил США, однако его жене было отказано в визе из-за ее коммунистического прошлого (Gordon 2018: 180). Глакмен был приглашен и в 1959 г. Была разработана программа месячного визита с посещением Москвы, Ленинграда и Средней Азии, чтением лекций и беседой в Советской ассоциации дружбы с народами Африки. Он был аттестован как возглавляющий в современной «буржуазной» африканистике «насколько возможно прогрессивное направление» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1095. Л. 60-61). Визит, судя по всему, не состоялся, однако статья манчестерского африканиста была опубликована в «Советской этнографии» (Глукмен 1960). Отношение к другому знаменитому антропологу из Старого Света, Клоду Леви-Строссу, со стороны ИЭ было гораздо более прохладным. В 1958 г. на запрос о целесообразности его визита в СССР С.П. Толстов ответил: «В теоретическом отношении его работы не представляют для нас интереса, т. к. Леви-Штраусс является сторонником реакционных течений в этнографии, в первую очередь психорасизма. По своей инициативе за счет института мы пригласить Леви-Штраусса не считаем возможным. Но если он приедет за счет другой организации, Институт согласен его принять: он бывал в Южной Америке и собрал большой конкретный материал по этнографии индейцев Амазонки, литература о которых очень скудна» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 983. Л. 58). Тем не менее со второй половины 1950-х гг. был организован регулярный обмен визитами, некоторые сотрудники ИЭ получили возможность постепенно налаживать научные связи и получать личные впечатления от посещения Америки. Трансатлантические встречи В 1958 г. в США поехала этнограф-американист и ученый секретарь ИЭ И.А. Золотаревская, в СССР - археолог Мэри Вормингтон (Hannah Marie Wormington, 1914-1994). За два месяца Золотаревская успела побывать в Нью-Йорке, Филадельфии, Колорадо, Денвере и на конференции Американской ассоциации антропологов в Вашингтоне. В письме коллегам она рассказывала: «Передо мной дилемма - или выключиться из жизни и засесть в библиотеках, ничего не видя, или в ущерб “академическим” занятиям постараться увидеть больше людей, живую жизнь. Встречают меня приветливо, стараются помочь увидеть как можно больше» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 986. Л. 124). Она упомянула о встречах с Ирвингом Хелловеллом (Alfred Irving Hallowell) и Маргарет Мид, «которая имеет при музее маленькое помещение, состоящее из двух комнат, заваленных книгами. Она была со мной очень любезна, о науке не разговаривала Популярностью она не пользуется» (Там же. Л. 8). Большую часть поездки, судя по докладу, Золотаревская провела в знакомстве с музеями и в индейской резервации в штате Оклахома. Относительно музеев она отметила, что экспозиции об индейцах дают представление о традиционном быте, но «останавливаются в XIX веке». Сами индейцы в Оклахоме «выглядят как мы с вами, только несколько полнее, лица темнее, говорят по-английски». Описав ряд встреч и экскурсий, Золотаревская подытожила: «…как бы они не были американизированы, они все-таки остаются индейцами». Среди негативных впечатлений докладчица упомянула об «ужасной» прессе, которая писала о ее внешности и «мейкапе», и раздражение от того, что американские журналисты «очень расхваливали Пастернака» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1072. Л. 2-30; см. также: Золотаревская 1959, 1960). 31 декабря 1958 г. состоялась встреча американского антрополога (и сына выходцев из России) Сола Такса (Sol Tax) с руководителями и сотрудниками ИЭ. В начале 1950-х Такс вместе с распорядителем фонда Веннер-Грена (Wenner-Gren Foundation) провели серию конференций и публикаций. Идеей этого проекта было создание «мировой антропологии», объединявшей усилия ученых всех континентов. Летом 1958 г. Такс посетил антропологов шести европейских стран и организовал встречу, результатом которой была идея создания журнала «Cur-rent Anthropology». Его главной миссией была организация взаимного общения антропологов всего мира (Stocking 2000: 203-206). На встрече в Москве Такс рассказал коллегам о системе филантропических фондов и фонде Веннер-Грена, подчеркнув, что ученые «свободны в использовании этих средств». Он изложил концепцию журнала «Каррент Ан-трополоджи», закончив следующими словами: «Я верю в то, что мир един и, прежде всего, я верю в то, что мир един для антропологов. И когда мы говорим об изучении человека, может быть, мы можем связать воедино мысли и деятельность людей, хотя бы, по крайней мере, тех людей, которые занимаются наукой о человеке» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 985. Л. 18). Концепция журнала не встретила возражений у советских коллег. Потехин выразил пожелание, чтобы журнал представлял «ученых с различ
Ключевые слова
история антропологии,
международные научные связи,
советская этнография,
холодная война,
этнографическая американистикаАвторы
| Алымов Сергей Сергеевич | Институт этнологии и антропологии РАН | кандидат исторических наук, старший научный сотрудник | alymovs@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Аверкиева Ю. Материалы Нью-йоркского съезда этнографов // Советская этнография. 1955. № 4. С. 148-155
Аверкиева Ю. Предисловие // Североамериканские индейцы. М.: Прогресс, 1978. С. 5-6
Аверкиева Ю. Психологическое направление в современной американской этнографии // Советская этнография. 1947. № 1. С. 218-221
Аверкиева Ю. Современная американская этнография // Советская этнография. 1932. № 2. С. 97-102
Аверкиева Ю.П. О некоторых этнопсихологических исследованиях в США // Современная американская этнография / отв. ред. А.В. Ефимов, Ю.П. Аверкиева. М.: Издательство АН СССР, 1963а. С. 64-96
Аверкиева Ю.П. Проблема собственности в современной американской этнографии // Советская этнография. 1961. № 4. С. 200-213
Аверкиева Ю.П. Современные тенденции в развитии этнографии США // Современная американская этнография / отв. ред. А.В. Ефимов, Ю.П. Аверкиева. М.: Издательство АН СССР, 1963б. С. 3-49
Аверкиева Ю.П. Франс Боас (1858-1942) // Краткие сообщения ИЭ. М.: Издательство АН СССР, 1946. Вып. 1. С. 101-111
Артановский С. Проблема сравнительной ценности культур и теория «культурного релятивизма» // Советская этнография. 1961. № 3. С. 110-117
Артемова О.Ю. Десять лет «первобытности» в постсоветской России: анализ некоторых, преимущественно учебно-методических, публикаций // Этнографическое обозрение. 2008. № 2. С. 139-156
Баскин М.П. Англо-американская этнография на службе империализма // Советская этнография. 1952. № 1. С. 212-215
Бутинов Н. Рец. на: Abram Kardiner, with the collaboration of Ralph Linton, Cora Du Воis, James West. The Psychological Frontiers of Society, New York, 1946 // Советская этнография. 1948. № 3. С. 186-191
Бутинов Н.А. Современная американская «теоретическая» этнография // Советская этнография. 1949. № 1. С. 212-218
Вахтин Н.Б. Тихоокеанская экспедиция Джесупа и ее русские участники // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 241-274
Глукман М. Племенной уклад в современной Центральной Африке // Советская этнография. 1960. № 6. С. 57-69
Дебец Г.Ф., Ольдерогге Д.А., Потехин И.И. 5-й международный конгресс этнографов и антропологов // Советская этнография. 1957. № 1. С. 159-166
Дебец Г.Ф., Левин М.Г., Ольдерогге Д.А. Шестой международный конгресс антропологов и этнографов // Советская этнография. 1961. № 1. С. 156-161
Джолли А., Роуз Ф. Значение табу в первобытном обществе // Советская этнография. Сборник статей. М.; Л.: 1947. Т. VI-VII. С. 210-215
Джолли А., Роуз Ф. Место туземцев Австралии в эволюции общества // Советская этнография. Сборник статей. М.; Л.: 1947. Т. VI-VII. С. 192-209
Журавлев Ю.И. Научные связи Института этнографии АН СССРсзарубежными странами // Советская этнография. 1961. № 4. С. 187-189
Золотаревская И. Обсуждение работ М.О. Косвена // Советская этнография. 1949. № 1. С. 183-187
Золотаревская И.А. Некоторые материалы об ассимиляции индейцев Оклахомы // Краткие сообщения Института этнографии. 1960. Т. XXXIII. С. 84-89
Золотаревская И.А. Новый американский этнографический журнал // Советская этнография. 1961. № 5. С. 162-167
Золотаревская И.А., Окладников А.П. 32-й международный конгресс американистов // Советская этнография. 1957. № 1. С. 157-159
Золотаревская И.А. Поездка к индейцам США // Советская этнография. 1959. № 6. С. 162-172
Интервью тов. И.В. Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля // Правда. 1946. № 62. 14 марта. С. 1
Кан С. «Мой друг в тупике эмпиризма и скепсиса»: Владимир Богораз, Франц Боас и политический контекст советской этнологии в конце 1920-x - начале 1930-х гг. // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 191-230
Кан С.А. Юлия Аверкиева и Франц Боас: взаимная симпатия и идеологические разногласия // Этнографическое обозрение. 2018. № 3. С. 70-79
Кларк К. Москва, четвертый Рим: сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931-1941). М.: НЛО, 2018
Корбе О., Стратанович Г. Обсуждение доклада И.И. Потехина «Задачи борьбы с космополитизмом в этнографии» // Советская этнография. 1949. № 2. С. 170-177
Корзун В.П., Груздинская В.С. 220-й юбилей АН СССРвпобедном 1945-м: сценарий празднования в социокультурном контексте эпохи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2020. Т. 19, № 2. С. 374-392. DOI: 10.22363/2312-8674-2020-19-2-374-392
Корсун С.А. Международное сотрудничество по изучению этногенеза эскимосов: 20- 50-е годы XX века // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. СПб.: МАЭ РАН, 2009. Вып. 9. С. 213-229
Корсун С.А. Американистика в Кунсткамере (1714-2014). СПб.: Кунсткамера, 2015
Косвен М. Проблемы воспитания и психологии ребенка в свете этнографического материала (работы Маргарет Мид) // Советская этнография. 1946. № 2. С. 227-232
Кузнецов И.В. «Последняя экспедиция» (из истории русско-американского сотрудничества в изучении коренных малочисленных народов) // Этнографическое обозрение. 2018. № 3. С. 53-69. DOI: 10.7868/S0869541518030053
Левин М.Г. Алеш Грдличка (жизнь и деятельность) // Краткие сообщения ИЭ. М.: Издательство АН СССР, 1946. Вып. 1. С. 88-101
Левин М.Г. История, эволюция, диффузия (по поводу одной дискуссии) // Советская этнография. 1947. № 2. С. 235-240
Маторин Н.М. Современный этап и задачи советской этнографии // Советская этнография. 1931. № 1-2. С. 3-38
Орлов В. Клеветники и пеленки // Известия. 1952. № 42. С. 4
Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм, 1955-1991. М.: Издательский дом ВШЭ, 2016
Потехин И.И. Задачи борьбы с космополитизмом в этнографии // Советская этнография. 1949. № 2. С. 7-26
Рейни Ф. Археология американской Арктики // Советская этнография. 1958. № 2. С. 55-63
Рейни Ф. Проблемы американской археологии // Советская этнография. 1957. № 6. С. 31-37
Соколовский С. Российская антропология: иллюзия благополучия // Неприкосновенный запас. 2009. № 1 (63). С. 45-64
Соколовский С.В. В цейтноте: заметки о состоянии российской антропологии // Laboratorium. 2011. № 2. С. 70-89
Соловей Т.Д. «Коренной перелом» в отечественной этнографии (дискуссия о предмете этнологической науки: конец 1920-х - начало 1930-х годов // Этнографического обозрение. 2001. № 3. С. 101-121
Станюкович М.В. Необычная биография (Рой Фрэнклин Бартон, 1883-1947) // Советская этнография. 1979. № 1. С. 76-83
Токарев С.А. Новые материалы по этнографии Австралии // Советская этнография. Сборник статей. М.; Л., 1947. Т. VI-VII. С. 191
Толстов С.П. Кризис буржуазной этнографии // Англо-американская этнография на службе империализма / отв. ред. И.И. Потехин. М.: Издательство АН СССР, 1951
Толстов С.П. Некоторые проблемы всемирной истории в свете данных современной исторической этнографии // Вопросы истории. 1961. № 11. С. 107-118
Толстов С.П. Основные теоретические проблемы современной советской этнографии // Советская этнография. 1960. № 6. С. 10-23
Толстов С.П. Советская школа в этнографии // Советская этнография. 1947. № 4. С. 8-28
Толстов С.П. Этнография и современность // Советская этнография. 1946. № 1. С. 3-11
Тумаркин Д.Д. Фредерик Роуз (1915-1991). Жизнь и труды на фоне эпохи // Вестник антропологии. 2015. № 4 (32). С. 179-200. URL: http://static.iea.ras.ru/books/ VA_4_32_sayt.pdf
Arzyutov D.V. Reading Traces and Writing Indigenous Ethnohistories in the Russian North // Histories of Anthropology Annual. 2021. № 15 (in print)
Engerman D.C. Know Your Enemy: The Rise and Fall of America's Soviet Experts. New York: Oxford University Press, 2009
Gordon R.J. The Enigma of Max Gluckman: The Ethnographic Life of a «Luckyman» in Africa. Lincoln: University of Nebraska Press, 2018
Gorer G. The Psychology of Great Russians // Mead M., Gorer G., Rickman J. Russian Culture. New York; Oxford, 2001. P. 71-134
Kan S.A., Arzyutov D.V. The Saga of the L.H. Morgan Archive or How an American Marxist Helped Make a Bourgeois Anthropologist the Cornerstone of Soviet Ethnography // Local Knowledge, Global Stage. Vol. 10: Histories of Anthropology Annual / eds by Regna Darnell, Fredrick W Gleach. Nebraska: University of Nebraska Press, 2016. P. 149-220
Krementsov N. Stalinist Science. Princeton: Princeton University Press, 1997
Kuznetsov I. Archie Phinney, A Soviet Ethnographer // Ab Imperio. 2020. № 1. P. 59-74
Laughlin W.S. Russian-American Bering Sea Relations: Research and Reciprocity // American Anthropologist. 1985. № 4 (87). P. 775-792
Leacock E. Being an Anthropologist // From Labrador to Samoa: The Theory and Practice of Eleanor Burke Leacock / ed. by C.R. Sutton. Arlington: Association for Feminist Anthropology / American Anthropological Association, 1993. P. 1-32
Leacock E.B. The Montagnais «hunting territory» and the fur trade. Menasha, Wis.: American Anthropological Association, 1954
Mandler P. One World, Many Cultures: Margaret Mead and the Limits to Cold War Anthropology // History Workshop Journal. 2009. № 68. P. 149-172. DOI: 10.1093/hwj/dbp008
Mandler P. Return from the Natives: How Margaret Mead Won the Second World War and Lost the Cold War. New Haven; London: Yale University Press, 2013
Mead M. Soviet Attitudes toward Authority. New York: McGraw-Hill, 1951
Mead M. Anthropological Contributions to the Development of Rational Dietary Practices // Труды VIII МКАЭН. М.: Наука, 1970. Т. 8. С. 147-153
Moore J.D. Visions of Culture: an introduction to anthropological theories and theorists. Lanham: AltaMira Press, 2009
Peace W.J. Leslie A. White: Evolution and Revolution in Anthropology. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2004
Peace W.J. Vere Gordon Childe and American Anthropology // Journal of Anthropological Research. 1988. № 4 (44). P. 417-433
Price D.H. Threatening Anthropology. McCarthyism and the FBI's Surveillance of Activist Anthropologists. Durham, NC: Duke University Press, 2004
Price D.H. Anthropological Intelligence: The Deployment and Neglect of American Anthropology in the Second World War. Durham; London: Duke University Press, 2008
Shimkin D., DeWitt N. Union of Soviet Socialist Republics // International Directory of Anthropological Institutions / ed. by Jr. Thomas, S. William, A.M. Pikelis. New York: Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, 1953. P. 253-266
Shimkin D.B., Sanjuan P. Culture and World View: A Method of Analysis Applied to Rural Russia // American Anthropologist. 1953. № 3 (55). P. 329-348
Stocking Jr. G.W. «Do Good, Young Man» Sol Tax and the World Mission of Liberal Democratic Anthropology // Excluded Ancestors, Inventible Traditions: Essays Toward a More Inclusive History of Anthropology / ed. by Richard Handler. Madison: The University of Wisconsin Press, 2000
Tolstoy P. Morgan and Soviet Anthropological Thought // American Anthropologist. 1952. № 1 (54). P. 8-17
Vucinich A. Review of: Anglo-Amerikanskaia etnografiia na sluzhbe imperializma / ed. by I.I. Potekhin // American Anthropologist. 1953. № 55 (1). P. 110
Zhuk S. «Academic Détente»: IREX Files, Academic Reports, and “American” Adventures of Soviet Americanists during the Brezhnev Era // Cahiers du monde Russe. 2013. № 1-2 (54). Р. 1-32
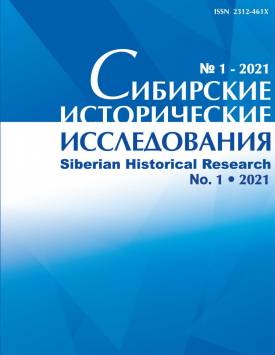

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью