Рассматривается ситуация этнографического наблюдения за практикой ученого-зоолога на выездной школе, посвященной исследованиям науки и технологий. В процессе наблюдения объект исследования изменяется, поскольку зоолог видит свою цель пребывания на школе как сугубо педагогическую. С помощью анализа транскрипта фрагмента одной из встреч группы исследователей с зоологом иллюстрируется неоднозначность ситуации - трудность ее отнесения к формальному или обыденному типу взаимодействия, что связано с наличием в ней характеристик обоих типов. Анализ структурной организации этого взаимодействия говорит о ее квазиформальном характере, поскольку порядок взаимодействия в ней лишь ограничивает возможные, а не предписывает желательные способы поведения. Анализируются философские импликации изменения теоретической оптики, предпринятого автором для лучшего понимания и объяснения эмпирического материала.
Quasi-formal interaction in an educational setting.pdf Введение Данная работа имеет своей целью описать и проанализировать кейс с точки зрения этнометодологии. Изначально кейс предлагался для анализа в рамках другой оптики - STS (Science and Technology Studies). Точнее, Visual STS (Galison 2014) и Camera Ethnography (Mohn 2005; Макиенко 2017). Рассматривается случай международной выездной STS-школы, где антропологи собирали данные ο практиках ученых, наблюдая то, что Бруно Латур называет «наукой в действии» - цепи медиаций в процессе производства научного знания (Латур 2013). Придя к выводу, что предложенная теоретическая рамка не производит релевантных различений, было решено проанализировать кейс с точки зрения этнометодологии и конверсационного анализа, чтобы выявить, каким образом в данном случае устроен и произведен социальный порядок. Философская рефлексия смены теоретической оптики ввиду столкновения с непредвиденной эмпирической проблемой будет представлена в последнем разделе статьи. Рассматриваемый кейс, о котором будет подробно сказано далее, представляет собой неоднозначную ситуацию, декларативно являющуюся «наукой в действии», а фактически - учебным процессом. В результате этого возникает проблема разницы ожиданий у участников ситуации. Методы STS не подходят для изучения подобной неоднозначности, поскольку имеют другую задачу - описание цепи медиаций, или «переводов». Проблема разницы ожиданий, возникающая в рассматриваемом нами кейсе в результате фактического расхождения изначально запланированного действия и его воплощения, является экземплификацией более широкой социологической проблемы «определения ситуации», сформулированной Уильямом Томасом. Согласно формулировке этой проблемы, «если люди определяют ситуацию как реальную, то она реальна по своим последствиям» (Thomas 1928: 572). Эта проблема имеет дело не с самовыполняющимися пророчествами, как принято считать (Merton 1948; Biggs 2009), а с экзистенциальной каузальностью, т.е. с теми значениями ситуации, которые атрибутируются ей непосредственными участниками, воспринимающими ее (Ball 1972: 62). Иногда определение ситуации затруднено различными факторами, и в этом случае возникает неоднозначность (ambiguity), которая может быть сфокусированной или всеобъемлющей. В случае последней участникам ситуации необходимо решать фундаментальные вопросы значения ситуации и адаптации своего поведения к ней, в то время как в случае первой - лишь инструментальные вопросы, связанные с конкретной проблемой или адаптацией к ней (Ball-Rokeach 1973: 379). Именно инструментальные вопросы решаются участниками ситуации в рассматриваемом кейсе, поскольку в нем не происходит тотального разрушения понимания и ориентации в происходящем. Иначе говоря, исследуемый кейс иллюстрирует не только то, каким образом произведен локальный социальный порядок в конкретной ситуации, но также уделяет внимание проблеме «определимости» ситуации и адаптации к ней ее участников. Прежде чем приступить к рассмотрению указанной проблемы, необходимо сделать несколько замечаний касательно теоретической оптики, принятой нами для изучения рассматриваемого кейса, а также касательно специфики самого этого кейса. Этнометодология науки и STS Принято считать, что этнометодология науки мало чем отличается от STS, точнее, от их предшественника - социологии научного знания. Однако такой взгляд на этнометодологию науки упускает ее специфику как сосредоточенной на рассмотрении локальных практик ученых. Эт-нометодологические исследования науки не рассматривают разделение компетенций ученого на социальные и технические, не рассматривают научные практики как конструкции и не принимают социологический аппарат концептуализации, вместо этого предлагая использовать язык изучаемой дисциплины (Корбут 2013). Они рассматривают стабильность, рациональность и наблюдаемость «социальных фактов» как «локальные достижения» (local accomplishments), в то время как в рамках социологии научного знания они рассматриваются в качестве социальных конструктов (Lynch 1993: 265). Подобные, казалось бы, незаметные изменения являются фундаментальными на концептуальном уровне. Предпринимая такое изменение исследовательского подхода постфактум, мы постарались обратить внимание на иные аспекты практики ученых, чем предполагавшиеся изначально. Объект данного исследования был «текучим» и амбивалентным, что приводило к дальнейшему варьированию аналитического подхода. Если изначально предполагалось наблюдение за работой ученого, имеющего собственную научную задачу и выполняющего ее, то в ходе исследования выяснилось, что работа ученого носит в данном случае, прежде всего, педагогический характер. Исходя из этого, мы обратимся к исследованиям институционального взаимодействия (Arminen 2005), в частности к взаимодействию в процессе передачи знаний и навыков в рамках учебного процесса. Необходимо показать, в чем состоит отличительная особенность исследований институционального взаимодействия и почему они важны для нас в данном случае. Исследования институционального взаимодействия представляют собой место пересечения «большого» социального порядка и ситуативного взаимодействия (Arminen 2005: 32). Исходя из этого, можно предположить, что ключевым отличием обыденного взаимодействия от институционального является ориентация взаимодействующих на определенный контекст, обладающий более или менее формальными признаками. Причем разные контексты обладают своими уникальными особенностями. Взаимодействие в поликлинике, суде и на лекции будет иметь отличные друг от друга характеристики, что, в принципе, не является большим открытием. Однако рассматривая институциональный контекст как нечто пред-данное, исследователь сталкивается с проблемой потенциально бесконечного разрастания этого контекста. Например, взаимодействующие могут приписывать друг другу широкий спектр атрибутов - гендер, возраст, статус и т.д. Это, в свою очередь, препятствует выявлению релевантных для интеракции аспектов, а также непосредственному исследованию ее эндогенной, т.е. внутренней, динамики (Drew 1992: 19). В связи с этим важным становится требование «процедурной релевантности контекста» (Schegloff 1991), т. е. фокусирования внимания исследователя на наблюдаемых характеристиках взаимодействия и на тех его аспектах, которые являются конститутивными и регулятивными для его осуществления. Следуя этой логике, «контекст» необходимо рассматривать одновременно как проект и продукт взаимодействия - он производится локально (Drew 1992: 21). Именно поэтому «значение коммуникативного действия каждого говорящего дважды контекстуально, будучи сформированным этим контекстом и вносящим в него изменения» (Heritage 1984: 242). Иначе говоря, институциональный контекст - это такое же «локальное достижение». Он производится в результате некоторой работы участников взаимодействия. В свою очередь, порядок взаимодействия является интерфейсом между институцией и взаимодействующими внутри нее (Arminen 2005: 10). Рассматривая различие обыденной и институциональной интеракции, важно подчеркнуть, что они относятся к двум разным системам обмена речью: аллокационной и преаллокационной соответственно. Суть первой заключается в ситуативном распределении очередности, контента, размера череда и количества говорящих, их свободной вариации. Вторая система имеет предзаданные конвенциональные ограничения касательно указанных выше элементов (Sacks, Schegloff, Jefferson 1974: 729-730). Также признаком обыденной речи является контин-гентно складывающийся контекст взаимодействия - каждая следующая реплика может изменить контекст настолько, что, например, светская беседа станет допросом (Arminen 2005: 48). В свою очередь, институциональное взаимодействие в этом смысле не контингентно - оно предзадано и в какой-то степени стратегично. Рассматриваемый в данной работе случай - ситуация учебного процесса - по своему определению должен относиться к преаллокационной системе. Однако, как мы покажем далее, это не очевидно. Подобно другим институциональным интеракциям учебный процесс предполагает достижение некоторой формальности или «чувства формальности» (McHoul 1978: 185). Однако средства достижения подобного чувства в данной ситуации отличаются от средств в других институциональных окружениях. В частности, можно выделить несколько основных элементов, повторяющихся регулярно: педагогический цикл, пространственная организация, починка (repair) и корректировка. Педагогический цикл состоит из инициирования, ответа и оценки и в целом характерен для учебного процесса (Mehan 1979). Компетентность учащегося, в свою очередь, заключается в одновременном соответствии формы и содержания его реплики этому циклу инициации-ответа-оценки, задаваемому учителем. Пространственная организация предполагает и в то же время учреждает интеракционное неравенство между участниками. Крайней формой подобного неравенства является лекция, когда один участник, находящийся как бы на вершине треугольника, располагается напротив остальных участников, рассаженных по рядам, параллельным основанию этого треугольника. Участник на вершине обычно имеет право и обязательство на длительную речь, в то время как сидящие по рядам - лишь право слушать (Kendon 1973: 39). Иначе говоря, пространственная организация, несомненно, влияет на то самое чувство формальности, достигаемое во время учебного процесса. Починки характерны не только для взаимодействия внутри учебного процесса, но служат важным интеракционным ресурсом в нем, являясь инструментом восстановления интерсубъективного понимания между преподавателем и учениками. Корректировки, в свою очередь, имеют целью поддержание локального социального порядка. Все эти характеристики говорят о том, что «институциональность и социальные отношения встроены в текстуру разговора и организованы с помощью нее» (Baker 1997: 47). Как будет показано далее, рассматриваемый кейс неоднозначен - он не может быть с уверенностью назван примером институционального взаимодействия, как, например, заседание суда или лекция в вузе. Он представляет собой, скорее, пример квазиформального взаимодействия, которое имеет признаки первого, но не сводится к ним. Соответственно, мы сфокусируемся на том, чтобы показать, каким образом производится локальный порядок внутри институционально амбивалентной практики. Мы рассмотрим наш случай через призму нескольких частично накладывающихся друг на друга «измерений институциональности» интеракции: организации очередности, общей структурной организации интеракции, организации последовательности (sequential organization) и интеракционной асимметрии (Drew 1992). STS-школа: предварительные замечания В конце июня 2017 г. я принял участие в международной STS-школе под названием «Anthropology of science and modern forms of life: Camera ethnography approach in studying laboratory practices», проходившей на базе Томского государственного университета и исследовательской станции «Кайбасово». Основной задачей школы была реализация этнографической работы исследователей с целью изучения практик ученых естественно-научного направления, их фиксация, описание в терминах акторно-сетевой теории и анализ (Поправко, Чалаков 2017). Предполагалось, что участники сделают STS-исследование в духе работы «Лабораторная жизнь» (Latour, Woolgar 1986). Поэтому полевой этап школы предваряли несколько дней лекций и семинаров, посвященных истории STS, методологии ранней акторно-сетевой теории, исследованиям лабораторий, а также видеоэтнографии. Парадигмой школы была акторно-сетевая теория в ее «ортодоксальном» варианте (Callon 1986; Latour 2005), что, безусловно, накладывало определенные ограничения на возможные подходы к исследованию. Приоритет отдавался прослеживанию и описанию «цепи перевода» с помощью визуальных методов, а именно Camera Ethnography, суть которого заключается в использовании видеокамеры в качестве некоторого указательного инструмента, фоторучки (picture-pen), а не просто записи всей ситуации и ее последующего анализа (Mohn 2005). То есть изначально перед исследователями не ставилась задача показать, каким образом производится и поддерживается локальный социальный порядок в ситуациях совместной работы антропологов и ученых естественно-научного направления. Этим можно объяснить фокус внимания и ракурсы съемки, очень выборочно отражающие происходящее, что не совсем удобно для описания конституент социального порядка в рассматриваемой ситуации (см. рис. 1). На полевом этапе школы, проходившем в исследовательском лагере на станции Кайбасово, всех участников разделили на рабочие группы и прикрепили к разным коллективам ученых - биологам, гидрологам, ботаникам и т.д. Участники должны были наблюдать и описывать практики этих ученых. Почти все группы ученых имели свою конкретную задачу. Гидрологи прибыли с целью забора проб воды и почвы, ботаники - с целью изучения фиторазнообразия района и т.д. Иначе говоря, прослеживание цепи медиаций в этих случаях возможно, поскольку эти практики предполагают некий результат в виде репрезентации реальности: отчет, фотодокументацию или же статью. Ученые решали свои задачи все пять дней, которые длилась школа. Я попал в группу, прикрепленную к зоологу В. Н., у которой, как решила наша интернациональная группа в ходе исследования, не было специальной исследовательской задачи. На протяжении четырех дней она посвящала нас в работу с биоразнообразием данного района - поймы Оби. Сразу стоит отметить, что наши встречи с В. Н. имели характер занятий, а не этнографического наблюдения за научной практикой в том смысле, в каком она представлена у Латура и Вулгара. Интересным здесь является то, что в процессе наблюдения за зоологом, наша группа начала сомневаться в определенности объекта исследования. Зоолог видела свою миссию на этой школе как сугубо педагогическую, что, во-первых, проявлялось в ее работе, а во-вторых, стало известно из интервью, которое мы у нее позже взяли. Изначально мы хотели выяснить, каким образом она структурирует действительность, делает ее видимой для себя и виртуозно ориентируется в ней. Однако позднее мы поняли, что объектом исследования являемся мы сами, потому что практики, производимые В. Н., имели своей целью научить нас структурировать действительность так же или близко к тому, как это делает она. Например, находясь в «поле», т.е. за пределами станции, понимать, какая зона является экотонной, т.е. представляющей собой пересечение двух биотопов - участки, однородные по абиотическим факторам (Одум 1975). Иначе говоря, подобная задача является не исследовательской, а педагогической. Это подразумевает, что «цепь перевода» здесь весьма трудно поддается артикуляции и, тем более, непосредственному наблюдению и изучению. Итак, наши встречи в целом носили характер занятий. В аналитических целях все встречи можно разделить на три вида: выходы в «поле», т.е. за пределы станции, лекции и практические занятия. На встречах первого вида мы расставляли ловушки для животных - так называемые «живоловки» и ловушки Геро, а также рыли ловчие траншеи и собирали пробы биоразнообразия из водоема. Встречи второго вида были оформлены как ситуации учебного процесса - и материально, и дис-курсивно. Имеется в виду, что были проектор и экран, с помощью которых В. Н. показывала учебные слайды на различные темы, выбор которых может показаться довольно произвольным (репродуктивные системы мужчины и женщины, разнообразие видов птиц на территории Западной Сибири, первая помощь при укусе змеи и т.д.). Однако это взаимодействие не осуществлялось в строгой институциональной форме, предполагающей выполнение четких правил. Например, пространственная организация рассадки слушателей не была установлена заранее по нескольким причинам: во-первых, не было подходящего помещения, где можно было бы организовать занятие согласно формальным предписаниям, а во-вторых, как будет показано далее, взаимодействие в целом имело квазиформальный характер (Arminen 2005: 47). Встреч третьего типа было меньше всего. Точнее, одна. Эта встреча была посвящена «первичной обработке» пойманных существ, в частности мыши-бурозубки и жуков-мертвоедов. Логически она является продолжением встреч первого типа, проходивших за пределами станции. Мы сосредоточим свое внимание именно на этой встрече, так как, по нашему мнению, она имеет неоднозначный характер, выражающийся в наличии элементов институциональной и обыденной (mundane) интеракции. На этой встрече В. Н. просит участников группы ей ассистировать, пока она рассказывает и показывает, что и как необходимо предпринимать в подобных ситуациях. Учебный процесс Все участники группы и зоолог собрались на веранде. На столе лежит инвентарь, необходимый для демонстрации первичной обработки животного, среди которого крупное увеличительное стекло, пакет с зубными щетками и резинками для денег, тара для помещения в нее раствора и животного, специальные белые хлопковые мешочки для транспортировки животных и насекомых, пинцеты. В. Н. берет мешочек, в котором лежит мертвая бурозубка, извлеченная из ловушки Геро. Все пятеро студентов увлеченно наблюдают за этим, расположившись вокруг преподавателя. Кто-то фиксирует происходящее на фото и видео. В. Н. открывает мешочек и просматривает его на предмет паразитов. Затем она достает пинцетом бурозубку из мешочка и кладет ее на листок бумаги, который ей дали ассистенты. В ситуации участвуют шесть человек: один преподаватель (В. Н.) и пятеро учеников (В., К., Ди., Дэв., А.). Во время разворачивающейся ситуации я снимал происходящее на видео. Этим можно объяснить мои столь немногословные реплики. Рис. 1. Строка 5-го транскрипта В первом приближении можно сказать, что ситуация чрезвычайно насыщенная и «плотная». В качестве говорящих выбирают себя практически все участники, кроме А., однако Ди. говорила с А. в строке 10. Очевидно, что «оживление» почти всех участников вызвано извлечением мертвой бурозубки из мешочка. Внимание В. Н. сосредоточено на мешочке, а затем на бурозубке. Паузы в ее речи в начале отрывка связаны с тем, что она пытается открыть мешочек и расправить его, тем самым сделав мышь видимой для участников. Рассмотрим ситуацию с точки зрения некоторых «измерений институциональности», которые были упомянуты выше. Организация очередности. Взаимодействие подобного рода должно относиться к преаллокационной системе обмена речью. Однако здесь налицо гибрид преаллокационной и аллокационной систем, что проявляется в наличии способов распределения очередности, присущих обеим системам. Это особенно видно в строках 8-12, где В. Н., несмотря на последовательный выбор себя в качестве говорящих почти всех участников ситуации, не прерывает свою речь и продолжает говорить, тем самым утверждая собственную институциональную позицию преподавателя, имеющего привилегию распределения очередности. Как видно, организация очередности не имеет строгих формальных рамок, какие есть, например, в ситуации урока в школе (Arminen 2005: 117-129). Преподаватель не стремится научить участников каким бы то ни было «правилам игры», например поднимать руку или спрашивать разрешения для того, чтобы задать вопрос. Иными словами, преподаватель не имеет цели дисциплинировать участников. Это говорит о данном взаимодействии как ο квазиформальном. В строках 8-12 происходит сразу несколько параллельных разговоров. В строке 8 К. пытается что-то сказать по поводу мыши, которая неподвижно лежит на листке бумаги. Как видно далее, это должен был быть вопрос о том, действительно ли мышь мертва. Скорее всего, она пыталась адресовать этот «вопрос» В. Н., так как последняя может обладать достаточными компетенциями для подтверждения или опровержения этого. В. Н. начинает говорить, что нужно делать с мешочком после извлечения животного, в результате чего К. перестает говорить, подтверждая институционально обозначенный авторитетный статус преподавателя. К. пыталась задать вопрос во время паузы в речи В. Н., однако, начав говорить, была вынуждена «уступить» В. Н. Преподаватель начинает говорить, но Ди. распознает «вопрос» К. и выбирает себя в качестве обладающего необходимыми компетенциями для определения статуса животного. Она сознательно говорит параллельно с преподавателем, что, безусловно, неприемлемо для ситуации учебного процесса, где порядок очередности задан изначально. Это может быть связано с разницей ожиданий касательно происходящей ситуации и соответствующей ей разницей в способах адаптации к данной ситуации. Этнографическая работа и наблюдение, в рамки которых изначально были помещены участники STS-школы, играющие ввиду некоторых обстоятельств в данном конкретном случае роль учеников, предполагает некую метапозицию по отношению к происходящему. Изначальная позиция наблюдения за действиями ученых и позиция ученика являются конфликтующими между собой в силу разнящихся интеракционных прав. Имеет смысл напомнить, что все участники непосредственно наблюдают за происходящим. Несмотря на ответ Ди., К. снова пытается осуществить изначальную интенцию и задает вопрос, мертва ли мышь, опять же, параллельно с речью преподавателя. Интересно, что теперь К., которая секундой ранее подтвердила статус преподавателя, нарушает предписанный порядок. Возможно, это связано с тем, что Ди. нарушает его, отчего он теперь не кажется незыблемым. Точнее, факт отсутствия санкций за нарушение очередности, предписанной институциональным оформлением, дает К. возможность последовать примеру Ди и говорить параллельно с преподавателем. В данном случае становится неочевидным, кому адресован вопрос. Ди участвует сразу, как минимум, в двух разговорах, разворачивающихся на фоне речи преподавателя. Первый - это ее ответ К., второй - это обращение к А., наблюдаемое в строке 10 и зафиксированное как неразборчивая речь. Моя утвердительная реплика является ответом на вопрос К. и служит в качестве починки, однако, об этом далее. Параллельное осуществление шести разговоров, из которых два так и не были осуществлены как интеракции (К. с В. Н., Ди. с К., Ди. с А., В. с К., Дэв. со всеми и В. Н. со всеми) говорит ο том, что данное взаимодействие относится к аллокационной системе обмена речью, характерной для обыденной речи. Интересно, что после того, как все, кроме А., вступили в разговор и нарушили предполагаемый порядок очередности, он вновь восстанавливается в строке 12, полностью возвращаясь в строке 14. После относительно длительной паузы в строке 12, Дэв. производит починку, однако она реализуется параллельно с началом речи В. Н., которая не прерывает ее, а продолжает говорить, в то время как Дэв. произносит до конца свою фразу, за чем следует концентрация внимания на словах преподавателя - практика производства тишины (Arminen 2005: 120), характерная для учебного процесса как вида институционального взаимодействия. Структурная организация. Касательно структурной организации данной ситуации можно сказать, что она имеет цикличную форму. Упорядоченное согласно институциональным правилам начало - пре-аллокационная система (п), «рваная» середина, где этот порядок «рассыпался» на несколько интерперсональных интеракций - аллокационная система (а), и вновь упорядоченное окончание - преаллокационная система (п). На протяжении всей встречи таких моментов, когда система обыденной речи «прорывалась» сквозь институциональные рамки, было несколько - приведенный фрагмент не является единственным. Рассматривая всю встречу в целом, можно сказать, что взаимодействие имело цикличный характер, так как таких циклов («п - а - п») было несколько. Организация последовательности. В приведенном фрагменте большое значение играют починки. Во-первых, все мои собственные реплики являются починками, но в разных разговорах. Два раза из трех я «отвечаю» В. Н. на ее рассказ ο том, что нужно делать. Тем самым я стремлюсь поддержать интерсубъективное понимание и показать свое соучастие несмотря на то, что я снимаю видео и мое внимание обращено на экран, а не на непосредственно наблюдаемые действия В. Н. Она и сама производит починку в строке 4, помогая ученикам сориентироваться, что нужно сделать. Она видит, что после первой просьбы никто из участников не начал двигаться в сторону листка, что дает ей повод повторить свою просьбу. Однако эмфаза на слове «листочек» и факт почти полного отсутствия паузы между итерациями подразумевают как можно более быстрое выполнение ее просьбы, так как это критично для всей демонстрации. Лист бумаги, как это ни странно, является конститутивным элементом всей практики в данном случае, поскольку последняя без него не может быть произведена. Из пяти реплик В. Н. в трех повторяется фраза «просматриваем мешочек». Между первой и второй итерацией существует разница в контексте, так как в первом случае мышь еще находится в мешочке, тогда как во втором - уже нет. Однако можно сказать, что в третьем случае эта фраза является починкой, имеющей своей целью восстановить порядок и интерсубъективное понимание между преподавателем и участниками. В строках 9-10 видно, что Ди., начав говорить параллельно с В. Н., сбивает последнюю, что приводит к заминке в ее речи. Это момент столкновения двух систем обмена речью. Однако нельзя с уверенностью сказать, что подобное столкновение вызвано разницей в ожиданиях, поскольку подобная разница не эксплицируется в данном фрагменте. Интеракционная асимметрия. Поскольку мы выяснили, что взаимодействие в ситуации следует циклу «п - а - п», можно сказать, что интеракционная асимметрия ярко выражена в начале и конце приведенного фрагмента. Однако все же трудно утверждать, что она отсутствует в середине, так как количество полномочий у сторон (В. Н. и участников) неодинаково. Участники не начинают учить В. Н. предпринимать что-либо в какой-либо жизненной ситуации - они осознают свое «подчиненное» положение. В первом приближении речь В. Н. мо-нологична, что осознают участники и в связи с чем позволяют себе лишь некоторую спонтанную экспрессию в связи с увиденной мертвой мышью. При этом интеракционная асимметрия, наблюдаемая в течение всей ситуации взаимодействия, выступает маркером институциональной интеракции. Конечно, при внимательном рассмотрении становится ясно, что речь В. Н. носит двунаправленный характер, так как она формируется исходя из общего контекста взаимодействия, а также формирует его. Проанализировав фрагмент, мы столкнулись с некоторыми напряжениями. Наиболее интересным нам видится напряжение между организацией очередности и интеракционной асимметрией. В соответствии с первой, взаимодействие в середине фрагмента устроено согласно аллокационной системе обмена речью, что говорит ο нем как об обыденном. Вторая же говорит ο наличии и нестрогом, но все же следовании интеракционной асимметрии между участниками и преподавателем и, тем самым, поддержании институционального статуса взаимодействия. Участники признают асимметрию, что уже является большим вкладом в поддержание социального порядка в данной ситуации. Во фрагменте почти нет контингентности контекста в ходе интеракции, что указывает на предзаданность условий интеракции и, как следствие, ее формальность. Трудно точно оценить этот параметр, однако, можно сказать, что взаимодействие построено вокруг определенной практики и материального оснащения, у него также есть цель. Все это говорит ο невысокой вероятности контингентного изменения контекста взаимодействия - так или иначе оно будет следовать определенной канве. Таким образом, в пользу институциональности данного взаимодействия выступают интеракционная асимметрия и отсутствие контин-гентности контекста, в то время как в пользу его обыденности - борьба преаллокационной и аллокационной систем обмена речью. Поскольку здесь есть элементы обеих систем обмена речью, можно сказать, что данный кейс является примером квазиформального взаимодействия. Вместо заключения: возвращаясь к этнометодологии науки и STS Подведем некоторый итог и суммируем все, что нам удалось выяснить. Мы показали, что приведенная практика институционально амбивалентна, т.е. в ней есть как элементы обыденной интеракции, так и элементы формальной, институциональной интеракции. Во-первых, в ней в буквальном смысле сталкиваются преаллокационная и аллокационная системы обмена речью: взаимодействие следует циклу «п - а - п», в середине которого оно приобретает характеристики обыденного, в частности, ситуативное распределение чередов. Во-вторых, на протяжении всего взаимодействия сохраняется интеракционная асимметрия, что является признаком его формальности. В-третьих, на протяжении всего взаимодействия отсутствует (или практически отсутствует) кон-тингентность контекста, что также характерно для формальной институциональной интеракции. Все эти характеристики говорят о том, что в этой конкретной ситуации взаимодействие имеет институциональные ограничения в виде некоего сценария, в частности первичной обработки животного. Наличие подобного сценария является ключевым фактором формальности данного взаимодействия, поскольку ограничивает возможные способы поведения участников, но при этом не предполагает конкретных желательных, с чем и связана неоднозначность ситуации. Иначе говоря, рассмотренный кейс интересен именно тем, что «формальность» взаимодействия в нем достигается не за счет следования определенным предписаниям, а за счет ограничения возможных вариантов поведения в связи с наличием сценария действия и, как следствие, интеракционной асимметрии. Теперь стоит кратко обсудить философские импликации изменения теоретической оптики. Как было замечено ранее, главной задачей участников школы на полевом этапе было прослеживание цепей перевода в процессе производства научного знания. Иначе говоря, в фокусе внимания должна была быть социоматериальность и ее достижитель-ный характер - нечеловеческие актанты и то, как именно они участвуют в создании асимметрий, приводящих к производству определенных репрезентаций реальности. В рассмотренном кейсе эта фигура может быть встречена в первом типе встреч нашей исследовательской группы с ученым-зоологом, проходивших в «поле». Участники искали подходящую местность, рыли там траншеи и расставляли ловушки, а затем собирали их. Это напоминает работу по транспортировке образцов лесной почвы, описанную Латуром (Latour 1999), - там также транспортировке и анализу предшествует операция маркирования местности как релевантной для дальнейших действий. В этом смысле цепь перевода в нашем случае просто не была доведена до логического завершения - отчета, документации, статьи или какой-либо другой формы репрезентации реальности, вместо этого остановившись на этапе первичной обработки, за которой должна следовать транспортировка в лабораторию и экспертиза. Последние несколько звеньев цепи перевода как бы выпали из анализа, тем самым подорвав эффективность и целесообразность рассмотрения всего предприятия в оптике акторно-сетевой теории и STS. Это первая причина, по которой данная теоретическая рамка не производит релевантных различений в собранном эмпирическом материале. Она буквально ломается об эмпирический материал, поскольку не предназначена для подобных случаев. Вторая причина заключается в том, что далеко не все встречи могут быть описаны в терминах перевода - помимо встреч в «поле» никакие из них больше не представляют собой события медиации в смысле Латура. Понятие перевода ничего не схватывает в том случае, когда производство знания не является приоритетной задачей, а в нашем случае она таковой не являлась - вместо этого главной была задача его передачи. Зоолог пыталась научить нас чему-то вместо того, чтобы выполнять научные задачи. Ее цель была эксплицитно педагогической, а значит, понятие перевода здесь не совсем применимо. Однако цепь медиаций можно считать замкнутой, поскольку данный текст представляет собой некий метаотчет о «науке в действии», субъектом которой была не зоолог, а я сам. Отчет, представляя собой форму репрезентации реальности, отражает работу по производству знания в ситуации, когда изначальные различения - актор, сеть, медиация и другие - не работали, и нужно было сменить теоретическую оптику, чтобы лучше «схватить» изучаемое явление. Так или иначе, это никак не сказывается на предпринятом нами конверсационно-аналитическом исследовании взаимодействия зоолога и участников школы.
Корбут А. Этнометодологические исследования науки: истоки // Эпистемология и философия науки. 2013. Т. 35, № 1. С. 151-166
Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2013
Макиенко О.В. От STS к VSTS: проблема методологии визуальных исследований лабораторных практик и потенциал camera ethnography // Сибирские исторические исследования. 2017. № 4. С. 94-103
Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975
Поправко И.Г., Чалаков И.Х. Следуя за практиками ученых в комплексных экологических исследованиях: осмысление опыта томских летних школ по антропологии науки // Сибирские исторические исследования. 2017. № 4. С. 78-93
Arminen I. Institutional Interaction: Studies of Talk at Work. Franham: Ashgate, 2005
Baker C. Ethnomethodological studies of talk in educational settings // Oral discourse and education. Springer, Dordrecht, 1997. P. 43-52
Ball D.W. ‘The definition of situation': Some theoretical and methodological consequences of taking WI Thomas seriously // Journal for the Theory of Social Behaviour. 1972. № 2 (1). P. 61-82
Ball-Rokeach S.J. From pervasive ambiguity to a definition of the situation // Sociometry. 1973. P. 378-389
Biggs M. Self-fulfilling prophecies // The Oxford handbook of analytical sociology. 2009. P. 294-314
Callon M. ‘Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of Saint Brieux Bay' // Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? / ed. by J. Law. London: Routledge & Kegan Paul, 1986. P. 196-233
Drew P. ‘Contested evidence in courtroom cross-examination: the case of a trial for rape' // Talk at work: interaction in institutional settings / eds. by P. Drew, J. Heritage. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 470-520
Galison P. ‘Visual STS' // Visualization in the Age of Computerization / eds. by A. Carusi, A.S. Hoel, T. Webmoor, S. Woolgar. New York: Routledge, 2014. P. 197-225
Heritage J. Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press, 1984
Kendon A. The role of visible behavior in the organization of social interaction // Social communication and movement. 1973. P. 29-74
Latour B. Circulating reference: Sampling the soil in the Amazon forest // Pandora's hope: Essays on the reality of science studies. 1999. P. 24-79
Latour B. Reassembling the social: an introduction to Actor-network theory. New York; Oxford: University Press, 2005
Latour B., Woolgar S. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. New Jersey: Princeton University Press, 1986
Lynch M. Scientific Practice and Ordinary Action: Ethnomethodology and Social Studies of Science. New York: Cambridge University Press, 1993
McHoul A. The organization of turns at formal talk in the classroom // Language in society. 1978. № 7 (2). P. 183-213
Mehan H. Learning lessons: social organization in the classroom. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979
Merton R.K. The self-fulfilling prophecy // The Antioch Review. 1948. № 8 (2). P. 193-210
Mohn E. ‘Permanent work on gazes: video ethnography as an alternative methodology' // Video-analysis methodology and methods / eds. by H. Knoblauch, B. Schnettler, J. Raab, H.-G. Soeffner. Peter Lang Press, 2005. P. 173-182
Sacks H., Schegloff E.A., Jefferson G. A Simplest Systematics for the Organization of TurnTaking for Conversation // Language. 1974. № 50: 4. P. 696-735
Schegloff E.A. ‘Reflections on Talk and Social Structure' // Talk and Social Structure / eds. by D. Boden, D. Zimmerman. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 44-70
Thomas W.I. The Child in America. New York: Knopf, 1928
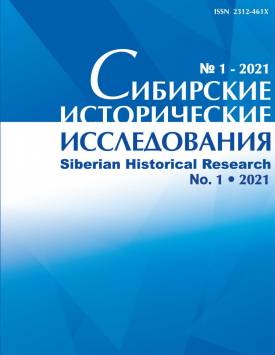

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью