Анализируются процессы, происходившие в локальных обществах Сибири под влиянием этнических депортаций. При всей обширности историографии по депортациям одной из наиболее малоизученных проблем является жизнь и поведение принимающего общества. В фокусе исследования находится индивидуальная и социальная память сельского населения. На основе материалов устной истории рассматривается ряд аспектов - размещение депортированных и проблемы их вселения для местного населения; восприятие сибиряками принудительных переселений и попытки объяснить происходящее; формирование образов депортированного населения и причины принятия/непринятия их «инакости»; факторы, влияющие на установление контактов и повседневное общение, особенности формирования личной памяти. На примере сельского населения Алтайского края выявляется разное отношение к этническим спецпереселенцам в предвоенное, военное и послевоенное время. Утверждается, что на сибирское общество влияли традиции добровольных и принудительных переселений. Показано влияние условий жизни на взаимоотношения тех и других, обусловленных для принимающей стороны не только войной, но и предвоенными раскулачиваниями и коллективизацией.
“There used to be different nations here”: deportations of the years 1939-1949 in the memory of Siberian rural populatio.pdf Массовые депортации на основе принадлежности людей к той или социальной или этнической группе в Сибирь в XX в. были частью государственной практики привлечения дополнительных трудовых ресурсов и в некоторой степени формами освоения территорий. В годы Великой Отечественной войны Сибирь стала большой площадкой по обеспечению воющей страны сырьем (лесом, углем), оружием и боеприпасами и т.д. Потребности в рабочей силе для сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования в условиях мобилизации местного трудоспособного населения отчасти восполнялись трудом депортированных. Эти положения соотносятся с концепцией «политики населения», предложенной в работах Питера Холквиста. При таком подходе масштабное применение советским государством насилия к различным социальным и этническим группам можно рассматривать как политику, направленную на «отсечение злостных элементов» (Холквист 2011; Иванов 2015) и на обеспечение развития экономики малонаселенных территорий. Мобилизация на фронт по Сибири была масштабнее, чем в других регионах СССР. Так, если в целом по стране сельская местность дала армии и промышленности 38% трудоспособного населения, то в Алтайском крае только за два первых года войны трудоспособное население сельской местности уменьшилось на 55% (Богуцкий 2005: 35-36). В 1944 г. число трудоспособных в Алтайском крае составляло 58,7% к уровню 1940 г. (Анисков 1993: 22). Еще показательнее соотношение трудоспособных мужчин и женщин (14-59 лет) перед войной (1939 г.) - на 100 женщин приходилось 82 мужчины, а в 1945 г. - 35 (Рыков 2019: 40). Хронологические рамки исследования охватывают 1939-1949 гг., от начала массовых этнических депортаций в Сибирь с западных территорий страны - Украины, Белоруссии, Прибалтики до депортаций с территории Армении и Молдавии, а также последующие годы до указа, после которого основная масса сосланных вернулась в места прежнего проживания, кроме немцев, которым до 1972 г. это было запрещено. Полевые исследования проведены на территории Алтайского края (образован в 1937 г.). Он занимает значительную часть юга Западной Сибири с благоприятными природно-климатическими условиями и развитым сельским хозяйством. Даже в конце Великой Отечественной войны доля сельского населения края оставалась значительной - 74%. Для понимания происходящих под влиянием депортаций процессов в принимающем преимущественно сельском обществе и особенностей адаптации сосланных важно учитывать несколько факторов. Во-первых, аграрная экономика региона специализировалась на хлебопашестве с вспомогательным значением мясомолочного животноводства с преобладанием крупного рогатого скота. Активно велись лесозаготовки. Во-вторых, переселения в Алтайский край были регулярными, начиная с присоединения его территорий к Российской империи. Местные сообщества постоянно вбирали в себя новые миграционные потоки. Недаром все сибирское население делится на старожилов и переселенцев. Границы между ними были подвижны и более значимы на начальном этапе каждой миграционной волны, медленно стираясь по мере появления новых переселенцев. Одни становились сибиряками, другие возвращались к местам исхода. Почти 90% составляли русские. Самыми масштабными потоками стали депортации военного времени (1939-1949 гг.). Сибиряки были не только очевидцами депортаций, но и активными участниками организации совместного проживания после вселения депортированных в их села и избы. Актуальность исследования отражает ситуацию в отечественной истории. В постсоветских исследованиях в России основное внимание уделялось вопросам организации депортаций в места проживания. В устных историях больше внимания уделялось первым впечатлениям о прибывших, знакомству с депортированными и их распределению в дома старожилов и на работы, а рутинная повседневная жизнь отражена недостаточно. Примечательно, что избирательность травматической памяти в рассказах сибиряков, как и у калмыков, отражается в том, что «повествование о травматическом по хронометражу пропорционально драматизму описываемых событий: день 28 декабря 1943 г. занимает почти треть всего рассказа, дорога в Сибирь и трудности первого года - примерно половину, а на последующие 12 лет может остаться совсем немного» (статья Э.-Б.М. Гучиновой в данном номере). Расселение депортированных привело к тому, что за короткое время русские села Алтайского края превратились в полиэтнические сообщества с населением, травмированным депортацией и войной, жизнью в условиях скученности, тесноты, бытовой неустроенности, борьбы с голодом и холодом. Используемые в данной публикации материалы интервью сельского населения Алтайского края как раз касаются тех 12 лет, практически вытесненных из памяти депортированных, как видно на примере калмыков. В памяти последних на первом плане оставались события 28 декабря и дорога в Сибирь. Опубликованные другими исследователями воспоминания о проживании в Сибири не так многочисленны (Гучино-ва 2020а). Недостаток внимания исследователей к сибирскому принимающему обществу в период депортаций в определенной степени объясняется проблемами всей отечественной историографии и сибирской в частности, начиная от неопределенности контура самих проблем сибирского общества в 1939-1950 гг. и заканчивая отсутствием проработанной терминологии. Например, как назвать акты принудительного вселения депортированных в избы, в которых живут люди - «вселение», «водворение», «размещение», «расселение», «подселение»? Как называть принимающее сельское общество - «сибиряки», «русские»? В ряде публикаций автора предпринимались попытки найти подходящие синонимы (Щеглова 2008) - «непрошенные гости» и «вынужденные хозяева», «этнические депортанты» (1939-1949 гг.) и «принимающие сельские общества». Попытки автора использовать определение «принимающее сибирское общество» также нельзя назвать удовлетворительными, так как оно само было неоднородно, как в этническом, так и в социальном плане. Остается проблема и в названии депортированного населения. Концептуально данное исследование опирается как на отечественные (Гучинова 2020б; Эппле 2020), так и на зарубежные исследования (Дуглас 2000; Эткинд 2013; Ассман 2014) в области социальнокультурной антропологии. Автор исходит из того, что участниками изучаемого процесса были две массовые группы - принимающая сторона и прибывшие в разное время спецпереселенцы. Несмотря на разный статус сибиряков и депортированных, между ними было много общего по той причине, что «государство колонизовало народы, включая и тот народ, который дал этому государству его загадочное название» (Эткинд 2013: 8). Об этом говорят воспоминания сибиряков, которые сравнивают свои права с правами высланных. Прежде всего, они видят общее в ограничении свободы передвижения. У спецпереселенцев - вследствие предписания, запрещавшего покидать районы расселения, подведомственного одной спецкомендатуре. У местных колхозников - вследствие отсутствия паспортов. Вот как уравнение прав и возможностей сельского населения с депортированными представляет респондент: ...как относились [к нам] немцы? Нормально. Они ж потом поглядели, если бы мы жили, там богато все. А то ж, все как говорится, что они жили бедно, что мы жили также. Паспортов не было. Никуда ж не уедешь (Архив… 2019: Лашаков В.Ф., 1936 г.р.). В устных свидетельствах сибиряков рефреном звучит мотив подневольности, и не только в возможности передвижения или смене местожительства, но и в выборе хозяйственной деятельности, и в ограничении поголовья скота в личном подсобном хозяйстве, и в посуточной занятости на колхозном производстве с оплатой «палочками» (трудоднями). Они [немцы] ж тоже поневоле. Потом уже стали говорить, один говорит: «Ну а, мы же не переселенцы, а репрессированные». Я говорю: «Карло, ну что ты репрессированный, что я, говорю, не репрессированный! Что ты ел? Ту кашу, что я. У тебя ешо же мы сало просили, хотя ты репрессированный». Он водовозом был, так свободный [в сравнении с колхозниками, занятыми на полевых работах]. Он частенько выливал этих сусликов1, заготавливал это сало. А нам некогда было (Архив… 2019: Лашаков В.Ф., 1936 г.р.). Бывшие колхозники, которые составляли большинство принимающего населения, сами обозначают критерии подневольности - отсутствие паспортов и денег в колхозе, регламентация личного подсобного хозяйства, обременительные налоги и, как следствие, низкий материальный уровень жизни. Питались в деревне все одинаково. И денег в то время не было. Ни у кого их не было. Устали в колхозе (Архив… 2019: Гончаревская М.А., 1939 г.р.). Нельзя забывать о тех группах сельских сибиряков, которые подверглись раскулачиванию или репрессиям в предвоенное и военное время и относились к категории «врагов народа». Процент таких семей на Алтае был довольно высок вследствие развитого единоличного земледельческого производства. Для них подневольность проявлялась не только в ограничении гражданских прав, но и в повседневных унижениях. Как сказал один старожил, «у нас нет семьи, в которой бы не было раскулаченных или наказанных». Нас преследовали. Меня так и дразнили ребятишки: «Ох ты кулачка, враг народа»... Вот так вот обижали. Приду, плачу, мать погладит по голове: «Ладно не плачь, че ты плачешь». И вот такие случаи были. Тогда же ситец привозили. Мать скажет: «Идите девчонки ситчику хоть возьмете, да я платьёшки вам сошью». Так их вытолкают из очереди! Вытолкают! «Нечего вам, вы дети врага народа». А вот потом-то пришло, что ни в чем не виноваты. Мать-то заплакала, говорит: «Надо было раньше, сколько мы, - говорит, - протерпели, вот это вот оскорблений. Об нас так плохо думали (Архив… 2019: Прибыткова Н.В., 1937 г.р.). Данное исследование основывается на полевых материалах, собранных в 1990-2019 гг. среди депортированных, оставшихся жить в Алтайском крае и местного сельского населения, являвшегося очевидцами депортаций и участниками совместной жизни. Спецификой записанных интервью, как источника, является «взгляд изнутри» на происходящие события. Этот взгляд базируется на личной памяти, которую А. Ассман называет оперативной памятью, так как она находится в обороте (в разговорах, воспоминаниях, пересудах) у трех-пяти поколений: «Личные воспоминания обитают не только в особой социальной среде, но и в специфическом временном горизонте. Этот горизонт в основном определяется сменой поколений… Это период одновременного сосуществования нескольких поколений (обычно их бывает три, в исключительных случаях даже пять), которые благодаря непосредственному общению образуют сообщество совместного опыта, воспоминаний и нарративов. Повествование, слушание, расспросы и пересказ расширяют радиус собственных воспоминаний. Дети и внуки включают часть воспоминаний старших членов семьи в состав собственного опыта, где смешиваются услышанное и пережитое» (Ассман 2014: 22). Респондентов можно разделить по возрасту - те, кто были на момент событий в трудоспособном возрасте, те, кто были подростками, и те, кто были детьми, т.е. речь идет о людях одного поколения, которые имели «непосредственный контакт, знают друг о друге и общаются» (Ассман 2014: 19). В исследовании используются материалы интервью представителей всех трех групп. Первые две группы были записаны в экспедициях 1990-1998 гг., с 2010-х гг. среди респондентов преобладают «дети войны». Их легко идентифицировать как по указанному году рождения, так и исходя из контекста источника: «девчонкой слышала», «мама рассказывала» и т.д. Во всех возрастных группах преобладают женщины. Возрастная и половая принадлежность респондентов влияла на содержание, представления и оценки происходящих событий. Например, в интервью тех, кто в 1939-1950 гг. были детьми, частыми сюжетами являлась школьная жизнь и детский взгляд на взрослые проблемы. В интервью взрослого населения больше описаний производственно-бытовых проблем. При этом сюжеты женщин больше касаются повседневной жизни и взаимоотношений, мужчин - более политизированы. Всего экспедиционными исследованиями2 охвачено более половины административных районов и сел Алтайского края - свыше 30 районов, более 600 из 1 290 сел алтайского региона; в ходе этих поездок было записано почти 4 тыс. интервью3. В этой статье рассматриваются сюжеты, особенно часто встречающиеся в рассказах информантов - размещение депортированных и их вселение, создававшее проблемы для местного населения; восприятие сибиряками принудительных переселений и попытки объяснить происходящее; формирование образов депортированного населения и принятие их «инакости»; факторы, влияющие на установление контактов и повседневное общение; особенности формирования личной памяти. «Несвободные гости» и «вынужденные хозяева»: размещение и вселение депортированных в памяти принимающего населения Принудительные этнические переселения на территорию Алтайского края заняли более десяти лет и проходили как массовыми потоками, так и небольшими группами. В отличие от практики формирования закрытых лагерей в 1930-е гг., в 1940-е гг. депортированные расселялись дисперсно, преимущественно в сельской местности. Эта практика сохранялась на протяжении всего рассматриваемого периода. О дисперсном расселении депортированных говорят следующие цифры. Депортации 1939-1941 гг. с территорий Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, Прибалтики. На 1 января 1941 г. 10,1 тыс. депортированных поляков на Алтае проживали в 44 спецпоселках (Красильников, Сарнова б.д.). Из Мурманска и Мурманской области 675 семей поселили в трех районах (Иосиф Сталин… 1992: 26-27). В июне 1941 г. 9 802 человека из Прибалтики расселили в девяти районах (Сталинские депортации… 2005: 237-238). По данным на 26 апреля 1944 г., состоявшие на учете 1 322 семьи литовцев были расселены в 33 районах края (Сарнова 2013: 158). Депортации 1941-1942 гг. С 11 по 30 сентября 1941 г. 80 454 депортированных немца из Поволжья и Ростовской области расселили по 47 районам края. Всего их переселили от 100 303 (Рем-пель 1996: 70) до 115 000 человек с разных территорий Европейской части СССР (Немцы в Сибири… 2007: 61). Депортации 1944 г. Переселенных 20 858 калмыков расселили в 24 районах (Немцы в Сибири… 2007: 61). По другим данным, Алтайский край принял менее чем за неделю 12 железнодорожных эшелонов, расселив по 23 районам края 22 219 человек (6 167 семей) (Убу-шаев 2016: 439). Депортации 1949 г. - переселение молдаван и гагаузов. Первая группа составила 4 262 человека (Царанов 1998: 28). Депортация 1949 г. Первая волна 16 тыс. депортированных армян была расселена в 27 районах (Аблажей 2017: 8; Аблажей, Харатян 2018: 131). Дисперсное расселение депортированных привело к росту численности населения, не обеспеченного необходимыми предметами жизнедеятельности, усилило полиэтничность сельских обществ. За предельно короткое время местное население столкнулось с проблемами как культурно-бытового, так и психологического плана. С одной стороны, сельское общество привыкло к появлениям «непрошенных» гостей. С другой стороны, эти «гости» отличались своим фенотипом и культурной «инаковостью», а их вселение происходило в условиях продолжающейся войны, определявших особое моральнопсихологическое состояние общества. Тут полно было всяких наций. И калмыки, и немцы. Всякие нации были. А потом все по своим местам уехали, когда освободили их (Архив… 2003: Кузовлева О.Е., 1919 г.р.). А сосланы сюда были?! Мы, вот, дети учились в разных классах: калмыки, немцы, армяне, были поляки, были греки. Ну вот поляки и греки, они недолго здесь жили. Потом они разъехались, а вот немцы, украинцы, калмыки, армяне, мы все, они тут жили долго. До тех пор пока [...] им маленечко стало послабление. Им разрешили возвратиться к себе на Родину (Архив… 2018: Быкова Р.К., 1941 г.р.). Да кого только не было!? Ведь вот в сталинские времена. Чеченцы, они тоже выселялись здесь. Чечены, армяне, калмыки (Архив… 2003: Епихин И.П., 1927 г.р.). Нас переселили, потому что мы немцы. Да, высылали немцев. Переселенцы с Поволжья, немцы, переселенцы с Одессы, тоже немцы, их насильно переселили. Зять мой с Новгорода, тоже немцы. Переселенцы с Армении. Потом переселенцы с Калмыкии. Все это переселенцы, все они тут работали, буду фамилии называть. Борис Очаев. Вот я с ним переписываюсь. Народный артист Калмыцкой ССР и России. А тут литовцы были национальности, эстонцы были, разные национальности были. У литовцев мы купили корову. Первая корова была у нас (Архив… 2018: Шиллер П.К., 1947 г.р.). Стрессовым фактором для местного населения стало вселение депортированных в дома сибиряков. Несмотря на распоряжения о расселении депортированных в пустующих домах (освободившихся от раскулаченных и репрессированных сельчан) и в зданиях соцкультбыта (ясли, садики, дома культуры и т.д.), за неимением подготовленных помещений их, как правило, подселяли в жилые дома. Рыть землянки 4 или «лить дома» для отдельного проживания депортированные стали лишь в последующие годы (Щеглова 2018: 141). Многие вспоминали, как пришлось тесниться из-за подселения в их избы (однокамерное жилище 4 × 4-5 м) многодетных семей депортированных. Часто в однокамерном или двухкамерном доме (пятистенник) размещалось несколько семей. При размещении большого количества людей проблемой становилось выделение спальных мест, мест для хранения вещей и утвари, приготовления пищи в ограниченном пространстве, где каждый квадратный метр уже был занят хозяевами. Логика размещения людей, принудительно оказавшихся под одной крышей в избе, описана М.Е. Харловой (1936 г.р.). В семью ее мамы, состоявшей из четырех человек, включая трех дочерей, подселили пять семей депортированных немцев. Как она говорила, !…эта гадость [депортация] началась… Как начали к нам возить! В первый раз привезли эстонцев. Потом поляков, потом евреи, потом калмыки, немцы уж последние. После этого перестали возить. И тогда народу было много, а жить негде было. И вот подселяли их в каждую избу. Как было страшно! Негде было жить, много людей было. Возили». В ее избе, где «ни кроватей, ни коек не было» лишних, жилье буквально разделили между хозяевами и депортированными по полу. Для этого, по ее словам, «вот так вот делали стежи [межи] - вот тут вот сторона будет моя, я тут буду спать. Кто постарше, у нас мама, на койке. А мы - под этой [кроватью]. Она наша вся, это будет место [хозяев]. Спали так на полу: вот тут, вот так и так [показывает ряды спящих], и эти так же [еще ряд]. А тут выход сладишь [к входной двери] и на кухню [к печи]! (Архив… 2015: Харло-ва М.Е., 1936 г.р.). Материал о подселении депортированных сразу после прибытия в село содержится почти в каждом интервью. Когда их привезли к нам в деревню, ну шли по дворам и расселяли по дворам. Вот допустим, семья есть и вот надо! Негде! Вот у нас они спали на полу, у нас одна избенка была (Архив… 2019: Гончаревская М.А., 1939 г.р.). А размещали так же, кто примет, там и жили. Да, а где ж тогда, все вот эти избушки заняты (Архив… 2015: Молчанова Ф.Ф., 1936 г.р.). В результате в семьях выработались формы совместного пользования жилым помещением, совместных санитарно-бытовых работ. Лишь немногие респонденты говорили о жизни по принципу коммуны, чаще - об установлении очередности: по очереди варили пищу, топили печь, заготавливали топливо и т.д. При этом каждая семья делала это только для себя. У тех же Харловых, с которыми проживало еще пять подселенных семей, у каждой семьи были свои вещи и своя утварь, а печь была общей. Поэтому возникала необходимость договариваться о поочередном использовании печи, освещении жилища и т.п. Описывая быт и приготовление пищи в своей избе, Мария Евдокимовна вспоминала: Господи, там же ни шкафа, ни стола. Где твой уголок, там и посуда твоя. Ящик какой-нибудь стоит для твоих тряпок, и на этом ящичке посуда стоит. Это шесть семей жили. Вот шесть этих надо сварить, очередь занимаешь вперед. У кого побольше дети, постарше, они вперед сварят. А мы [хозяева] уж, [когда] мама моя придет [с работы]. Я была меньше всех, они меня отталкивают. Мама придет, тогда уж сама варит (Архив… 2015: Харлова М.Е., 1936 г.р.). Очередность соблюдалась не только в использовании печи для приготовления пищи, для чего каждая семья самостоятельно заготавливала топливо, но и в организации освещения жилища: Ну, а потом давали керосин. Там по пол-литра керосина давали. Сегодня твоя очередь, ты коптушку зажжешь, а завтра моя, я коптушку эту зажгу (Архив… 2015: Харлова М.Е., 1936 г.р.). «Всякие нации были», «то ли неблагонадежные они были»: толкования и представления принимающего населения Адаптация прибывших в местное сообщество во многом зависела от того, как принимающее население понимало причины депортации. Отягчающими обстоятельствами для принимающей стороны служили обвинительные аргументы. Несмотря на предписания властям вести разъяснительную пропагандистскую работу, местные жители плохо понимали причины депортации. Об этом говорят речевые обороты в материалах интервью. В объяснении причин принудительных переселений респондентами чаще используются выражения в неопределенной форме: «зашевелились», «не доверяли», «боялись», «подозрительные». О калмыках: сослали тоже их. Они там зашевелились где-то. И их сюда сослали. Им не доверяли, война шла (Архив… 2015: Лапутина Т.К., 1921 г.р.). Или: то ли неблагонадежные они были, я даже не знаю почему (Архив… 2016: Гринева Т.А., 1931 г.р.). О чеченцах: Чеченцы эти, они всё на Сталина обижались, что выслали. Боялись, что они воевать будут с нашим русским народом. Наверно поэтому. Нам не объясняли никогда, что и как. Привезли их и привезли, вот и всё (Архив… 2015: Ярошенко М.Н., 1925 г.р.). Об армянах: Ведь эти армяне! Они не все занимались (имеет ввиду обвинения в предательстве) при оккупации. Ну, всех их [др. народы], подозрительных, выслали сюда. В нашем отделении семей, наверное, десять было армян, и только двое умерли своей смертью. А эти все уехали домой, все живы и здоровы (Архив… 2003: Епихин И.П., 1927 г.р.). …сослали вот этих армян-дашнаковцев… армян ссыльных привозили, баш-маковцы (Архив… 2015: Лапутина Т.К., 1921 г.р.). Устные свидетельства показывают, что чем непонятнее были причины выселения, тем доверительнее было отношение к депортированным. В отношении к армянам благоприятным фактором стали аргументы, основанные на далекой от сибиряков партийно-идеологической борьбе, - то, что они от кого-то услышали, их не напугало. Иным было отношение к подселению немцев, которые в 1941 г. численно доминировали в потоках депортированных. Респонденты теряются в объяснении депортации армян и быстро находят слова для объяснения причин появления немцев, что было связано с войной с нацистской Германией, когда само слово «немцы» превращалось в травмирующий фактор. Это проявляется во всех материалах, но наиболее четко общее мнение выражают респонденты-мужчины, более других включенные в общественно-политическую жизнь страны: ...их выселяли, потому что боялись, что они тоже. Это русские немцы. Ну вот и выселяли их. Тогда же и Чечню расселяли, и многих тогда. А немцев на Волге оставишь что ли? Когда немцы к Волге подходили уже. Ясно, выселять надо было (Архив… 2017: Рябоконев И.В., 1934 г.р.). Совпадение депортации немцев с массовым отступлением Красной армии в 1941 г. и масштабными потерями на фронте вели к негативной реакции местного населения на их вселение. В выстраивании отношений с депортированными немцами понадобилось много времени, чтобы преодолеть этот эмоциональный фон. Потеря близкого человека на фронте становилась мотивом негативного отношения к немцам. Причем такое отношение к депортированным немцам чаще всего публично выражали именно овдовевшие женщины. Вот трактористы ребята (немцы) были. Такие работяги. И мы с ними дружили. Любовь крутили. Я прихожу домой. Мама [говорит]: «Ты, однако, с Эрвином ходишь? Отца убили немцы, ты мне еще с ним щураться5 будешь!» Взяла веревку, отходила [побила] (Архив… 2002: Горбатова А.И., 1930 г.р.). Как показывают материалы интервью, полного примирения не произошло, что отражалось на судьбе детей. Коновалов П.И., 1931 г.р., взявший в жены немку, рассказывал об испортившихся отношениях с матерью, которая не могла смириться с его выбором: …отношение к бракам [c немцами] считалось презренным. Мать моя презирала. Потому что муж у нее на немецкой территории [погиб]. Немцы убили. А я немку брал [замуж]. Они ненавидели меня и ее. Приходилось мириться с матерью. Если я ее понимал, значит и мать должна меня понимать. Она даже к детям [от этого брака] относилась хуже, чем к другим детям. Вот сестры дети - она их лучше уважала, чем моих (Архив… 2008: Коновалов П.И., 1931 г.р.). Неприятие немцев старшим поколением усугублялось тем, что немцы так и остались проживать в местах депортации. Это подтверждают и респонденты: ...ну, тоже были вообще-то разные люди. Но большинство были агрессивно настроены против немцев. Эти отзвуки и в 60-х годах еще были. Много таких - «фашисты, фрицы» [называли] (Архив… 2019: Элерт Г.Д., 1935 г.р.). В памяти местного населения остались взаимные угрозы и неприязнь. …немцев пригнали. Они злы были сразу. Вот эта немка Роза. Она говорит: «Силы были бы, я б весь русский народ поперерезала бы» (Архив… 1995: Останина М.К., 1914 г.р.). Память подростков сохранила обиды, подслушанные и подсмотренные у взрослых, а у детей эти отношения часто ограничивались взаимными прозвищами: для немцев - «фрицы», для местных - «русская свинья». Как рассказывала респондент, которой исполнилось 9 лет, когда началась война: …видно в душе была вражда у них, потому что, нет-нет, и услышишь выражение «русская свинья». Значит они чище нас, если они так выражались? Только вот обида с нашей стороны была. Например, слышала, когда я с маленькими детьми с мамочкой ехала в поле работать. А на лошадях ездили, на бричках. И вот, и женщина, о чем-то речь вели женщины, она отвечала: «Скажите спасибо, что вас наш Гитлер не победил, мы бы на вас пахали!» Вот так! Я лично это слышала в детстве. А с какой целью? Почему? Ну, тогда даже не думали об этом, тогда думали только выжить и все. Все вместе. Помогали друг другу выжить. Вот и всё (Архив… 2019: Латышкова П.С. 1933, г.р.). По словам немцев, в основе такого поведения лежала защитная реакция на обвинения, обида на несправедливость, на бесчеловечные условия депортации, что усугублялось пропагандистскими лозунгами, в начале войны подхваченными местным населением. В памяти депортированных немцев разных возрастов сохранилась обида на отношение к ним как во время их транспортировки в Сибирь, так и при приеме в сельском обществе: ...видите, нас обзывали всяко. Поезд стоит, а народу на вокзале много и кричат: «Ой, немцев везут, фашистов везут» (Архив… 2008: Леонидова А.В., 1937 г.р.). Для российских немцев стало шоком, что местное население легко приняло газетные штампы и поверило в карикатурные образы газетных публикаций, перенеся их в жизнь: ...обзывали нас - фашисты. Они [местные] знаете, что нам сказали? Господи, и плач, и смех! В газете тогда про нас пишут и рисуют карикатуры. И когда мы приехали в Савиново, они говорят: «Фу, такие же люди, как мы. А мы думали, как нарисовано в газете, с хвостами» (Архив… 2002: Йорк М.Е., 1923 г.р.). Реакцией на это становились обидные для местного населения оценки - «некультурные», «темные», которые принимались за высокомерное отношение. Тем более, что русские старожилы считали себя находившимися наверху сельского общества, а все переселенцы были ниже их, хотя раскулачивание и раскрестьянивание 1930-х гг. внесли коррективы. Подтверждением служит следующая цитата, которая была «подслушана им у старших»: ...раньше, когда тут сказали, «немцев привезут», что они «немцы с рогами», думали. Ой, раньше народ еще темный был, до войны. Темный русский народ был. Ты знаешь, почему Рождество на Западе в декабре отмечают, а в России в январе? Пока русский сам лапти надевал, мотал портянки - он на две недели отстал (Архив… 2019: Элерт Г.Д., 1935 г.р.). «В общем, они или не хотели, или не приспособлены были вообще»: «инаковость» в памяти местного населения Знакомство местного населения с депортированными начиналось с первых реакций на переселенцев (обобщенный портрет - «сидящие на телеге») и формирования их образов. Особенно яркие воспоминания об инаковости прибывших сохранились в памяти «детей войны». Примером служат воспоминания о калмыках и литовцах. Их отличительность в интерпретации пятидесятилетних респондентов проявлялась в поведении сосланных и их внешнем виде. А калмыки были вообще… плохо. Они нас пугали пацанами: «Хаа, мы щас съедим вас». Они черные же. А мы не видели таких. Мы от них убегать. Ну, они были все вшивые. Привезли. Ну и были на горе там, как говорится, хата, ее сделали под баню. Вот, они одёжку всю там пропарят, прожарят, чтобы вшей этих выжить. Там, на речку придем, а они недалеко жили. Они, если идут на речку за водой: «Ааа!!!». Ну, у них польта были длинные такие. Они не специально пугали нас, ну мы от них тёку. Ну, их много и померло. Раз, голод тут и был И у них не было ничего, наверное, погрызть. Запаса никакого. Ну, мы, русские, сами жили так же, видишь. Ну, некоторые ходили, побирались. Даже и немцы, вот, парни. Ну а как парни? Тоже инвалиды (Архив… 2019: Лашаков В.Ф., 1936 г.р.). О калмыках: грязные, оборванные, голодные. Их привезли из Барнаула или откуда? Везли на лошадях. Мы с ребятишками бегали смотреть. Ну, они ж по-своему и говорили. Как звереныши, так выглядывают… Они были как допотопного вида калмыки эти. Как их везли?! Они умирали, раздетые почти, зимой. У нас там школа в Ракеше была, туда их поместили (Архив… 2016: Гринева Т.А., 1931 г.р.). О литовцах: …[литовцев] заставили готовить дрова. Сплавом лес приплыл - отоплять больницы, школы, жилье. Дак, двое на заднице сидят - пилят [бревно]. Дергают эту пилу. А третий [литовец] - зонтик над ними держит. В общем они или не хотели, или не приспособлены были вообще. Не знаю (Архив… 2017: Королева В.В., 1931 г.р.). Последний отрывок показывает, как уязвленные чувства, в том числе, под влиянием отличий в повседневных практиках, местные жители компенсировали насмешками над неприспособленностью этой группы депортированных к сельской жизни. Ведь сама информантка была включена во все виды домашних и колхозных работ с 12 лет: ...наша баба вилы возьмет и копну подденет… метали [сено] все. Мы с мамой вечерами, поздно, пойдем, вот эти кусты обкашивали. Накосим. Я косила вовсю. А потом натаскаем, жерди подсунешь - палки под капешку, и наносим до половины. И я на стог [встану], а она метать. А что из их [литовцев-мужчин] [толку]? (Архив… 2017: Королева В.В., 1931 г.р.). Память принимающего населения показывает, что «инаковость» могла служить травмирующим фактором и вести к обособленности депортированных, что воспринималось местным населением болезненно. О поляках вообще особый разговор. Они были либо музыкантами, либо просто все такие музыкальные. У них в клубе оркестр был - скрипка и мандолина. Они держались обособленно. Женщины такие нарядные, красивые, ухоженные, мужчины очень чисто одевались, у них эти тройки были. С собой привезли (Архив… 2004: Хроменко Н.В., 1947 г.р.). Греков я помню. Они, особенно женщины, уже в то время были нарядными. Господи, кто [тогда] ходил в лодочках лакированных? А они в лодочках лакированных! А мы, дети, бегали смотреть на эти лодочки. А потом ходили вот так, имитируя эти лодочки (Архив… 2018: Быкова Р.К., 1941 г.р.). Очевидно, принимающее население замечало и пыталось объяснить непохожесть прибывающих переселенцев. При этом эмоциональное напряжение могла спровоцировать разница в бытовой культуре и повседневном поведении, а также наличие материально-имущественных отличий. Сибиряки, например, отмечали, что немцы приезжали со швейными машинками, керосиновыми лампами и др. Респонденты пытались для себя определить причины такой разницы. Их предположения часто связаны с крестьянскими представлениями, для которых маркерами инаковости были «культурность», «богатство», связанное с городской культурой или этническими традициями. Немцы, правда, вот они, по культуре в это время были выше русских, почему, потому что они с городской местности, а здесь сельская местность была. Я так наблюдала, что они выше культурой были. Может, потому что они семьями приезжали, а наши-то, как только в сорок первом всех мужчин на фронт отправили, в нищете все были. Я начинала учиться в это время. Семья большая была, без отца. Дома нечего было абсолютно кушать. Очень тяжело выжили, страшно. Им, конечно, легче было. Они с мужчинами приехали все. А у нас женщины в возрасте, мы все на полях были. Все время, пололи, пахали. Лошадей уже не было, всех на фронт. Всё на фронт, все машины, все трактора. Всё для фронта, всё для победы. Вот и всё (Архив… 2019: Латышкова П.С., 1933 г.р.). …армяне побогаче были. В то время, вы знаете, зайдешь, у них такие ковры были. У нас понятия не было еще о коврах этих. У нас армянин, который в школьном дворе жил, у него было четыре сына, и один умер. Туберкулез у них пошел у всех. Они его похоронили на первом кладбище, на нашем, у деревни прямо и поручили женщине ухаживать за могилой. И они каждый год ей слали посылки, чтобы помянуть его. Армяне приезжали, у них были матрасы, вот такие толстые, шерстью наполненные. И потом они здесь их распаковывали и продавали эту шерсть. Овечья, вот. Но она отличалась от нашей, наша шерсть сбивается, садится, а ихняя нет. И у них покупали на одеяло, стегали одеяла с их шерсти, это они вот распродавали свои матрасы (Архив… 2015: Лапутина Т.К., 1921 г.р.). Изменить первые впечатления или закрепить сформировавшийся образ смог совместный труд. Примером является эволюция отношений с калмыками, произошедшая в результате своеобразного «прозрения». Интерпретации респондентов показывают пришедшее со временем понимание базовых компонентов образа жизни депортированных калмыков, причем высокая смертность калмыков стали поводом для жалости, сочувствия. Уже в наши дни многие поддерживают отношения с семьями калмыков, вернувшимися на родину. Осознание и принятие инаковости калмыков отражается в следующем нарративе: ...калмыки, тоже работали. Но они очень тяжело переносили этот климат. Неприспособленные к нашему климату и к нашему труду. Им нужно было степь, овцы. А у нас-то все-таки было другое животноводство… Они часто болели, была смертность среди них. Они, конечно, не похожи по психологическому укладу на нас. Они какие-то более свободолюбивые. Они знаете, любили пасти скот, овец пасти. Они как-то любят степь. Они в степи уходили. Им вот нужна была ширь, свобода. У меня мама была очень добрая женщина. Они же голодные были, есть нечего было. В то время [советское], конечно, я бы это не рассказала. Сейчас это скажу. Вот этот директор [совхоза] Колупаев, он скажет моей маме [она была завскладом]: «Марина, ты уйди со склада, минут на 15 пораньше с тем, чтобы они в карман ну хоть три-четыре картошечки взяли, а мы, говорит, потом спишем, что они сгнили». Годы такие были, что даже кушать-то было нечего, и поэтому, кто как мог, помогал друг другу. И вот они жили на сусликах. Сусликов тогда же много было. Калмыки их вылавливали и кушали мясо этих сусликов. Ну, между прочим, и русские ели (Архив… 2018: Быкова Р.К., 1941 г.р.). Высокая смертность калмыков в новых для них условиях воспринималась местными как несправедливость. Если голод и холод были общими условиями жизни депортированного и местного населения, то массовая смертность на работе стала заметным явлением в сельском производстве, даже с учетом высокого травматизма местных женщин-колхозниц на сельхозработах. Так, В.М. Шроо (пос. Кировский, Топчи-хинский район), чей отец был заключенным Чистюньского лагеря, рассказывал, что …калмыки, которых привезли летом 1944 г., часто гибли при заготовке леса, так как они никогда не видели леса. Падающие стволы калечили и убивали сразу по нескольку человек (Архив… 2018: Шроо В.М. 1946 г.р.). И лишь в 1946-1947 гг. из-за травматизма и обморожения их перевели на работы в соседнее топчихинское предприятие «Заготскот» и в Чистюньский свеклосовхоз. Депортированные мужчины выкопали землянки на окраине поселка, куда перевезли семьи. Из 800 человек к этому времени осталось 100-150 (Архив… 2018: Шроо В.М., 1946 г.р.). Заключение Подводя итоги, необходимо помнить, что устная история депортаций основывается на индивидуальной памяти. Оценки и интерпретации принимающего населения опираются на личный (семейный) опыт. Множественность оценок позволяет выделить некоторые общие сюжеты, характерные для социальной памяти. К ним относится травматизм ситуации вселения депортированных: напряженный эмоциональный фон в период заселения переселенцев, низкие материальные возможности обеих групп, ограничение (оформленное или фактическое) их гражданских прав, психологический и материально-имущественный дискомфорт депортированных и сибиряков. Это проявлялось в повседневных взаимоотношениях внутри сельского общества
Аблажей Н.Н. Реконструкция поселенческой системы армянской ссылки на Алтае методами традиционной и устной истории // Устная история в современной исследовательской практике на постсоветском пространстве: сборник научных статей / отв. ред. Т.К. Щеглова. Барнаул: АлтГПУ, 2017. С. 7-21
Аблажей Н.Н., Харатян Г.С. Армянская депортационная кампания 1949 г.: попытка персонализации и мемориализации массовой репрессии // Исторический курьер. 2018. № 1. C. 129-137. doi: 10.31518/2618-9100-2018-1-10
Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни: крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1993
Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014
Богуцкий А.В. Алтайские части и соединения в годы Великой Отечественной войны. Барнаул, 2005
Гучинова Э.-Б. Этническая идентичность как стигма: калмыки в депортации (1943- 1956 гг.) // Антропологический форум. 2020б. № 47. С. 154-180. doi: 10.31250/1815-8870-2020-16-47-154-180
Гучинова Э.-Б.М. У каждого своя Сибирь. Интервью с О. Манджиевым // Сибирские исторические исследования. 2020а. № 2. С. 212-228. doi: 10.17223/2312461X/28/13
Дуглас Μ. Чистота и опасность. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000
Иванов А.С. Административный надзор за спецпереселенцами-калмыками (1944- 1956 годы) в контексте «политики населения» // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 2 (357). История. Вып. 62. С. 83-93
Иосиф Сталин - Лаврентию Берии: «Их надо депортировать»: документы, факты, комментарии / сост., послесл. Н. Бугай. М.: Дружба народов, 1992
Красильников С.А., Сарнова В.В. Депортация // Историческая энциклопедия Сибири. URL: http://sibhistory.edu54.ru/ДЕПОРТАЦИЯ
Немцы в Сибири: по документам НКВД, МГБ, МВД СССР 1943-1956 гг.: Cпецпосе-ленцы. Военнопленные. Эшелонные списки. Картотека. Военнопленные японцы: сборник документов / А.Г. Сыщенко, В.А. Сыщенко, Г.А. Сыщенко. Барнаул: Алтайский Дом печати, 2007
Ремпель П.Б. Депортация немцев из европейской части СССРитрудармия по «совершенно секретным» документам НКВД СССР 1941-1944 гг. // Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения. М.: Готика, 1996. С. 69-96
Рыков А.В. Экономическое положение колхозного крестьянства Алтайского края в годы Великой Отечественной войны. Барнаул, 2019
Сарнова В.В. Ссыльнопоселенцы из республик Прибалтики на территории Западной Сибири в 1941-1945 гг. // Миграционные последствия Второй мировой войны: депортации в СССРистранах Восточной Европы: сборник научных статей. Вып. 2 / отв. ред. Н.Н. Аблажей, А. Блюм. Новосибирск: Наука, 2013. С. 152-172
Сталинские депортации. 1928-1953 гг.: сборник документов / сост. Н.Л. Поболь, П.М. Полян. М.: Материк, 2005
Убушаев К.В. История и география принудительной миграции народов юга России в Восточные регионы СССР в 1940-е годы // Великие евразийские миграции: материалы Международной научной конференции, 11-14 октября 2016 г. / ред. кол.: В.И. Колесник (отв. ред.) и др. Элиста: Калмыцкий гос. ун-т им. Б.Б. Городовикова, 2016. С. 437-446
Холквист П. Вычислить, изъять и истребить: (Статистика и политика населения в последние годы царской империи и в Советской России) // Государство наций: (Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина). М.: РОССПЭН, 2011. С. 139-179
Царанов В.И. Операция «Юг»: О судьбе зажиточного крестьянства Молдавии. Кишинев, 1998
Щеглова Т.К. Депортации и спецпереселения по устным свидетельствам «непрошенных гостей» и «вынужденных хозяев» // Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история. Барнаул: БГПУ, 2008. С. 345-373
Щеглова Т.К. Культура и быт русского сельского населения юга Западной Сибири в 1930-1950-х гг.: жилище, пища, одежда, семейные и трудовые традиции. Барнаул: АлтГПУ, 2018
Эппле Н.В. Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: Новое литературное обозрение, 2020
Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013
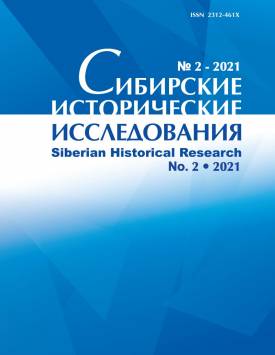

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью