Исследуются травматическая память ветеранов чеченских войн и способы обращения с этой памятью как самих ветеранов, так и государства. Анализируется деятельность государства, направленная на ветеранское сообщество, государственные нарративы, описывающие ветеранов и их военный опыт, осмысление ветеранами своего травматического опыта и выбираемые ими способы его преодоления. Источниками послужили интервью с ветеранами Первой и Второй войны в Чечне, материалы совместного круглого стола ветеранов и исследователей швейцарского проекта MEMCOPE, а также интернет-ресурсы, созданные ветеранами и для ветеранов. Качественный анализ собранных материалов проводился в том числе с помощью программы Atlas.ti. Теоретической рамкой для работы послужили такие направления исследований, как memory studies и trauma studies. Автор приходит к выводу, что сейчас ветераны чеченских войн находятся на пути становления своих символических смыслов и формирования собственного травматического нарратива. Это может быть шагом на пути трансформации памяти ветеранов о чеченских войнах в новую культурную травму российского общества. Но этот процесс чрезвычайно сложно будет осуществить без участия власти и задействования необходимых социальных и политических ресурсов.
(Not) to be a veteran of the Chechen wars.pdf Введение Работать с ветеранами войн в Чечне оказалось непростым делом. Они с недоверием относятся к людям, которые задают слишком много вопросов, к журналистам, к исследователям. Они не считают, что ответы на эти вопросы принесут какую-то пользу ветеранскому сообществу. Они не верят, что кто-то, кроме них самих, может интересоваться жизнью этого сообщества и его проблемами. Им бывает трудно говорить о том, что они пережили на войне и после нее. Они хотят знать, чего ради они должны ворошить свою память и давать интервью. Во многом мне повезло. Мне повезло встретить человека, который согласился довериться мне, рассказать свою историю и познакомить меня с другими ветеранами. Так, по цепочке мне удалось собрать чуть более десятка интервью с ветеранами Первой и Второй чеченских войн, которые стали поводом и материалом для написания статьи. Кроме того, источниками для этой работы послужили материалы совместного круглого стола ветеранов и исследователей швейцарского проекта MEMCOPE3 и различные интернет-ресурсы, созданные ветеранами и для ветеранов. Мне бы не хотелось относиться к исследованию ветеранского сообщества как к изолированному от широкого исследовательского и социального поля кейсу. Я присоединяюсь к тем коллегам, которые предлагают рассматривать работу с ветеранами и их коллективной травмой как часть анализа более широкого круга проблем, связанного с вопросами миротворчества в целом. Непонимание того, как строятся процессы реабилитации и реинтеграции, приводит к тому, что травматическое военное прошлое остается непроработанным, травматическая память отодвигается, но никуда не исчезает. Это оказывается в конечном итоге не только личной болью тех, кто пережил войну, но и фактором, который явно или нет, но дестабилизирует общество (Kalyvas 2006; Duclos 2012; Le Huerou, Sieca-Koslowski 2012). В процессе моей работы выяснилось, что сегодня в России существует ветеранское сообщество (не обязательно оформленное в виде каких-либо организаций), которое имеет свою травматическую память о боевых действиях в Чечне и собственные практики, направленные на преодоление поствоенной травмы. Члены этого ветеранского сообщества определяют себя через свой травматический опыт и его последствия, и эти определения часто не совпадают с теми определениями, которые предлагает государство и, отчасти, общество. Различные способы определения травматического прошлого, его последствий, а через это и ролей участников травматических событий приводят, в свою очередь, и к различным способам работы с травматической памятью и последствиями травмы. Это противоречие ставит ряд вопросов, на которые я постараюсь ответить в этой статье: как ветераны осмысливают свою травму, а через нее - себя? Почему они ищут иные способы взаимодействия с травматической памятью, нежели те, которые предлагает государство? К каким практикам они прибегают и чего ожидают от них? Кроме того, я попытаюсь соотнести коллективную травму ветеранов с понятием культурной травмы в интерпретации Дж. Александера. Это позволит взглянуть на травматическую память ветеранов не просто как на статичное явление, но как на процесс, в результате которого память могла бы трансформироваться в культурную травму и дать ветеранам как сообществу возможность преодолеть последствия своего тяжелого военного опыта. Возможные методы обращения с травматическим прошлым Исследователи, занимающиеся trauma studies, сходятся в том, что с некоторой долей упрощения можно выделить три модели обращения с травматическим прошлым: сохранение, преодоление и забвение. Более подробно о методах работы с прошлым говорит А. Ассман в своей работе «Новое недовольство мемориальной культурой» (2016). Она выделяет две формы воспоминаний: сохранение прошлого и преодоление прошлого. Сохранение прошлого, с ее точки зрения, «подразумевает базирующуюся на этических основах мемориальную культуру, выводящую травматическое прошлое на уровень устойчивой нормативной инстанции, которая служит мерилом для оценки любых деяний в настоящем, а потому неизменно препятствует забвению прошлого» (Ассман 2016: 113). О преодолении она же пишет следующее: «Категория “преодоление прошлого”, свободная от прежних негативных ассоциаций, используется мной в качестве нейтрального термина для социально-терапевтических форм памяти, ориентированных на примирение, социальную и национальную интеграцию. В этом случае воспоминание не становится абсолютной нормой, а является средством для указанной выше цели. В этом смысле воспоминание есть важный перформативный акт кризисного переходного периода, направленный на желаемое воздействие терапевтического, очистительного и объединяющего характера» (113). Что же касается модели забвения, то Ассман обращает внимание на мнение К. Лоренца, выраженное на конференции 2011 г. во Фрайбурге: «Представление о том, что горячее настоящее само собой превращается в холодное прошлое, служит предпочтительной моделью времени для тех, кто хотел бы оставить прошлое в покое. Обычно это те, кому грозит судебный приговор» (Ассман 2017). Далее я рассмотрю все три модели обращения с прошлым применительно к теме этой статьи и соотнесу эти модели с реальными действиями двух основных акторов: ветеранского сообщества и государства. Сохранение. Говоря о стратегии сохранения травматической памяти, следует рассмотреть деятельность такой организации, как Комитет солдатских матерей. Ветераны чеченских войн порой участвуют в совместных мероприятиях с солдатскими матерями, в акциях поминовения, открытии памятных досок и т.п. В целом эта организация воспринимается властью и государственными СМИ как оппозиционная. Однако в реальности в периферийных регионах РФ Солдатские матери зачастую не имеют ни политических, ни экономических ресурсов для того, чтобы действительно являться оппозиционной силой, хотя в своем отношении к войне в Чечне они резко расходятся с властями. Потому единственное, что остается матерям, это сохранять травматическую память о событиях, в которых они потеряли своих детей. Например, по словам С.А. Ушакина, стратегия солдатских матерей в Барнауле сводится к следующему: «Нежелание / невозможность алтайских Матерей использовать в своей публичной риторике политические метафоры привели к тому, что потери близких артикулируются, прежде всего, в терминах индивидуальных биографий и персонифицированных эмоциональных событий. В процессе этой символической доместикации травмы традиционный дискурсивный поиск виновного трансформировался в набор мемориальных ритуалов. Традиционные вопросы “Кто виноват?” и “Кто за это ответит?” постепенно были вытеснены вопросом “Как мы будем их помнить?”» (Ушакин 2009: 157). Солдатские матери и ветераны используют порой схожие практики. Ветераны совместно с матерями участвуют в памятных мероприятиях. Иногда это происходит в частном порядке, иногда в составе представительств от местных ветеранских организаций. Преодоление. Философ Е.Г. Трубина так говорит о проблемах, которые, вероятнее всего, последуют при подавлении коллективной травматической памяти: «Подоплекой многих призывов реконструировать замалчиваемые воспоминания является убеждение в том, что если воспоминания публично не обсуждаются, если о них не знают, то, подавленные, они усугубят общественный невротизм» (Трубина 2009: 90). И далее: «Если же травматические, вытесненные общественные воспоминания “открыть”, если сделать их эксплицитными и сознательными, исцеление возможно. В противном случае прошлые травмы окажутся чреватыми новой иррациональностью» (91). Ветераны не любят слово «примирение», поскольку воспринимают его, скорее, как смирение с прошлым и, что важнее, с неудовлетворительным настоящим, но, тем не менее, социальная интеграция и социально-терапевтическая форма памяти - это то, к чему они, по сути, стремятся. 1 июля 2020 г., в День ветеранов боевых действий по инициативе самих ветеранов был организован благотворительный онлайн-марафон. В нем мог участвовать любой желающий из любого города и любой страны. Тех, кто бежал этот марафон, организаторы просили выкладывать в социальные сети информацию о своем участии под очень символическим хэштегом #преодолениеипамять. Подобные мероприятия позволяют, кроме всего прочего, привлечь внимание к ветеранскому сообществу и его проблемам. Для того чтобы преодоление стало возможным, сообщество, которому принадлежит травма, должно иметь способы транслирования травматических воспоминаний вовне. Но не менее важным является получение встречного признания травматического прошлого не только со стороны акторов - непосредственных участников соответствующих событий, но и со стороны общества в целом. Забвение. Историческую политику российского государства по отношению к двум войнам в Чечне можно в полном смысле назвать политикой забвения. Нет каких-либо известных государственных памятников, которые были бы посвящены погибшим в этих войнах солдатам, не проводятся официальные праздники и регулярные коммеморативные мероприятия с участием официальных лиц. Зато имеется ряд чувствительных моментов, на которые ветераны обращали внимание во время наших бесед. Единственное, что я тогда смотрел (когда вернулся домой после окончания службы в Чечне) - это новостные каналы, особенно первое время, и очень сильно хотелось материться. Потому что, когда ты видишь одно, а по новостям передают совершенно другое… Как-то не по себе. Так воспринималась информация о Чечне, которую государство дозированно предоставляло общественности посредством федеральных каналов в период ведения самой войны. После войны ситуация не улучшилась. Если сначала говорили много, хотя многое из сказанного не соответствовало (по мнению моих респондентов) действительности, то потом перестали говорить вовсе. Можно сказать, что у ветеранов боевых действий сформировалось устойчивое представление о большой государственной лжи. По словам одного из моих респондентов, который прошел Первую чеченскую войну в составе роты специального назначения и был свидетелем многих ключевых событий того периода, случаи самоубийств и несчастные случаи официально относились к боевым потерям. Предоставляемая информация о боях далеко не всегда соответствовала реальной ситуации. Умалчивание об участии в бою какого-либо подразделения приводило к невозможности получения заслуженных наград, например, или хотя бы какого-то признания, потому что «вас там не было». Сами официальные названия событий в Чечне даже не содержали в себе слово «война», что возмущало ветеранов раньше, как возмущает и сейчас. Политика забвения, направленная на события в Чечне, оказывается удобной. Ведь для того чтобы государство эффективно могло действовать в рамках политики преодоления, а не забвения, необходимо объяснить причины конфликта и признать его последствия, четко обозначить роли виновных и пострадавших, «палачей» и «жертв», быть готовым компенсировать последствия произошедших событий. На мой взгляд, государство на данный момент не готово все это сделать. Ярким примером может служить судебная практика в России. Известны случаи, когда Министерство обороны отказывалось назначать пенсию по инвалидности, полученной в результате участия в боевых действиях в Чечне. Тогда ветераны обращались в суд. Суды также отказывались признать ответственность Министерства обороны перед ветеранами. Более того, случалось, что в решении суда говорилось о том, что ответственными за случившееся являются чеченские боевики, а потому компенсацию истец должен требовать именно с них (RFE/RLRussia 2003). Политика забвения, полагаю, оказывается предпочтительной с точки зрения государства не только в силу специфики самих вооруженных конфликтов в Чечне и их предпосылок, но и в силу политических и экономических особенностей современных взаимоотношений федерального центра и Чеченской республики. А.Л. Истамулов, руководитель Центра стратегических исследований и развития гражданского общества на Северном Кавказе, во время открытой дискуссии в Ель-цин-центре заметил: «Чечня - самый обычный регион России… и самый необычный». Деятельность государства Значительная часть ветеранов негативно относятся к российской власти в целом и к ее деятельности по отношению к ветеранам. Это касается и той власти, которая существовала во время начала Первой войны в Чечне, и власти нынешней. Это не значит, что абсолютно все ветераны, по определению, являются оппозиционерами, но многим из них действительно сложно принять и простить то, что произошло с ними по приказу властей и начать доверять какому бы то ни было правительству. Даже участвуя в деятельности ветеранских организаций, инициируемой государством, ветераны признают порой, что для них это единственный способ реализовать свое ветеранство, получить какое-то признание. В одном интервью было сказано: «Я все понимаю на самом деле, но приятно, когда тебя хвалят, наливают, медали дают… Лучше, чем вообще ничего». Правовое поле. Напомню, что Первая чеченская война официально именуется мероприятиями по восстановлению конституционного порядка, а Вторая чеченская - контртеррористической операцией. И это важно. Как замечают Анн Ле Ру и Елизабет Сьека-Козловски, «нет войны - нет и ветеранов» (Le Huerou, Sieca-Kozlowski 2012: 35). Только в 2002 г. события в Чечне были внесены в «Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации», который прилагается к Федеральному закону «О ветеранах»4. Таким образом, только в 2002 г. ветераны Чечни получили свой официальный статус и право на меры государственной поддержки и защиты. Само наличие закона «О ветеранах» не является гарантией его исполнения. Ответственность за оказание мер поддержки ветеранов фактически была возложена на региональные власти. Таким образом, уровень поддержки во многом зависит от благосостояния конкретного региона, от возможности и, самое главное, от желания местных властей. В настоящий момент существует целый ряд мер социальный защиты финансового характера, предусмотренных законом «О ветеранах». Однако особый интерес представляет ст. 16 Закона «О ветеранах», в пп. 6 п. 1 которой говорится о том, что ветеран боевых действий имеет право на «преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта». Ветераны в своих интервью говорили мне, что именно подобные меры государственной поддержки кажутся им наиболее нужными и правильными. Психологическая помощь. Понятие ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство, которое прочно срослось с понятием «военная травма», родилось в поле психиатрии (Кобылин, Николаи 2017). Но понимание военной травмы как проблемы исключительно медицинского характера приводит к тому, что и решения для преодоления этой травмы предлагаются также в основном в области медицинской помощи. Однако не менее важной и ожидаемой со стороны носителей травмы оказывается помощь в области социальной реабилитации и поддержки. При этом, конечно, невозможно отрицать тот факт, что большая часть участников боевых действий оказываются в итоге носителями ПТСР, которое выражается в совокупности совершенно разных симптомов разной степени интенсивности. В 1996 г. российские военные психиатры обследовали 1 312 солдат, оказавшихся по призыву на Первой войне в Чечне. 72% из них страдали от различных проявлений ПТСР (O'Hara, Thomas 1996). Коль скоро государство относится к травме в основном как к проблеме медицинского характера, то важно разобраться в том, как осуществлялась и осуществляется государственная психологическая помощь ветеранам. Во время круглого стола ветеранов боевых действий в Чечне, который состоялся 14 марта 2020 г. в Сахаровском центре, известный российский психолог С.Н. Ениколопов, исходя из собственной практики и опыта работы с ветеранами, описал ситуацию следующим образом: «В стране были и есть всевозможные государственные учреждения. Заказ есть - заказ выполняется. Когда появились афганцы (ветераны войны в Афганистане) - то появился и определенный заказ. Что-то было бесплатно, что-то платно. Бесплатно в том смысле, что помощь была оплачена государством. Вот, например, Военнополитическая Академия, где тогда был факультет психологии... Когда афганцы поступали, их спрашивали: “Кто такие?” Они отвечали - афганцы. У врачей было указание - будешь писать посттравматическое стрессовое расстройство… Потом это все заглохло. Почему-то чеченцев (ветераны войны в Чечне) к этому не подвязали»5. Из этой цитаты становится очевидным, что когда-то существовал государственный заказ на то, чтобы медики ставили ветеранам войны в Афганистане диагноз ПТСР. Однако после войны в Чечне ситуация изменилась. Ветеранам, вернувшимся из Чечни, никакая системная психологическая помощь и реабилитация не предлагались. Исключение составляли сотрудники милиции и ОМОНа, хотя до середины 90-х гг. и они не проходили никакой психологической реабилитации, в лучшем случае им полагался короткий отпуск. Но в середине 90-х гг. была создана психологическая служба МВД, хотя к систематической и последовательной работе с ветеранами Чечни она приступила лишь примерно с 2000 г. (Le Huerou, Sieca-Koslowski 2012). Конечно, ветеран, вернувшийся из мест ведения боевых действий, мог и может обратиться в государственное медицинское учреждение за психологической помощью по собственной инициативе, но тут есть ряд важных нюансов. Во-первых, существует определенный врачебный стандарт, который изначально вырабатывался для определения тяжелой формы депрессии, а не ПТСР, которое имеет значительное количество симптомов и может выражаться в совершенно разных вариантах их сочетаний. Сейчас в России для диагностирования ПТСР используются критерии, указанные в МКБ-10 (Международный классификатор болезней). Во-вторых, для того чтобы ПТСР все же было диагностировано, у пациента должно быть выявлено не меньше определенного количества его симптомов. Если же симптомов окажется меньше, то диагноз поставлен не будет. В-третьих, если ПТСР диагностировано, то лечение будет назначено от целого комплекса его проявлений, части которых у конкретного пациента может и не наблюдаться. В-четвертых, основное лечение, которое будет предложено - медикаментозное, чаще всего назначаются антидепрессанты. Напомню, что одна из задач данной работы - ответить на вопрос: почему ветераны ищут иные способы взаимодействия с травматической памятью, нежели те, которые предлагает государство? Для того чтобы ответить на него, необходимо понимать, что именно предлагает государство. Мною было показано, что государство воспринимает военный опыт ветеранов и память о нем в основном как медицинскую проблему и предлагает «лечится таблетками», но даже там, где лечение действительно нужно, оно проводится не всегда профессионально и правильно. Ветераны не решают своих проблем предложенным способом и это вынуждает их искать свои способы решения. Что государство говорит о ветеранах Государство чаще всего пытается вписать ветеранов в два больших официальных нарратива - героический и контртеррористический. Эта схема с использованием «больших повествований» применяется к разным войнам и в разных странах. «Политическая манипуляция использует представленную память для сплочения сообщества, для нивелирования конфликтности; осуществляется это чаще всего посредством всеобъемлющих гуманистических нарративных схем: “Они погибли, но не будут забыты, они страдали, но сегодня мы воздаем им дань уважения”. Эффективнее всего такие задачи решаются с помощью “больших повествований”, а многоголосие повествований малых - раздражает власти предержащие» (Трубина 2009: 99). Под героическим нарративом понимается повсеместная государственная героизация российского солдата, начиная от участников Великой Отечественной войны и заканчивая комбатантами локальных конфликтов. В этом случае обычными элементами языка описания оказываются такие слова, как честь, долг, патриотизм, любовь к Родине и т.п. (героически сражались / погибли за Родину; отдали долг Родине; с честью выполняли свой долг). В начале 1995 г. на пресс-конференции, которая проводилась вскоре после печально известного новогоднего штурма Грозного, министр обороны Павел Грачев сказал фразу, которая по сей день вызывает негодование у ветеранов войны в Чечне: «Эти восемнадцатилетние юноши за Россию умирали и умирали с улыбкой. Им нужно памятник ставить». Как потом пояснял Грачев журналистам, он имел в виду, что для российских солдат, настоящих патриотов, было радостью отдать свою жизнь за Родину. Понятно, что чаще всего героизации подвергаются погибшие на войне комбатанты. Героизируют их и сами ветераны, но в несколько другом ключе. В этом случае героизация оказывается данью уважения погибшим сослуживцам, а не способом оправдания их гибели. В ветеранских сообществах в социальных сетях регулярно выкладываются фотографии погибших при исполнении долга товарищей. В абсолютном большинстве случаев в подписях к фотографиям и комментариях они называются героями. Что же касается тех, кто вернулся с войны и, соответственно, имеет статус ветерана, то героизация работает и здесь, но имеет вполне практический смысл. Государство пытается привлекать ветеранов к патриотическому воспитанию молодежи. Происходит инструментализация ветеранства и его героического облика. Члены ветеранских организаций (особенно крупных) часто участвуют в проведении уроков мужества в школах, организации летних лагерей для детей, работе молодежных военно-патриотических организаций. Об участии ветеранов в патриотическом воспитании пишут и в специальной прессе: «Незаменима роль ветеранов и в реализации Государственной программы “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации”. Именно они своим участием во многом избавляют ее мероприятия от показухи, назидательности и рутины. Ведь по яркости и убедительности изложения ничто не сравнится с рассказом человека, воевавшего на фронте, прошедшего “горячие точки” или лично участвовавшего в событиях, от исхода которых напрямую зависела судьба Отечества» (Трошин 2007). Контртеррористический нарратив можно рассматривать как специфическую часть героического нарратива. Само появление контртеррористического нарратива о войне в Чечне имеет политическую подоплеку, настолько сложносочинённую, что в какой-то момент, в противовес государственному повествованию о борьбе с терроризмом, в обществе стали рождаться альтернативные версии событий в лучших традициях теорий заговора. Тем не менее в период между двумя войнами в Чечне и особенно в период Второй чеченской войны история о борьбе российских войск с террористами на территории Чечни в частности и Северного Кавказа в целом прочно заняла свое место в выступлениях российских политиков. Далее я перейду к описанию и анализу того, что ветераны говорят сами о себе. Это дает возможность сравнения разных нарративов. Для государства ветеран - герой. Для ветерана - он сам травмированная жертва войны. Хотя такая формулировка открыто используется ветеранами крайне редко. Но именно для того, чтобы показать их травмиро-ванность, рассмотрим их язык описания самих себя. Как ветераны говорят о себе Анализ показывает, что государство и ветераны буквально говорят на разных языках, совершенно по-разному определяют травматический опыт военных действий, что, в свою очередь, приводит в дальнейшем к разному пониманию приемлемых методов преодоления этого опыта и памяти о нем. Текст этого параграфа я структурирую с помощью наиболее часто используемых слов (частотность определялась с помощью программы Atlas.ti, версия 8), соответствующих переживаемым эмоциональным состояниям и ощущениям. Слова эти можно отнести к характерному языку травмы: боль, обида, непонимание, стыд, вина. Боль - это самое однозначное и непроговариваемое из переживаний. Боль «там» - боль от потери товарищей. Боль «тут» - боль от воспоминаний о пережитых событиях. «Это все больно вспоминать… (далее следует тишина)» - очень характерная фраза, точнее, характерно молчание, которое за ней следует. То, что остается невысказанным, то, что скрывается за этим молчанием, и есть травма. Обида - чувство, которое упоминается очень часто. «Сейчас я уже научился сдерживать обиду, а раньше полыхало. Лучше вообще не начинать, а то мало ли…», - говорит мне бывший замкомандира роты. Обида тесно связана с ощущением предательства. Тогда много предательства было. Больше, чем на любой другой войне. Как предательство описываются события, происходящие и во время самой войны, и после нее. Несколько раз мне рассказывали истории о том, как российское оружие, предназначенное для российских войск в Чечне, оказывалось, в конечном итоге, в руках боевиков, причем вовсе не в качестве трофейного. Мои респонденты уверены, что оно направлялось боевикам сознательно, но никто не понес за это никакой ответственности и никогда не понесет. Это воспринимается ветеранами как предательство российских солдат российской же властью. О предательстве говорят, когда описывают ситуацию, связанную с обменом военнопленными. Не только сами ветераны, но и правозащитники, которые участвовали в организации обмена военнопленными, говорят о том, что в какой-то момент власти практически полностью устранились от этой проблемы. Все решения по вопросам обмена принимались российскими и чеченскими полевыми командирами. Члены правозащитных организаций, журналисты, отдельные политики, используя личные связи и знакомства, разыскивали российских военнопленных и договаривались об их освобождении. Об этом много говорилось участниками конференции «Как война в Чечне изменила российское общество», которая проводилась в Ельцин-центре 9 декабря 2019 г. Как предательство описывается и отсутствие помощи со стороны государства после возвращения ветеранов домой: «Я вернулся, а кому я тут нужен? Стране нашей я не нужен… Противно от всего этого предательства». Пренебрежение или даже неприятие со стороны общества, о котором упоминают ветераны в своих рассказах, тоже приравнивается к предательству. Непонимание. Для ветеранов характерны ощущение непонимания происходящего, чувства вины и стыда. Никто ничего не понимал тогда… Что мы там забыли - непонятно. Так ветераны говорят о своем восприятии происходящих в Чечне событий. Непонимание - это то, что свойственно памяти о войнах в Чечне в целом. Кто-то из ветеранов находит лично для себя объяснение своего пребывания в Чечне в отдельных, ключевых для них событиях. Например, в событиях, произошедших в Будённовске или Беслане. Это те события, которые все объясняют, и то, что было до них, и то, что было после. Это события, которые позволяют четко идентифицировать чужого, врага как «террориста», «нелюдя», «урода» и т.д. Эти события позволяют более или менее внятно ответить на вопрос «что мы там делали?» - защищали Родину от вот таких врагов. Но чаще все же присутствует более нейтральная формулировка - «мы выполняли свой долг». Есть среди ветеранов и те, кто осуждает войны в Чечне и свое собственное участие в них: «Если бы призвали сейчас, то просто сел бы в поезд и уехал в другую страну». Важно также то, что, оказываясь уже на месте ведения боевых действий, комбатанты находили для себя смысл ведения боев не просто в несколько неясной «защите Родины» или «выполнении долга», а в «своих ребятах», «боевых товарищах». Бросить все, сбежать - значит предать своих. Есть те, кто после лечения ранений в больнице возвращался в места ведения боевых действий именно потому, что не считал возможным бросить своих сослуживцев. Конечно, это боевое товарищество не объясняло причины и смысл войны в целом, но оно придавало смысл пребыванию в бою «здесь и сейчас». Вина и стыд. Без понимания того, для чего и за что ведется война, определенная часть ветеранов начинала испытывать чувства вины и стыда. Я до сих пор испытываю чувство вины за то, что участвовал во всем этом. Это не всегда происходило сразу, порой чувство вины настигало спустя какое-то время после окончания службы. Перед проведением круглого стола ветеранов боевых действий в Чечне мы с коллегами рассылали участникам анкеты, в которых предлагали ответить на несколько предварительных вопросов, которые помогли бы нам организовать будущее мероприятие. Вот один из вопросов: «Наиболее актуальный для Вас вопрос, который Вы хотели бы обсудить на встрече?» В одной из анкет был такой ответ: «Почему чувствуешь себя виноватым за то, что выполнял свой долг?» Замечательна в нем и сама формулировка, ясная и откровенная, и то, что вопрос этот был адресован нам, как «последней инстанции», потому что за все прошедшие годы никто ничего так и не объяснил. Как сказал потом один из участников встречи: «Может быть, хотя бы вы объясните нам, что с нами делать». Чаще всего чувство вины связано с гибелью мирного населения во время войны. Проделанная мной работа и анализ собранных интервью показывают, что ветераны не называют себя жертвами, но они говорят о том, что пострадали по вине государства и ждут от него не только и не столько материальной компенсации, сколько символического признания своего травматического опыта, возможности транслирования и признания травматической памяти об этом опыте, включения этой памяти в официальные нарративы. Ветераны не называют себя палачами, но присутствующие во многих случаях чувства вины и стыда ставят их порой в положение «палачей», в терминах исследования травмы. В конечном итоге, существование этой дихотомии «жертва» / «палач» в границах одного сообщества, а порой и в границах одной личности, приводит к неопределенности и сложностям в выборе формулировок при определении самих себя и своего прошлого. Участие в войне в Чечне ветераны вспоминают по-разному. Помимо понятных индивидуальных различий и различий в личном опыте, играют свою роль и другие факторы. Важно, служил ли ветеран по призыву или по контракту, в каких войсках, в каком звании и т.д. Никто из тех, у кого мне удалось взять интервью, не вспоминал о своем участии в войне с радостью. Присутствует ли гордость, зависит от того, как именно объясняет ветеран для себя произошедшие события, какой смысл в них вкладывает, считает ли, что его действия являлись защитой интересов своей Родины. Чаще говорится о гордости за правильно выполненные отдельные боевые задачи, чем о гордости в целом. Противника тоже воспринимали и воспринимают по-разному. Под определение «враг» подпадают различные категории людей. Есть среди ветеранов те, кто считает, что врагами российских военных были чеченские боевики. Есть те, кто называет врагами всех чеченцев, в том числе и мирных жителей. Есть те, кто отделяет, в свою очередь, боевиков от бандитов и преступников. «Бандит и боевик - это разные вещи. Именно бандиты формировали у российской общественности мнение, что все чеченцы - звери. Но это не так!» По воспоминаниям одного из участников Первой чеченской войны, боевики порой помогали договариваться со своими командирами об освобождении российских военнопленных и охраняли солдатских матерей, когда те приезжали в Чечню. Это разделение на боевиков и бандитов было намного более ярко выражено во время Первой войны в Чечне и сошло на нет ко Второй. Террористические акты, ответственность за которые брали на себя чеченские полевые командиры, привели к тому, что российское общество окончательно стало воспринимать чеченских боевиков как преступников. Во время Первой войны в Чечне чеченские командиры еще не были «чеченскими», часто они воспринимались российскими военными как советские офицеры. По словам майора российской армии, Вячеслава Яковлевича Измайлова, переговоры с ними называли «разговором офицера с офицером», а не переговорами с террористами, как это стало называться позднее. Рассуждая о логике насилия во время гражданских войн (к которым я отношу обе войны в Чечне), Статис Каливас выделяет такую проблему, как проблема идентификации, т.е. сложность в различении боевиков и гражданского населения (Kalyvas 2006). Эта проблема не так очевидна, как кажется порой специалистам. Для того чтобы выделить ее, необходимо понимать, что современные методы ведения войны больше не предполагают наличие фронта и четкого деления на своих и чужих. Новая война гибридна, она может охватывать различные реальные и виртуальные пространства. Проблему идентификации можно описать словами американского солдата, служившего в Афганистане: «Двое из десяти людей, окружающих вас, хотят вас убить. Ваша задача быстро понять, кто эти двое» (Zuccino 2004: A8). Примерно так же говорили некоторые из ветеранов и о ситуации в Чечне. Порой свое состояние они описывали буквально как нарастающую паранойю. Солдаты начинали подозревать всех местных, это вело к росту уровня агрессии, а агрессия вела к насилию. Вообще, отношения с гражданским населением в Чечне - это то, о чем сами ветераны часто не хотят говорить. Практики и ожидания В силу недовольства государственной деятельностью ветераны сами выбирают и реализуют практики, направленные на преодоление травмы и памяти о травматическом прошлом. Наверняка существует большее количество подобных практик, но я коснусь только тех, которые были выделены самими ветеранами во время круглого стола, состоявшегося 14 марта 2020 г. в Москве. Кроме того, я расскажу о том, чего ветераны ожидают от собственной деятельности в области преодоления травмы и от возможных государственных и общественных инициатив в этой области. Спорт. К сожалению, распространенным способом подавления травматической памяти и борьбы с проявлениями ПТСР являются различные деструктивные практики, приводящие к системному употреблению наркотических веществ и алкоголя и порой к состоянию зависимости от них. Среди ветеранов, особенно в первое время после возвращения к мирной жизни, это тоже оказывается довольно частым явлением. В этом случае спорт становится средством преодоления своего травматического прошлого и последствий этого прошлого, которое выступает позитивной альтернативой практикам саморазрушения. Многие ветераны призывают своих товарищей по службе к занятиям спортом, создают собственные спортивные клубы, участвуют в различных соревнованиях в составе одной команды и т.д. Спорт выполняет еще одну роль, которая не менее важна для ветеранов. Он оказывается средством объединения и способен воссоздать то ощущение боевого братства, которое возникало среди ветеранов в местах ведения боевых действий. По словам одного из ветеранов, именно это ощущение единства и понимание того, что он является частью сообщества, которое его поддерживает, помогло ему пережить первые, самые тяжелые времена после возвращения с войны и помогает до сих пор. Мемуары. Еще одним способом обращения со своей травматической памятью является написание собственной истории тех событий, в которых ветерану довелось участвовать. Существует литературный журнал под названием «Болевой порог», в нем публикуются отрывки различных произведений ветеранов в стихах и прозе. В соответствующем издательстве публикуются произведения целиком в печатном виде. Помимо публикации книг, написанных ветеранами, «Болевой порог» занимается организацией различных литературных конференций, обсуждений, презентаций и прочей подобной деятельностью. Нужно сказать, что деятельность этого журнала развивается весьма успешно. Прописывание, также как и проговаривание своего травматического прошлого, имеет известный терапевтический эффект. И это оказывается одним из смыслов литературной деятельности ветеранов - проработка и преодоление травмы. Но в написании своей собственной истории произошедших событий есть и еще один смысл. Это способ транслирования памяти о войне и способ установления собственной правды о ней. В условиях существования крайне противоречивой официальной информации о войнах в Чечне и, в целом, ее ограниченности, ветераны стремятся заполнить образовавшиеся лакуны и вынести на общественное обозрение собственное видение произошедшего. Ожидания. Во время одного обстоятельного разговора я услышала некое резюме того, что хотели бы получить ветераны от государства, в котором живут, и от общества, которое их окружает. Если говорить о психологической помощи, о помощи в борьбе с ПТСР, то помощь эта до
Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3. C. 5-40
Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: НЛО, 2016
Ассман А. Непрошедшее прошлое: почему исторические травмы подрывают доверие к будущему // Теории и практики. 2017. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/16023-neproshedshee-proshloe-pochemu-istoricheskie-travmy-podryvayut-doverie-k-budus-hchemu
Голубев А., Ушакин С. ХХ век: письма войны. М.: НЛО, 2016
Кобылин И., Николаи Ф. Американские trauma studies и пределы их транзитивности в России // Логос. 2017. T. 27, № 5. C. 115-136
Трошин С. Традиции девальвации не подлежат // Военно-промышленный курьер (11 апреля 2007). URL: https://www.vpk-news.ru/articles/3450
Трубина Е. Феномен вторичного свидетельства: между безразличием и «отказом от недоверчивости» // Травма: пункты. М.: НЛО, 2009
Ушакин C. Вместо утраты: Материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России // Травма: пункты. М.: НЛО, 2009
De Greiff P., Patel A., Waldorf L. Disarming the past: transitional justice and ex-combatants. Social Science Research Council, 2009
Duclos N. Rethinking the Former Combatants' Return to Civilian Life // War Veterans in Postwar Situation: Chechnya, Serbia, Turkey, Peru, and Cote d'Ivoir. Palgrave Macmillan, 2012
Kalyvas N.S. The logic of violence in civil war. New York: Cambridge University Press, 2006
Le Huerou A., Sieca-Kozlowski E. A “Chechen Syndrome”? Russian Veterans of the Chechen War and the Transposition of War Violence to Society // War Veterans in Postwar Situation: Chechnya, Serbia, Turkey, Peru, and Cote d'Ivoir. Palgrave Macmillan, 2012
O'Hara C.P., Thomas T.L. Combat stress in Chechnya // Voennyi Meditsinskii Zhurnal. 1996. No. 4
RFE/RL Russia Court Challenges Unprecedented Compensation award for Chechen War Veteran, 29 September 2003. URL: https://www.rferl.org/a/1104486.html
Russell J. Terrorists, bandits, spooks and thieves: Russian demonisation of the Chechens before and since 9/11 // Third World Quarterly. 2005. Vol. 26, No. 1. P. 101-116
Zucchino D. Sorting Friends from Foes // Los Angeles Times. 2004. 1 November. A1, А8- A9
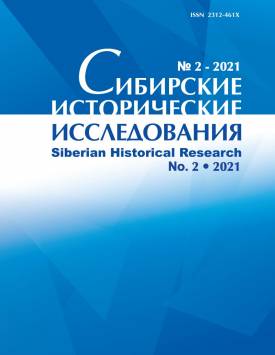

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью