На основе анализа собственных полевых записей предложено решение проблемы адекватной расшифровки звучащих тирад эпических сказаний шорцев и хакасов - тюркских народов Южной Сибири. Эксперимент с исполнением эпоса а капелла (без горлового пения и без музыкального сопровождения), проведенный автором с помощью шорского сказителя Владимира Таннагашева (1932-2007), позволил доказать, что все поющиеся сказителем стихи являются не неким набором усеченных и искаженных слов, как об этом писали даже индигенные исследователи, а осмысленным и потому вполне доступным для расшифровки поэтическим текстом.
What does storyteller sing about? Experience of decoding the singing parts of epic tales of the southern Siberian Turks.pdf Вопрос «о чем поет сказитель?», вынесенный в название статьи1, на первый взгляд может показаться не имеющим особого смысла. О чем же он может петь?! Разумеется, он исполняет эпическое/богатырское сказание, героическую поэму, т.е. поет о богатырях и их великих подвигах. Но не все так просто. На самом деле этот вопрос оказался одним из самых сложных в целом в истории эпосоведения применительно к саяно-алтайским тюркам. Проблемы текстуализации устного эпоса, равно как и роли музыкальной составляющей перформанса, уже давно и в целом плодотворно обсуждаются в мировом эпосоведении (см., например, Гацак, Петросян 1971; Foley 1995; Honko 1996: 1-17; 2000; Reichl 2000a). Применительно к героическому эпосу тюркских народов успешно анализировались проблемы публикации эпоса, записанного под диктовку, непредставленности в публикациях реакции публики, в целом - неаутентичности записи, осуществляемой в большинстве случаев вне обычного для акта исполнения эпоса антуража, а также, как ни парадоксально это звучит, проблема наличия музыкального сопровождения эпоса, имеется в виду проблема для исследователя, который пытается этот эпос записать/положить на бумагу (Hatto 2000: 129-160; Reichl 2000b: 103-127). Я начал слушать и записывать героический эпос шорцев2 в 1983 г., но впервые осмелился взяться за расшифровку одной из своих аудио-, видеозаписей лишь в 2011 г. Изданный в итоге эпос «Қара-Қан» (ШГЭ 2012: 126-182) в ситуации исполнения звучал чуть более получаса; на черновую его расшифровку у меня ушло три дня и затем еще несколько месяцев - на уточнение «темных мест» в аудиозаписи и на перевод на русский язык, который более или менее устраивал бы меня самого. Оговорюсь, что речь в данном случае шла об эпосе рассказанном, а не об исполненном в традиционной манере, характерной для шорских ска-зителей-кайчи (шор. қайчы), т.е. горловым пением под собственный аккомпанемент на особом музыкальном инструменте и с (почти) обязательным пересказом пропетых частей. Сложно сказать, сколько времени ушло бы на расшифровку моих записей эпоса, исполненных в традиционной манере, да и удался бы этот опыт? Несмотря на наличие в постсоветской российской фольклористике, по меньшей мере, двух попыток издания шорского эпоса в том виде, в каком он реально исполнялся в традиционной для кайчи манере (ШГС 1998: 49-262 (нотная запись и текст), 263-321 (перевод); ФШ 2010: 71-145 (нотная запись и текст), 146-179 (перевод)), задача эта все еще остается не просто сложной, но и - при отсутствии понимания сути и смысла поющихся частей эпоса - малопродуктивной. О том, что и как поет сказитель при исполнении эпического сказания, и каким образом это можно понять и положить на бумагу, и пойдет далее речь. Из истории публикации героического эпоса Долгое время исследователи, как мне представляется, не замечали, или не считали нужным особо оговаривать то, что у некоторых групп хакасов3 и шорцев сказитель в процессе исполнения создавал не один, а два разных текста; разных как минимум по форме представле-ния/исполнения. Впервые на это обстоятельство применительно к шорскому героическому эпосу указала Надежда Петровна Дыренкова (1899-1941). В 1940 г. она писала: «Героические поэмы у шорцев представляют полустихотворные, полупрозаические произведения. Обычно стихотворный текст поэмы прерывается весьма значительными вставками прозаического текста» (ШФ 1940: XXXVII). И чуть ниже добавляла: «…сказитель, пропев одно или несколько двустиший, излагает содержание пропетого…» (ШФ 1940: XXXVIII). К сожалению, далее этих замечаний исследовательница не пошла. Впрочем, это неудивительно: без специальной аудиозаписывающей аппаратуры пытаться успеть записать от руки поющуюся часть эпоса - дело неблагодарное. То, что Дыренкова смогла зафиксировать под диктовку, было сочтено ею «прозой» и именно поэтому в знаменитом томе «Шорский фольклор» при публикации героических поэм лишь несколько строк зачина и концовки, очевидно, четко организованных ритмически, были даны исследовательницей с разбивкой на стихи; основной текст сказаний был опубликован как прозаический, хотя во многих случаях его вполне (по крайней мере, частично) можно было бы представить и в виде стихотворного. В виде прозы тексты нескольких шорских эпических сказаний были изданы одновременно с книгой Дыренковой и шорским лингвистом Г.Ф. Бабушкиным (1940). Отойти от этого способа подачи текста и, по сути, вернуться к тому, что столетие назад применительно ко всем изданным им образцам фольклора сибирских тюрков предлагал Вильгельм Радлов (Радлов 1866; Radloff 1866)4, попытался новосибирский поэт А.И. Смердов. Три из шести шорских текстов, опубликованных им на русском языке, были переведены в форме, максимально приближенной к стихотворной. Это были сказания, записанные от кайчи Николая Напазакова (1870- 1942)5 - «Ай-Толай» (Ай-Толай 1948: 31-55), «Алтын-Кылыш» (56-95) и «Алтын-Сом» (96-122). Впрочем, здесь стихотворный перевод являлся инициативой поэта и, насколько я могу судить по рукописному оригиналу сказания «Алтын-Сом»6, не восходил напрямую к записанному под диктовку шорскому тексту. Соответствия перевода шорскому рукописному оригиналу с разбивкой на стихотворные строки впервые в конце 1940-х - начале 1950-х гг. удалось достичь Ольге Благовещенской при помощи шорского сказителя Степана Торбокова (1900-1980). Два из шести эпических сказаний, «Каан-Чайзан и Пий-Чайзан» (3 194 стихотворные строки) и «Кöк-Адай» (1845 стихотворных строк), готовившихся ею к изданию, были выполнены в полном соответствии со стихотворными самозаписями эпоса и его подстрочными переводами (Функ 2010: 120-137; ШГЭ 2012). Лишь в конце 1960-х гг. были сделаны первые магнитофонные записи шорского героического эпоса в его аутентичной форме исполнения горловым пением в сопровождении игры на музыкальном инструменте и с пересказом пропетых частей. Именно так было записано несколько сказаний от шорских сказителей фольклористом А.И. Чудояковым (1928-1994)7. В 1970-1990-х гг. такими записями располагали уже несколько исследователей - фольклористов, этнографов, музыковедов. Первые опыты записи и расшифровки поющихся частей эпоса В конце 1980-х гг. прекрасная характеристика манеры исполнения героического эпоса у хакасов была дана в статье А.К. Стоянова, где в качестве примера был приведен небольшой отрывок в «повествовании хаем» (8 стихов) и «декламационном пересказе пропетого» (9 стихов) из сказания «Девятилетная Алып-Хан-Хыс» в исполнении С.П. Кадышева (Стоянов 1988: 588-590). Однако выявленная/описанная исследователем специфика исполнения хакасского эпоса так и не была реализована при издании образцов хакасского фольклора. Практически параллельно, в 1984 и 1987 гг., полевые экспедиционные работы среди шорцев вела музыковед И.К. Травина. Ей удалось записать на магнитофон два эпических текста: от Михаила Кирилловича Каучакова (1934-2014) - большое сказание «Алтын-Эргек», состоящее из более чем 230 инструментальных и прозаических фрагментов, а также сказание (инструментальная версия без слов) «Ак-Салгын» - от Афанасия Васильевича Рыжкина (1924-2003). Исследовательница представила часть собранных ею материалов и результаты их музыковедческого анализа в монографии, обильно иллюстрированной нотными записями текстов (Травина 1995). В этой публикации значительное место было уделено именно героическому эпосу. Травина расшифровала четыре отрывка из сказания «Алтын-Эргек», рассматривавшихся ею в качестве лейтмотивов: мотив Алтын-Эргека, богатырь едет, богатырь ведет поединок и мотив печали (Травина 1995: 53-63), а также привела нотную запись большого отрывка из сказания «Ак-Салгын» (64-69). Подобные расшифровки, что мне приходилось уже отмечать ранее (Функ 2005: 238), в шорском эпосоведении появились впервые. Вскоре после выхода книги Травиной (впрочем, оставшейся практически незамеченной фольклористами), впервые была осуществлена публикация одного шорского эпического сказания в виде, который, как предполагалось, должен был быть максимально приближен к его фактическому исполнению в манере кай, т.е. пения и «пересказа». Простая и вместе с тем яркая идея именно такого издания сказания «Кан Пер-ген», записанного А.И. Чудояковым в 1967 г. от кайчи Павла Васильевича Кыдыякова (1908-1970), принадлежала ответственному редактору тома В.М. Гацаку, предложившему опубликовать текст так, как его исполняет сказитель, чередуя поющиеся и сказываемые части и исходя при этом из идеи нерасторжимости текста (ШГС 1998: 31). Издание, действительно, получилось уникальным в своем роде. Прозаическая (ритмизованная) часть каждой из 102 частей сказания была по возможности расшифрована и переведена на русский язык. Не буду особо останавливаться на разбивке так называемой прозаической части сказания «Кан Перген» (как и второго опубликованного в той же книге текста «Алтын Сырык», исполненного тем же сказителем, но в сказовой манере, без пения) на стихи. Такой подход имеет право на существование, хотя очевидно, что значительная часть «стихотворных строк» в таком случае оказывается созданной усилиями не сказителя, а издателя. При такого рода разбивке «стихи» в итоге - и это абсолютно естественно при скáзовой манере исполнения эпоса, когда сказитель вне зависимости от своей поэтической одаренности порой сбивается на обычную речь - оказываются лишенными отчетливой рифмы. Попробую обратиться к форме представления в названной публикации собственно поющейся части сказания. Именно здесь мы можем обнаружить, что изначально сформулированная идея публикации оказалась как минимум не до конца реализованной. Для наглядности приведу лишь две тирады из сказания «Кан Перген»: Тирада 23 (расшифровка, сопровождающая нотную запись) Хай-дей ю Қоноғо перди Қайран Қаан Перген адан кöрÿп Қайран турды Шақ по черде Қарақы амды пер Амды хе перди Алтынғызы ақ тен позы Ақ туван чи ығырап келип Чайкоқ турған ам полған чи Аразымперей (ШГС 1998: 99-100) Перевод: Славный Кан Перген видит, что «на этом месте снизу до хана-неба расстилается белый туман» (ШГС 1998: 274). В данном случае нет необходимости останавливаться на комментировании точности «перевода», но все же есть смысл заметить, что в шорском оригинале нет ни малейшего намека на «хана-небо», образ, который почему-то вдруг появился в русском тексте. Тирада 26 (расшифровка, сопровождающая нотную запись) Қайран пир полды, полды деи дей Шақ по пир черге дей дей Қадығоқ агаш деи дей Қақшылаш қалды дей полды деи дей (…) қайран қара пир деи дей Тÿгедеш қалды дей до Уйада қушум дей полды дей до Уйадаң чаштоқ дей дей Адачақ чашқа деи до Палачақ таштап дей до Қазырлар қаптырды полды дей до Паладаң частоқ де и до Амды қарығаны дей дей (ШГС 1998: 105-108). Перевод: Описание битвы. Богатыри бьются, «будто твердое дерево о дерево ударяется», так что «птицы, гнезда имеющие, гнезда теряют» (ШГС 1998: 275). В обоих случаях декламационная часть сказания (т.е. «пересказ» пропетого) и в оригинале, и в переводе была представлена в книге в стихотворной форме: «пересказ» 23-й тирады - в 10 строках, а 26-й тирады - в 103. Число примеров можно увеличить до размеров всей публикации сказания, но даже из приведенных отрывков становится видно, что в данном случае при «переводе» был четко выдержан «обратный» принцип представления оригинала читателю. Все поющиеся части эпоса в шорском оригинале состоят из частично расшифрованных слов/сло-восочетаний, не имеющих даже намека на поэтичность, а в русском переводе они даны в очень приблизительном прозаическом пересказе (это именно пересказ, а не перевод). При этом все прозаические (в лучшем случае - прозиметрические) части эпоса представлены в виде текста, разбитого составителем на «стихотворные» строки. Возможности и правомерности представления текста, исполненного в скáзовой манере (ее можно также определять как прозиметрическую), в виде стиха, равно как и связанных с такого рода подачей материала проблем, я уже коснулся чуть выше. Здесь же важно будет задаться вопросом о том, почему же поющаяся и, следовательно, поэтически строго организованная часть сказания вдруг оказалась практически без расшифровки и, следовательно, без перевода? Может быть, в силу непонятности поющихся строк для исследователя? Во вступительной статье к тому шорских сказаний Чудояков писал: «В этом произведении 102 отрезка разной длины и структуры, поющиеся в сопровождении кай-комуса8 и 92 - сказываемые стихом. Часть тирад не сопровождается “сказовым” вариантом» (ШГС 1998: 29). «Некоторые пропетые тексты не поддаются расшифровке - все подчинено ритмообразованию и напеву, слова произносятся усеченными, искаженными, подчас не сочетаются между собой, изобилуют односложные слова типа дей, ди, до, пир и т.д.» (ШГС 1998: 30). Подготовленный Чудояковым том включает, помимо 53 полных но-тировок поющихся частей, «подтекстовки к нотировкам (где удалось расшифровать)». При переводе же на русский язык в случае с «подтекстовками» «с их словообрывами, принята предельно возможная смысловая подача, с вкраплением в кавычках предложений и слов, поддающихся расшифровке и переводу» (курсив мой. - Д.Ф.) (ШГС 1998: 31-32). Очевидно, что все 102 отрывка сказания, исполнявшиеся горловым пением под аккомпанемент кай-комуса, были настолько сложны для понимания составителя и переводчика (с родным шорским языком!), что справиться с задачей их расшифровки ему удалось лишь отчасти. В об-щем-то, это неудивительно, поскольку, как абсолютно верно заметил сам Чудояков, «все подчинено ритмообразованию и напеву». Но, как видится, здесь без внимания осталось одно ключевое слово: «всё». Иначе говоря, без ответа остался напрашивающийся сам собою вопрос - а что же именно было «подчинено ритмообразованию и напеву»? Несколько дальше в работе с текстом песенных тирад продвинулись исследователи шорского эпоса при подготовке очередного тома в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (ФШ 2010). Составитель и переводчик тома Л.Н. Арбачакова смогла предложить не просто пересказ, как у Чудоякова, но - впервые в практике издания шорских эпических текстов - перевод поющихся частей эпоса, «несмотря на кажущуюся фрагментарность и неполноту музыкального эпизода» (ФШ 2010: 19). Тем не менее и здесь ни один из пропетых фрагментов (тирад) не является стихотворным произведением. Скорее, это одно-два-три расслышанных при расшифровке каждой строки слова в сопровождении распевных слов, например: Тирада 17. Анаң чӱгӱрӱп… қайрин… Кӧрзер ӱштер қулақтый… Аттар чӱгӱрӱп… тогуш… Кӧргей оңнер қарақтыг… Алтын… ди Оқча позун кезе… Кӧстеди… Учуқ келип турганоқ… Чооқтажып турдый… (ФШ 2010: 115) Затем скача… дорогой… Видит с тремя ушами… Кони скача… встретились… Видят с десятью глазами… Золотая… ди Стрела его пронзить… Нацелившись… Стал лететь… Стали разговаривать… (ФШ 2010: 165) Неужели пропеваемые части эпоса - это всего лишь какие-то «усеченные» и «искаженные» слова, «не сочетающиеся между собой»? Слова, которые сказитель поет лишь для того, чтобы параллельно с музыкой звучал еще какой-то наполовину бессмысленный текст? Но как же в этом случае быть с тем, что «часть тирад не сопровождается “сказовым” вариантом»? Это ведь может трактоваться лишь так, что смысл у поющихся частей был, и что он был понятен слушателям, во всяком случае, тем, кто регулярно слушал этого сказителя. Эмные объяснения того, что (и как) поется и рецитируется Рассматривая специфику исполнения сказаний шорскими (и хакасскими) қайчы/хайджы, следует учитывать также чисто практическую необходимость изложения содержания пропетого. Дело в том, что сказителей, которые бы могли понятно петь, были буквально единицы. Нормой можно считать ситуацию, при которой аудитория либо вообще не понимает поющегося текста, либо ухватывает лишь обрывки фраз и общее настроение. Порой такая манера исполнения рождала фантастические объяснения. Занятная формулировка причины необходимости чередования пропетой части с ее пересказом встретилась мне в одной из работ канадской исследовательницы Киры ван Дузен. По утверждению ван Дузен, со ссылкой на слова одного из современных хакасских певцов, старающихся обучиться искусству сказителя-хайджы, «это разъясняет пропетую хаем часть, которая может быть на языке духов, сложном для понимания обычными слушателями» (Van Deusen 2000: 231). Сказители у шорцев, а мне довелось общаться, по меньшей мере, с полутора десятками тех, кто считал себя таковыми, никогда не говорили мне о подобном. Зная о том, что слушатели эпоса, а я был свидетель этого, с вниманием слушали как пение, так и пересказ пропетых отрывков, что они могли смеяться и плакать в момент исполнения песенных отрывков, единственным разумным предположением могло стать лишь одно: шорские кайчы поют каем не «на языке духов», а на шорском языке. Сказитель, как правило, не получает информацию извне от духов, а сам идет за ней, сам присутствует «в сказании» и сам же поет и рассказывает слушателям о том, что «видит» (подробно см. Функ 2005: 331-352). А вот как мы однажды обсуждали необходимость прозаических пересказов эпоса сказителями-кайчи с шорским сказителем Владимиром Егоровичем Таннагашевым (Т.) (1932-2007): Т.: У некоторых сказителей, когда поет - не совсем ясно это. А вот я сколько пел, говорят: как же так, у тебя всё слово в слово понимаем. У Михаила [Михаила Кирилловича Каучакова] в основном не понимали. А некоторые как-то вскользь [пропевают слова], что ли. Ф.: А почему надо кусочек спеть, а потом пересказать? И ведь не всегда совпадает. Т.: Поешь, там, наверное, для приукраски слов, одно слово скажешь, а тут уже [при пересказе] - другое слово скажешь. А так-то фактически все одно и то же идет. Без приукраски - иначе в пении не получится, с искажением будет. Не так красиво, нетактично [неритмично], не прямое как стих получится, не складно. Ф.: Есть такие сказители, что сказку просто пением исполняют. Т.: Можно и так. Но это надо, чтобы люди всё поняли. А так испокон веков заведено: пропел, а потом рассказываешь. Надо, чтобы понятно было. У Павла Петровича [Токмагашева] я не все понимал, как он пел. У Опим-апший [хакасского кайчы Опима Подачакова] … его вообще не понимали. У него только один мотив был. Зубов [у него] вообще не было, губа аж на сторону уходила. Слов вообще не поймешь. А [когда] говорил - уже все понятно (из беседы со сказителем 24.07.2002 г., г. Мыски Кемеровской области). О чем поет кайчи? В попытке найти ответ на поставленный вопрос я оставлю в стороне творчество шорского сказителя П.В. Кыдыякова, умершего почти полвека тому назад, и обращусь к собственным материалам, которые удалось получить в сотрудничестве с кайчи В.Е. Таннагашевым, представлявшим ту же региональную сказительскую школу, что и Кыдыяков (подробно о Таннагашеве см.: ШГЭ 2010: 139-159; Funk 2014: 7-36). В процессе регулярной работы с этим сказителем нам общими усилиями удалось провести несколько экспериментов по повторной записи почти десятка эпических сказаний в различной манере. Это были и исполнения горловым пением с «пересказом» пропетого, и повествования в прозиметрической форме, и самозаписи. Но долгое время мне не удавалось четко сформулировать для сказителя задачу, связанную с пониманием поющихся частей эпоса. Я неоднократно просил сказителя пересказать пропетое «слово в слово», но он лишь «повторял» пропетое в прозиметрической/прозаической форме, утверждая, что именно это он и поет. Так продолжалось до тех пор, пока мне не удалось сформулировать - для самого себя - суть проблемы, точнее, вопроса: «А что именно не дает мне услышать (и понять) поэзию/язык поющихся частей эпоса»? Напомню: сам сказитель утверждал, что это стих. И ответ нашелся: во-первых, это музыкальное сопровождение, заглушающее поющиеся слова (это то, на что и раньше обращали внимание исследователи, см. Reichl 2000b: 103-127), и, во-вторых, сама манера исполнения эпоса горловым пением, при которой многие слова не пропеваются целиком или же пропеваются как-то иначе не только согласно длине мелодической строки, но и в связи со спецификой звуко-извлечения. Оставалось лишь попросить сказителя спеть поющиеся части эпоса без музыкального инструмента (кай-комус) и без использования техники горлового пения, обычным голосом. Сказитель на удивление легко согласился, сказав, что «можно и так». Много лет спустя после проведения этого «эксперимента» я обнаружил, что, пожалуй, не был первым, кто решил пойти по этому пути (пусть и на ином материале). Более столетия назад похожую процедуру просил проделать своих сказителей А.Ф. Гильфердинг на Русском Севере: не пересказывать былину словами, а петь ее «с такой расстановкой между каждым стихом, чтобы можно было записывать» (1873: xxxii). Итак, проблема понимания поющейся части шорского эпоса, не поддававшаяся решению в течение полутора сотен лет, оказалась - при правильной постановке вопроса - решена практически за минуту. В моем распоряжении в конечном итоге оказались несколько вариантов исполнения эпоса «Сорокагрудая Кыдай-Арыг», в частности того эпизода, в котором описывается появление Кыдай-Арыг и первый бой с нею богатырши Алтын-Чӱстӱк. Этот эпизод зафиксирован в самозапи-си сказителя в конце октября - начале ноября 2003 г. (полная запись текста), затем, примерно через месяц, в моей полной аудио- и частичной видеозаписи исполнения этого же эпоса в прозиметрической форме (запись 10.12.2003 г.) и, наконец, в записях названного эпизода, в частности, в исполнении «обычным пением» а капелла без кая и музыкального сопровождения (запись 23.10.2006 г.). Издание сразу нескольких версий этого яркого эпического сказания с детальным текстологическим анализом намечено в одном из ближайших томов серии «Шорский героический эпос». Здесь же я хочу ограничиться лишь некоторыми общими замечаниями, важными для понимания структуры и смысла поющейся части шорского эпоса. Ритмическая формула пропетых а капелла отрывков достаточно устойчива и представляет собой в большинстве случаев стихотворные строки с отчетливым членением каждой из них на две части (на два полустишия), а порой - на три части по 4-5 слогов в каждой. Первый пропетый мне Таннагашевым без использования кай-комуса и без горлового пения отрывок из сказания о сорокагрудой Кыдай-Арыг состоит из восьми строк/стихов, где стихи 1-4 и 8 - это два полустишия по 4-5 слогов в каждом, а стихи 5-7 оказываются значительно длиннее (соответственно, 16, 15 и 13 слогов) за счет введения в них третьей важной по смыслу части, позволяющей завершить начатую в этом стихе мысль: I. 1. О-дур-чу-ғай-(ын) 2. чер-лер ÿс-тÿ 3. че-ген ар-ға-зы 4. қай-ран-(ан) э-не(е)н 5. қай-ран-оқ а-ба(а) 6. ақ-(тар) ча-рық-қа 7. пис-тиң-оқ чер-ге 8. теб-(оқ) тур-ға-ны туш-та(а)-рын-да ни-ги-лиш-че(е) тар-та-лыш-ча-(но) ақ-(тар) бер-ған сен-(нер)-оқ айт-қы(ы)н (ам на-ры) сöс-чақ эб-ре у-ғу(у)л öл-бес-пар-ба(а)с Ал-тын-Чÿс-тÿ(ÿ)к. (қай-ран) пар-ған-(но) а-лып кир-чаң Я особо хочу обратить внимание на смысловую полноту и (за небольшими исключениями) грамматическую правильность каждого стиха, каждого предложения. Да, в поющемся тексте присутствуют распевные слова (как в виде избыточных грамматических форм -тар, -нер, -оқ и др., так и собственно распевных слов ам, амнар, но и др.), часто используются необычные для бытовой речи длинноты гласных или же, наоборот, их усечение, порой некоторые слова реально оказываются несколько искаженными (о чем писал еще Чудояков). Тем не менее всякий раз мы имеем перед собой наполненный смыслом стих, который нам и поет сказитель. Возвращаясь к замечанию А.И. Чудоякова о том, что в эпических текстах «изобилуют односложные слова типа дей, ди, до, пир и т.д.» (ШГС 1998: 30), особо подчеркну, что так, видимо, поется в целом весь героический эпос. Так пел Гомер, так пели североамериканские индейцы (ср. у Делла Хаймса: «…“бессмысленные” словечки, или рефрены (burdens), [могут иметь] структурную функцию…» (Hymes 1965: 316), точно так же пели стáрины Онежские сказители, что было отмечено еще А.Ф. Гильфердингом (1873: xxx). И именно эти «бессмысленные словечки» играли в действительности или, по крайней мере, в представлениях отдельных сказителей столь значимую роль, что они могли даже перестать петь эпос именно потому, что забыли их: именно тем, что он забыл «особые слова», в 1983 г. объяснял мне свою неспособность исполнять героический эпос великолепный в прошлом сказитель-кайчи Терентий Сергеевич Камзычаков (пос. Тайлеп в низовьях р. Кондомы). Та же базовая структура поющегося стиха хорошо видна в описании появления самой сорокагрудой Кыдай-Арыг, в ее песенном диалоге с Алтын-Чӱстӱк, в описании их битвы и, наконец, в эпизоде с бегством Кыдай-Арыг под землю: II. Қал-қа-лыг (дей) а-наң кӧр-зе-ле(е)р: то-ғус ай қа-ра(а)т то-ғус ай қар-ат (ам-нар) ÿс-тÿн-ге(е) те-бир сал-ды(ы)ң Қы-дай-А-ры(ы) ам кӧз-нӱк-ти ат-тар аш-пас ке-лип тÿш-тÿ-лер қай-ра шап сал ар-ға-лы зын-ға са-лыл пар-тыр қы-рық эм-чек-тиг ча-дып сал-тыр. те-бир-е сал-чақ (ам) ÿс-тÿн-де қый-(н)ын шығ-нақ-тан Рис. 1. Звуковые волны отрывка II. Скриншот из программы WavePad Master's Edition v.6.23 III. Қы-дай-А-ры чӧй-ға чӧр-ген ий-ги тай-ға-жын сар-нап тур-ду: Ал-тын-Чӱс-тӱк таш-қат-қын-зын-ды Қы-рық эм-чек-ти(и)г то-ғус ол-ба(а) ий-ги эм-че-ги(и)н то-ғу-зоқ ол-ға(-а) Высунув голову из окна, Алтын-Чӱстӱк поет (Пажын кӧзнектең шығар келип, Алтын-Чӱстӱк сарнапча): Рис. 2. Звуковые волны отрывка IV. Скриншот из программы WavePad Master's Edition v.6.23 IV. Қы-рық эм-чек-ти(и)г Қы-дай-А-ры қы-рық ол-ба чӧй-ға чӧр-ге(е)н қы-рық ол-ға қы-рық эм-чек таш-қат-тыр-ған-зы(ы)н Ал-тын-Чӱс-тӱ(ӱ)к теб-оқ сар-нап ам тур-ға-ны V. А-лып пол-заң а-ды-ша(а)-ға кӱ-лӱк пол-заң кӱ-ре-жер-ге(е) теб-оқ қый-ғлап қы-рық эм-чек-тиг э-ниш тӧ-бе-ре(е) Ал-тын-Чӱс-тӱ(ӱ)к ки-ре са-лы(ы)п ке-зип а-лы(ы)п па-зыб-оқ шы-ғы(ы)п тоғ-ра сер-ги(и) ус-туқ па-жын-че(е) ам пар-ға-ны(ы). пее-ре шық-саң, пее-ре шық-саң, тур-ға-ны(ы) Қы-дай-А-рыг. пас-тыр тӱ-жӱ то-ғус қат-паш то-ғус қа-дыл шы-ға пас-ты ал-тын кир-лес қа-ра чер-де чер-а тарт-ты Ал-тын-Чӱс-тӱк! - ам-нар пер-ге-не ам тӱ-бӱ- не ал-тын қу-йақ ал-тын ӧр-ге-дең ам па-жы-наң кӧңме қар шен ӱд-ре па-зып ақ-тар ча-зы(ы) қы-рық эм-чек-ти(и)г сер-гип тур-ды(ы) ча-зы тӧш-те(е)ң қа-быш пар-да-лы(ы)р. ор-та-зын-ға Қы-дай-А-ры қы-бақ паш-қа ту-душ ке-лим чет тур-ған-нар-да те-бир сал-даң у-ру-нуш ке-лип пу-руш ке-лип қа-ра чер-чи(и)к қақ-са-лыш қал-ды(ы)й ча-зыш-ча-лы(ы)р ча-зыш-ча-лы(ы)р тол-дра тӱ-жӱп сӧ-гӱ-лӱш қал-ды па-ла-лы аң-нар у-йа-лы қуш-тар қы-рық-қа тын-мас тур-ға-ны(ы)й қа-дый-оқ а-ғаш пал-ла-ры-наң у-йа-ла-ры -наң қа-ра ту-ман то-ғус кӱн-ге(е) Ал-тын-Чӱс-тӱ(ӱ)к чаш кай-ыш ше-не(е) қы-рық эм-чек-ти(и)г по-луп ке-ли(и)п чер ал-тын-ғы(ы) а-да-зы ба-ры(ы)й. шы-ға-ра қа-быш қа-ра кап ше-не тол-ғуп пар-ды Қы-дай-А-ры қолунаң шуртыл тӱ-жӱ-бӱс-тӱ тур-ған-нар-да сел-гип пар-ды по-ну кӧр-ген қа-ра қор-ға-чын қай-ыл ке-лип Қу-дай-А-ры Несложно заметить, что абсолютно все поющиеся стихи являются именно поэтическим текстом (во-первых), который оказывается вполне осмысленным и потому доступным для расшифровки (во-вторых). Можно также уверенно сказать и о том, что сказитель был по-своему прав, когда утверждал, что разницы между поющимся и рассказываемым эпосом практически нет. Это можно легко продемонстрировать на примере отрывка (в записи без распевных слов), пропетого а капелла (отрывок № II) и соответствующего ему смыслового отрывка из само-записи9 этого сказания самим Таннагашевым10: Самозапись (2003 г.) Ат ашпас арғалыг сынға На горный хребет, что коню не преодолеть, Тоғус пара11 ай қараттар кел тÿштÿлер. Девять вороных коней опустились. Тоғус пара ай қараттардың ÿстÿнге На девяти вороных конях Тебир сал салдыр салтыр, Железный помост лежит, оказывается, Тебир салдың ÿстÿнде На железном помосте Қырық эмчектиг қыс палазы чат салтыр. Сорокагрудая девушка лежит, оказывается. Қыс палазы қыйын чатқан озыба қыйғы кел салча… Девушка на боку лежит (и) крик издает… Пение а капелла (2006 г.) Аттар ашпас арғалыг сынға На горный хребет, что коням не преодолеть, Тоғус ай қарат келип тÿштÿлер Девять вороных коней опустились. Тоғус ай қарат(тың) ÿстÿнге На девяти вороных конях Тебир салчақ салып партыр Железный помостик лежит, оказывается, Тебир салдың ÿстÿнде На железном помосте Қырық эмчектиг Қыдай-Арыг Сорокагрудая Кыдай-Арыг Қыйын шығ(а)нақтан чадып салтыр На боку, на локоть оперевшись, лежит, оказывается. И все же главный вопрос - а что именно поет сказитель во время исполнения эпоса горловым пением под аккомпанемент на своем двуструнном музыкальном инструменте? - остается открытым. Для ответа на него мною была осуществлена запись того же самого эпизода первой встречи и битвы Алтын-Чӱстӱк с сорокагрудой Кыдай-Арыг в стиле кай в исполнении того же самого сказителя Владимира Таннагашева. Видеозапись общей продолжительностью около 11 минут была произведена 22 октября 2006 г., за день до того, как сказитель исполнил мне этот отрывок а капелла. Расшифровку всей записи эпоса планируется опубликовать позднее, здесь же мне представляется важным продемонстрировать принципиальную устойчивость исполняемого текста - вне зависимости от стиля исполнения, будь это прозиметр, пение а капелла или пение в стиле кай. Попробуем начать с самого начала (см. выше первый фрагмент в исполнении а капелла), но только теперь возьмем за основу текст в стиле кай (столбец слева) и сравним его со строками, пропетыми а капелла (столбец справа): Одур ой эп чығын Одурчуғайын теп оқ тӱштарын дей туштарында черлер пир ӱштӱ черлер ÿстÿ қыйбражып чаран оқ нигилишче чеген пир тӱбӱ чеген арғазы қый(…)иш турған оқ деи-дӧй тарталышча но қайран ан энен ақ тар берған қайран абый қайран оқ аба сен нер айтқан сен нер оқ айтқын қайран оқ сӧсчек ам нары сöсчақ ақ тар чарыққы ақ тар чарыққа эбирей уғул эбре уғул қайран парған но қайран парған но пистин оқ черге пистиң оқ черге ӧлбес-парбас öлбес-парбас алып оқ кирче алып кирчаң теп оқ турғаны теп оқ турғаны ам нар Алтын оқ қайран оқ Чӱстӱк қыс тар палазы адазы парой Алтын-Чÿстÿк При исполнении эпоса в стиле кай сказитель, очевидно, ориентируется на длину музыкальной фразы, под которую он подгоняет исполняемый стих, для чего и использует распевные слова. Среди них и форманты множественного числа (-нер, -нар, -тар), и слова или частицы, которые имеют самостоятельное значение в обычном языке (типа оқ ‘же', пир ‘один', қайран ‘дорогой/дорогая'), и просто распевные слова, не имеющие смысловой нагрузки вроде дей, деи-дӧй, но или ой/ей, которые порой заметно меняют фонетический облик основного слова, как в случае со словом парий, которое при пении каем превратилось в парой, или эбире, которое было пропето как эбирей. Следует отметить и возможность варьирования во время пения как аффиксов, так порой и корневых звуков (как гласных, так и согласных; например, вместо ӱстӱ при пении каем было пропето ӱштӱ). Слово сӧс ‘слово' в разных вариантах пения приобрело уменьшительноласкательную форму с аффиксами -чақ и -чек (сӧсчақ и сӧсчек; в первом случае - с нарушением правила гармонии гласных). В аффиксах отмечается устойчиво-равноправное чередование ы и а: айтқан (лит. норма) / айтқын, чарыққа (лит. норма) / чарыққы. В случае с глагольной формой кирча (‘входит/заходит', 3 л. ед.ч.) и вовсе в обоих случаях исполнения пением нормативная форма не встретилась: кирче (кай) и кирчаң (а капелла). Как видно из приведенной расшифровки, даже имя персонажа может не просто сопровождаться распевными словами, но и разрываться ими, как в случае с именем Алтын-Чӱстӱк. При исполнении каем это имя оказалось пропетым в четыре стиха: ам нар Алтын оқ теперь нар (мн. ч.) Алтын же қайран оқ Чӱстӱк дорогая же Чюстюк қыс тар палазы девушка тар (мн. ч.) ребенок адазы барой знаменитая Предпринятый опыт расшифровки поющихся частей эпоса позволяет думать, что есть все основания для подготовки к изданию шорских эпических сказаний, исполненных в традиционной для кайчи манере, именно в таком виде, в каком они звучали, с тем, чтобы поющийся стих и в записи, и в переводе, действительно, оказывался стихотворным текстом, а не намеками на смысл пропетого отрывка с вкраплением оборванных слов и словосочетаний, которые случайно удалось разобрать. В заключение позволю себе еще несколько мыслей или, скорее, комментариев. Продемонстрированная мной история поиска решения одной из проблем в изучении культуры тюрков Южной Сибири и предложенный вариант ее решения - лишь часть айсберга тех вопросов, которые можно задать в связи с рассмотренным кейсом. Был ли Таннага-шев единственным среди сказителей-кайчи, кто осознанно пел не «набор слов», а именно стихотворный текст? Полагаю, что нет и что это была норма для всех сказителей. Если же пропеваемая часть эпоса являлась насыщенной смыслом (как для сказителя, так и для его слушателей), то играло ли особую роль музыкальное сопровождение этого пения? Почти 40 лет тому назад мне довелось общаться с упоминавшимся ранее сказителем-кайчи Т.С. Камзычаковым, который в прошлом, по его словам, исполнял сказания, используя 43 различные мелодии, причем каждая из них имела особое название и была приурочена к особым мотивам богатырских сказаний: мелодия пуға-қай (бык-кай) использовалась при описании битвы богатырей, чазы-қай (поле-кай) - поездки, торчуқ-қай (соловей-кай) - лирических сцен… Кажется, абсолютно всё в очередной раз указывает на неразрывную связь мелодии и текста (напомню, эта та связь, которую с помощью кайчи Таннагашева удалось «нарушить», чтобы услышать то, что поется в эпосе), но это не совсем так. И пример этому - все тот же кайчи Камзычаков. Ко времени нашей с ним встречи он уже не был практикующим сказителем, но односельчане и шорцы из соседних деревень относились к нему именно как к сказителю, всякий раз приглашая его на ночные бдения у тела умершего для «исполнения эпоса» (фактически - для исполнения лишь эпических мелодий). Надо полагать, для старшего поколения шорцев - в условиях стремительно трансформировавшейся культуры - игра на кай-комусе12 без пения эпоса оставалась в данной ситуации символом сохранения традиции, а вполне возможно и достаточным элементом для того, чтобы в мелодиях эпоса «видеть/слышать» эпическое сказание таким, каким оно могло бы быть в «норме». Есть в представленном кейсе и момент, связанный с этикой поля. Впервые на него обратил внимание один из моих студентов в университете г. Печ, где я читал несколько региональных курсов весной 2009 г. Сюжет, ставший основой данной статьи, был представлен тогда в виде задачи для учащихся (я предлагал им решить за 1,5 минуты проблему, которая не решалась в науке в течение 150 лет). Студенты моментально выходили (с некоторой толикой подсказок с моей стороны) на правильную формулировку вопроса и справлялись с поставленной задачей в отведенные им полторы минуты. Вопрос же, связанный с этикой и заданный сразу после того, как студенты нашли верный ответ, звучал примерно так: «Если культура так долго не пускала нас в себя, то может быть и не надо (=нельзя) было предпринимать такого рода интеллектуальных усилий?» Признаюсь, тогда, да и долгое время после, у меня не было однозначного ответа, пока я не обнаружил его сначала в собственных же полевых материалах, а затем и в материалах других исследователей. Целый ряд моих пожилых информантов в разных районах Республики Алтай рассказывали о том, как сказители передавали эпическое знание детям. Они откладывали топшуур и исполняли сказание без использования горлового пения, так, чтобы все про-певаемые ими слова были отчетливо слышны и понятны13. Если в дидактических целях подобное обращение с эпосом допускалось, то шорский сказитель Таннагашев, пожалуй, не производил насилия над собой и над эпическим наследием, когда я вдруг попросил его отложить в сторону свой инструмент и не петь эпос каем… Нечто похожее, как я указывал ранее, предпринял А.Ф. Гильфердинг, когда пытался записать русские былины именно так, как они поются: сказитель Абрам Евтихиев, которого исследователь особо отмечает, но также и почти все другие исполнители, с которыми он работал, охотно соглашались на медленное пение (Гильфердинг 1873). Соответственно, и мне не пришлось нарушать неких запретов, которых, как оказалось, в данном случае не было. Эпическая традиция - многомерный феномен, отнюдь не сводимый лишь к текстам (Кунанбаева 1985; Функ 1989 и др.) и составляющий значимую часть культурного и социального пространства локальных сообществ. Вместе с тем, как я пытался показать в данной статье, даже в самих текстах могут встречаться белые пятна, причем не только и даже не столько на стадии их трактовок-«прочтений», сколько на этапе порождения этих текстов и их фиксации. Чем меньше таких пятен будет оставаться, тем больше мы будем разбираться в сути этого удивительного феномена. Благодарности Статья написана в рамках проекта «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур» (мегагрант Правительства РФ, № 14.Y26.31.0014, рук. А.В. Дыбо). В процессе работы над русским вариантом с
Труды А.И. Чудоякова // Деятельность Андрея Ильича Чудоякова и духовное возрождение шорского народа. Новокузнецк: НГПИ, 1998. С. 145-146
Ай-Толай. Героические поэмы и сказки Горной Шории. Новосибирск: ОГИЗ, 1948
Бабушкин Г.Ф. Шор ныбактары. Г.Ф. Бабушкин паскан. Новосибирск: Новосибирское областное государственное издательство, 1940
Бутанаев В.Я. и др. Хакасы // Тюркские народы Сибири / ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов. М.: Наука, 2006. С. 533-630
Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года. СПб.: Тип. Императорской АН, 1873. LVI, 1336 с
Кимеев В.М. и др. Шорцы // Тюркские народы Сибири / ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов. М.: Наука, 2006. С. 236-324
Кунанбаева А.Б. Феномен музыкальной эпической традиции в казахском фольклоре // Artes populares (Budapest). 1985. № 14. С. 121-133
Радлов В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи, собраны В.В. Радловым. Ч. 1: Поднаречия Алтая: алтайцев, телеутов, черновых и лебединских татар, шорцев и саянцев. СПб., 1866. xxiv, 420 с
Стоянов А.К. Искусство хакасских хайджи // Алтын-Арыг. Хакасский героический эпос. М.: Наука, 1988. С. 577-590
Гацак В.М., Петросян А.А. (отв. ред.) Текстологическое изучение эпоса. М.: Наука, 1971. 231 с
Травина И.К. Шорские народные сказания, песни и наигрыши. М.: Композитор, 1995. 135, [1] с
Функ Д.А. Методические аспекты характеристики современного состояния эпической традиции // Полевые исследования ГМЭ народов СССР 1985-1987 г.: тезисы докладов научной сессии. Л., 1989. С. 78-79
Функ Д.А. Миры шаманов и сказителей (комплексное исследование телеутских и шорских материалов). М.: Наука, 2005. 398 с
Функ Д.А. Новый архивный источник для изучения культуры шорцев середины ХХ века // Этнографическое обозрение. 2010. № 2. С. 120-137
ФШ 2010 - Фольклор шорцев / вст. ст., коммент., примеч., указ. Л.Н. Арбачаковой. Сост., подгот. текстов и пер. Л.Н. Арбачаковой; сверка шор. текстов Г.В. Косточакова; текстол. ст. Л.Н. Арбачаковой, С.П. Рожновой; музыковедч. ст. и нотные записи Г.Б. Сыченко; сост., композиция компакт-диска Л.Н. Арбачаковой, Г.Б. Сыченко; подгот. мастер-диска Г.А. Петрова; ред. пер. С.П. Рожнова; ред. науч. аппарата Е.Н. Кузьмина; ред. музыковедч. раздела Г.Е. Солдатова. Новосибирск: Наука, 2010. 608 с
ШГС 1998 - Шорские героические сказания / вступ. ст., подгот. поэт. текста, пер., коммент. А.И. Чудоякова; музыковедч. ст. и подгот. нотного текста Р.Б. Назаренко. Москва; Новосибирск: Наука, 1998. 463 с
ШГЭ 2010 - Шорский героический эпос. Т. 1 / сост., подгот. к изд., вступит. ст., пер. на рус. яз., примеч. и коммент. Д.А. Функа. М.: ИЭА РАН, 2010. 2-е изд. Кемерово: Примула, 2010. 392 с
ШГЭ 2011 - Шорский героический эпос. Т. 2: Шорский фольклор в обработке О.И. Благовещенской / подгот. к изд., вступит. ст. и коммент. Д.А. Функа. Кемерово: Примула, 2011. 274 с
ШГЭ 2012 - Шорский героический эпос. Т. 3: Сыбазын-Олак. Выспоренная Алтын-Торгу. Кара-Хан / сост., подгот. к изд., ст., пер. на рус. яз., при., примеч. и коммент. Д.А. Функа; сказитель В.Е. Таннагашев. Кемерово: Примула, 2012. 280 с., CD
ШГЭ 2013 - Шорский героический эпос. Т. 4: Шорские эпические сказания в записях В.В. Радлова / сост., вступ. ст., подгот. шорских текстов к изд., пер. на рус. яз., при-меч., коммент., прил. Д.А. Функа. Кемерово: Примула, 2013. 207 с
ШФ 1940 - Шорский фольклор. Записи, перевод, вступительная статья и примечания Н.П. Дыренковой. М.; Л.: Издание АН СССР, 1940. xxxix, 448 с
Foley J.M. The Singer of Tales in Performance. Bloomington, IN: Indiana UP, 1995
Funk D. On the Principles of a Digital Text Corpus: New Opportunities in Working on Heroic Epics of the Shors // Oral Tradition. 2013. No. 28/2. P. 193-204
Funk D. The Present State of the Epic Tradition Among the Shor (Specific Material and General-Theoretical Problems) // Anthropology & Archeology of Eurasia. 2014. Vol. 52, No. 4. Р. 7-36
Funk D. What does the storyteller sing? On transcribing the epics of South Siberian Turks // Folklore. Electronic Journal of Folklore. 2019/1. Vol. 75. P. 147-164
Hatto A. Textology and epic texts from Siberia and beyond // Textualization of oral epics / ed. by L. Honko. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000. P. 129-160
Honko L. Epics along the Silk Roads: Mental Text, Performance, and Written Codification // Oral Tradition. 1996. No. 11/1. P. 1-17
Honko L. (ed.) Textualization of oral epics. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000
Hymes D. Some North Pacific Coast Poems: A Problem in Anthropological Philology // American Anthropologist. 1965. Vol. 67. P. 316-341
Radloff W. Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme Süd-Sibiriens, gesammelt und übersetzt von Dr. W. Radloff. I. Theil: Die Dialecte des eigentlichen Altaj: der Altajer und Teleuten, Lebed-Tataren, Schoren und Sojonen. St.-Pbg., 1866. хvi, 434 S
Reichl K. (ed.) The Oral Epic: Performance and Music. Berlin: VWB, Verlag für Wiss. und Bildung, 2000a. viii, 248 p
Reichl K. Silencing the voice of the singer: problems and strategies in the editing of Turkic oral epics // Textualization of oral epics / ed. by L. Honko. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000b. P. 103-127
Van Deusen K. The Shamanic Gift and the Performing Arts in Siberia // Шаманский дар / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2000. P. 223-242
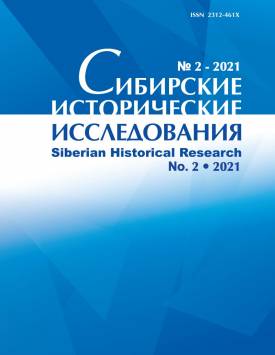

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью