Погребальная кукла с кремацией из Оглахтинской могилы 4 (раскопки Л.Р. Кызласова 1969 г.)
Практика таштыкских грунтовых погребений (ранний этап таштыкской культуры Минусинской котловины) объединяла захоронения по двум обрядам: ингумации со свидетельствами вероятной мумификации (трепанация черепа) и кремации с помещением сожженных костей в человекоподобные куклы-манекены. Существование такого биритуализма обычно объясняют неоднородностью таштыкского общества, включившего в свой состав мигрантов, принесших обряд кремации, закрепившийся наряду с местным обрядом ингумации/мумификации. Половозрастные определения погребенных из могильников, раскопанных Э. Б. Вадецкой, показали, что кремации подвергались преимущественно мужчины, а ингумация/мумификация была характерна для женщин, детей и подростков. Оба тезиса, однако, недостаточно обоснованы и требуют подтверждения и конкретизации на широких материалах, как культурных (археологических), так и биологических (антропологических и генетических). Комплекс находок из могилы 4 Оглахтинского могильника (III-IV вв. н.э.) с хорошо сохранившимися органическими материалами предоставляет уникальную возможность для совместного рассмотрения культурных и биологических характеристик погребенных здесь взрослых людей - двух мумий и двух кукол. Возможная субъективность выводов, связанная с индивидуальным характером исходных данных, отчасти компенсируется их детальностью. Культурные характеристики всех погребенных в могиле 4 и краниологические данные мужской мумии были рассмотрены нами ранее. Настоящая статья посвящена изучению одной из кукол с костями кремации. Впервые дается подробное описание куклы и ее одежды, находящегося в ней кожаного футляра с кремированными костями и результаты исследования самих костей. Крупные размеры фрагментов позволили установить пол и возраст погребенного и составить представление о процессе кремации. Приведен обзор немногочисленных известных параллелей оглахтинским куклам в материалах других культур, что важно для дальнейшей интерпретации таштыкских материалов.
Burial mannequin with cremains from the Grave 4 of the Oglakhty burial ground (excavations by L.R. Kyzlasov, 1969).pdf Введение Факты совместного захоронения людей, погребенных по разным обрядам, редко фиксируются в археологических памятниках, однако Статья написана при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. именно такие захоронения были характерны для населения таштыкской культуры Минусинской котловины, особенно ее раннего этапа, приблизительно датируемого в пределах I-IV вв. н.э. Здесь в грунтовых могилах с деревянными срубами находят расположенные бок о бок погребения, совершенные по двум основным обрядам: ингумации или мумификации (если черепа трепанированы) и кремации в куклах-манекенах. Иногда встречаются отдельно сложенные кости или следы потревоженных или разложившихся тел, однако эти останки связаны скорее с перезахоронениями и представляют один из этапов погребений по обряду ингумации (Вадецкая 1975: 181; 1986: 40; 1999: 30-31, 49). Кремация как устойчивый обряд погребения связана в Южной Сибири именно с таштыкскими памятниками. Наряду с другими новшествами этого времени, распространение обряда кремации может свидетельствовать о появлении в Минусинской котловине пришлой группы людей, о чем неоднократно писали исследователи со времен С.А. Теп-лоухова. Так или иначе, если таштыкские грунтовые захоронения, включающие от двух до четырех взрослых и иногда детей, были семейными гробницами, то люди с разными погребальными традициями жили в пределах одной семьи, что представляет одну из ключевых особенностей таштыкского общества этого периода. Одна из основных проблем изучения таштыкских грунтовых могильников - происхождение той части населения, появление которой в Минусинских степях и взаимодействие с местными группами привело к формированию новой культуры. Другая проблема связана с интерпретацией погребального биритуализма как возможного отражения устройства таштыкского общества и наличия специфических групп в его составе. Наконец, помещение кремированных останков в имитирующие человеческие тела куклы-манекены, специфичное для таштык-ской культуры, также нуждается в объяснении. Один из способов решения этих вопросов состоит в сопоставлении культурных (археологических) и биологических (половозрастных, антропологических, генетических) характеристик людей, погребенных по разным обрядам. Скудость сохранившихся предметов в большинстве таштыкских могил и сложность их соотнесения с конкретными погребенными не позволяли до сих пор раздельно описать обычно отражаемые в костюме и сопутствующих материалах культурные особенности людей, захороненных в виде мумий и кукол. Получение антропологических характеристик погребенных также было затруднено по ряду причин. Значительная часть человеческих останков в этих памятниках представлена кремированными останками, длительное время считавшимися малоинформативным источником, который практически не изучали и не брали на хранение. Однако и погребенные по обряду ингумации с антропологической точки зрения изучены явно недостаточно. Показательно, что последние данные индивидуальных измерений таштыкских черепов опубликованы более полувека назад (Дебец 1948; Алексеев 1954, 1961), хотя раскопки могильников проводились и значительно позднее1. Изучение мумий, обнаруженных на Оглахтинском могильнике А. В. Адриановым и Л. Р. Кызласовым, затруднялось наличием мягких тканей, и лишь недавно вопрос нашел решение в использовании методов компьютерной томографии (Широбоков, Панкова 2021а; 2021б). Методами генетики на сегодняшний день изучены лишь останки шести индивидов из могильника Абакано-Перевоз I (Keyser et al. 2009: table 1)2. Генетические исследования, к сожалению, не применимы к изучению кремированных останков, так как ДНК не сохраняются в сильно пережженных костях. Родственные связи погребенных могут быть надежно установлены только по данным генетического анализа. Если семейный характер таштыкских могил подтвердится, генетические особенности предполагаемых мигрантов могут отразиться и на характеристиках погребенных по обряду ингумации. Изучение этих вопросов может составить отдельное исследовательское направление. Больше других вопросами интерпретации таштыкских захоронений по разным обрядам задавалась Э. Б. Вадецкая, организовавшая, в частности, антропологическое исследование кремаций и ингумаций из раскопанных ею памятников. Половозрастные определения значительного числа материалов из могильников Комаркова-Песчаная, Мысок, Терский, Новая Черная IV и V, проведенные М. П. Грязновым, Н. М. Ермоловой и А. В. Громовым, показали, что все определимые кремации в них принадлежали мужчинам, а большинство ингумаций - женщинам (Ва-децкая 1975: 181; 1986: 37-39; 1996: 48; Широбоков, Панкова 2021б: табл. 2). На этом основании и опираясь на предположение, высказанное Г.Ф. Дебецем (1948: 129), Э.Б. Вадецкая сформулировала важный тезис о том, что большинство мужчин сжигали, а тела женщин, детей и подростков предавали земле (Вадецкая 1986: 39). Приведенные Э. Б. Вадецкой числа очень убедительны, но вывод требует уточнения. Соотношение мужчин и женщин в сериях из других могильников, измеренных в рамках более ранних краниологических исследований, не согласуется с идеей о преобладании женщин среди погребенных по обряду ингумации (Дебец 1948; Алексеев 1961). Данные из недавних раскопок могильника Сахсар также свидетельствуют, что выбор кремации или трупоположения не зависел от пола умершего (Грачев 2013: 30). Наконец, по метрическим признакам в целом легче идентифицировать фрагментированные останки наиболее массивных мужских скелетов, чем провести разделение между фрагментами костей женских, грацильных мужских и подростковых скелетов. Возможно, это отчасти повлияло на наблюдение о преобладании мужчин среди погребенных с идентифицированным полом, захороненных по обряду кремации. Возможно, в действительности связь обряда с полом погребенных отличалась у разных групп населения или менялась со временем. Так или иначе, необходимо возобновление антропологического изучения таштыкских кремаций и ингумаций с учетом современных представлений о периодизации таштыкской культуры и происхождении та-штыкского населения, а также с использованием новых методик. Конкретными важными задачами являются сбор доступных материалов таштыкских ингумаций и кремаций, их целенаправленное изучение по всем возможным для каждого вида погребений параметрам, сопоставление их хронологической и территориальной изменчивости, а также сравнительный анализ половозрастных характеристик погребенных. Разработанные в последние десятилетия методики работы с кремированными останками позволяют ставить и решать такие вопросы, как температура кремации, положение тела относительно источника огня, состояние тела в момент кремации, связанное со временем, прошедшем от момента смерти до сожжения тела, пол и возраст погребенных, избирательность сбора останков с места кремации (Щеголев 2000; Fairgrieve 2008; Holck 2008; Добровольская 2010). Эти характеристики позволяют судить о некоторых особенностях погребального обряда, т. е. дают информацию, которую, при накоплении достаточного объема данных, можно использовать для сопоставления захоронений из разных таштыкских могильников и культур. Эти методики уже были применены при исследовании таштыкских кремаций под каменными выкладками (Митько, Николаева 2016) и близких по времени кремаций из памятников Нижнего Приангарья (Дедик 2020). Публикации, посвященные изучению кремированных останков из таштыкских грунтовых могил, до настоящей работы отсутствовали. Возможности анализа культурных и антропологических характеристик мумий и кукол зависят от сохранности и объема материалов, достоверно связанных с каждым из таких погребений. Идеальным комплексом для проведения такого сравнения является могила 4 Западного участка Оглахтинского могильника (раскопки Кызласова 1969 г.), в которой сохранились как предметы одежды и погребального инвентаря, так и мумии и уникальные погребальные куклы с кремированными человеческими останками. Для этой могилы есть и надежные хронологические привязки, позволяющие датировать захоронение III-IV вв. н. э. (Панкова и др. 2010; Панкова, Миколайчук 2019; Pankova et al. 2020). Культурные характеристики двух найденных здесь мумий и двух кукол уже были рассмотрены в отдельной статье и сопоставлены по таким позициям, как костюм (одежда, обувь, прически) и погребальные принадлежности (подголовья, лицевые покрывала, посмертное оформление лиц) (Pankova 2020). Начало антропологическому изучению мумий из могилы 4 положил анализ головы мужчины при помощи компьютерной томографии (Широбоков, Панкова 2021а, 2021б). Получены данные о возрасте и краниологических особенностях этого погребенного, а также проводимых с его головой посмертных процедурах, следы которых сохранились в виде сшитых разрезов кожи лица и трепанационного отверстия на черепе. Настоящая статья представляет следующий этап изучения погребенных и сопутствующих им материалов из могилы 4 и посвящена рассмотрению одной из кукол с костями кремации. Впервые дается подробное описание куклы и ее одежды, находящегося в ней кожаного футляра с кремированными костями и результаты исследования самих костей. Крупные размеры фрагментов позволили установить половозрастную характеристику погребенного и составить представление о процессе кремации. Полученные данные являются хорошей основой для будущих сопоставлений с материалами других погребальных комплексов. В заключение приведен обзор аналогий оглахтинским куклам с кремациями в материалах территориально и хронологически далеких культур, представления о которых могут оказаться важными для дальнейшей интерпретации таштыкских материалов. Куклы-манекены из могилы 4 Могила 4 была исследована Л.Р. Кызласовым в 1969 г. на Западном участке памятника. Из всех раскопанных могил она выделяется не только наилучшей сохранностью органических материалов, но и полнотой коллекции, целиком хранящейся в Эрмитаже. Четверо взрослых и ребенок из могилы 4 были погребены по двум разным обрядам (рис. 1, a, b). Рис. 1. Оглахтинский могильник, могила 4: а - план (с рисунка Л.Р. Кызласова 1969 г.); b - Вид погребения после снятия перекрытия. Фотография Л.Р. Кызласова 1969 г. Двое взрослых - мужчина и женщина - захоронены по обряду ингума-ции с трепанированными черепами и расписными гипсовыми масками на лицах. Сходным образом, видимо, был похоронен ребенок, находившийся в ногах взрослых. Недалеко от его черепа лежали обломки маски со следами красной краски (Кызласов 1992; Кызласов, Панкова 2004: 62)3. Тела двух других взрослых были сожжены, а выбранные из костра кости помещены внутрь человекоподобных кожаных манекенов (рис. 2, a, b). b Хорошо сохранившаяся голова подобного манекена и другие его фрагменты были обнаружены в 1903 г. А.В. Адриановым (Tallgren 1937: fig. 5-7; Вадецкая 1999: 22-23, рис. 7). Эти так называемые погребальные куклы - единственные сохранившиеся образцы таштыкских погребений такого рода. Останки подобной куклы отмечены в могильнике Сахсар в Аскизском районе Хакасии (Грачев 2013: 29). В могильнике Староозна-ченская переправа I (могила 29) кремированные кости человека были разложены на дне могилы в соответствии с анатомическим порядком. Какое-либо вместилище-манекен не упомянуто и, по мнению авторов раскопок, отсутствовало (Митько, Тетерин 2008). Мумии и куклы в могиле 4 были погребены в меховой одежде и обуви, с характерными прическами, их головы покоились на подголовниках, а на лицах находились особые погребальные покрытия. Сопоставление костюмов мумий и кукол показало их значительное сходство, что позволяет предполагать единство прижизненной культуры оглахтинцев (Pankova 2020). Явное отличие, помимо собственно способа погребения (кремация в кукле или ингумация/мумификация), касалось лишь такой принадлежности ритуального характера, как подголовники. Под головами мумий лежали деревянные чурбаки, а у кукол настоящие кожаные подушки: две из них наполнены сухой травой, третья - волосом северного оленя (рис. 3, a, b) (Кызласов 1992; Кызласов, Панкова 2004; Кызласов, отчет: 44, 47). b Рис. 3. Подголовья из могилы 4 Оглахтинского могильника: a - деревянный чурбак из-под головы мужской мумии; b - кожаная подушка куклы 2 (Государственный Эрмитаж, инв. № 2864/37; 2864/20) Если отличие в способах погребения действительно было связано с различным происхождением населения, сформировавшего культуру таштыкских грунтовых могильников, можно предполагать, что «бытовые», «повседневные» отличия разных групп со временем нивелировались, тогда как черты их погребальных традиций оказались более устойчивы к ассимиляции. Если верно наблюдение о гендерной специфике мумий и кукол, традиции разных групп могли закрепиться по мужской и женской линиям. Следует, однако, иметь в виду, что эти выводы сделаны по материалам лишь одного погребения и нуждаются в проверке с привлечением дополнительных данных. Два помещенные в могилу куклы - это человекообразные манекены, сшитые из кожи сухожильными нитями и заполненные скрученной в витки травой. Сожженные человеческие кости помещены в кожаные футляры, находящиеся в области верха живота манекенов. Кукла 1, лежавшая в центре могилы, сохранилась почти полностью, ее длина 161 см (см. рис. 2, а). Передняя часть кожаной головы куклы 1 - ‘ лицо' - обшита красной шерстяной тканью, на которую нанесены горизонтальные полосы черной угольной краской. Под тканью пришит свернутый кусочек кожи, обозначающий нос. Задняя часть головы не сохранилась, и с оборота ‘лица' видно, что на месте глаз сделаны прорези. Кожаные уши обшиты отдельными кусочками другой красной шерстяной ткани (Pankova 2020: fig. 17). На темени сохранился фрагмент накосника - кусочек полихромного шелка, пришитый с трех сторон как кармашек, а в нем пучок травы (имитация волос?) (Панкова, Миколайчук 2019: рис. 2-4). На животе куклы была найдена настоящая косичка с обломком деревянной шпильки (Панкова 2018: рис. 2, 1-2), видимо, перемещенная с головы грызунами. Кукла одета в шубу и штаны и обута в сапожки, от которых сохранились носы и передняя часть голенища (Панкова 2020; Pankova 2020: fig. 19). В месте утраты кожи живота виден уголок футляра (рис. 2, а). Рентгенография куклы в области футляра, проведенная в 2012 г. в Отделе научно-технологической экспертизы Эрмитажа, показала, что в футляре подпрямоугольной формы размером около 18 х 23 см расположено плотное скопление костей. Отдельные фрагменты, выступающие за его пределы, представлены среднего размера обломками костей, заполненных губчатым веществом4. Хорошая сохранность куклы 1 не позволяет вынуть футляр с кремацией. У куклы 2 кожа груди и живота, как и часть футляра под ними, сильно разрушена, так что пережженные кости оказались обнажены, что сделало возможным их извлечение и изучение. Кукла 2: расположение в могиле и сопутствующие предметы, устройство, одежда Кукла 2 находилась в могиле под телом женщины у северной стенки сруба на толстом желобообразном куске березовой коры. Кукла представляет собой кожаный футляр, в общем виде передающий форму, размеры и пропорции человеческого тела (длина куклы 2 - 153 см). Кукла 2 сохранилась хуже куклы 1: голова и ступни утрачены, область груди разрушена, так что кости сожжения оказались на поверхности. Разрушены и плечевые части рук, а также соответствующие участки шубы. По замечанию Л.Р. Кызласова, кукла 2 «выглядит более старой, в сравнении с куклой № 1» (Кызласов, отчет: 47). Проанализировав расположение погребенных, автор раскопок предположил, что кукла 2, мумия мужчины и ребенок были помещены в сруб первыми, а позднее подхоронили мумию женщины и куклу 1 (Кызласов 1992: 67; Кызласов, Панкова 2004: 62). Кукла 2 была похоронена в шубе и штанах. Вдоль левой ноги куклы была положена модель горита (рис. 4, а) (Панкова 2021), а под ним миниатюрная модель конской уздечки из ремешков с железными удилами и прямыми деревянными псалиями с заостренными шишечками, вырезанными на концах (рис. 4, b); здесь же лежала модель нагайки в виде палочки с ремешком. На основании этих находок Л.Р. Кызласов считал, что трупосожжение в данной кукле принадлежало мужчине-воину (Кызласов, Панкова 2004: 62). а О 3 см I_I_I_I Рис. 4. Оглахтинский могильник, могила 4. Предметы, сопровождавшие куклу 2: а - модель горита с моделями лука и стрел; b - модель узды (Государственный Эрмитаж, инв. № 2864/21; 2864/... Фото П.С. Демидова; С.В. Панковой) При описании куклы 2 Л. Р. Кызласов упомянул «тонкий кожаный головной убор и человеческую кожу с волосами - нечто вроде скальпа», лежавшие у западной стенки сруба (Кызласов, отчет: 47). Головной убор по покрою подобен шапке мужской мумии (Панкова и др. 2010: рис. 2) и также имеет лицевое покрывало, однако то и другое плохо сохранилось. Загадочный «скальп» - «кожа, снятая с головы погребенного перед сожжением тела» (Кызласов, Панкова 2004: 63), не идентифицирован среди предметов коллекции. Детали манекена - торс, шея, руки, ноги - сшиты встык толстой двойной сухожильной нитью. Ноги и торс сделаны из толстой слабо выделанной кожи с густым коротким рыжим ворсом, обращенным наружу. Сохранившаяся часть плеч и рук (предплечья), а также шея изготовлены из кожи без ворса (рис. 5, 6, b, c). Внутри всех частей кожаного футляра - торса, конечностей, шеи - находится травяная набивка. Согласно определению А. В. Калининой 1970 г. (Ботанический институт им. В. Л. Комарова АН СССР), это листья перистых ковылей (секции Pennatae), в основном Stipa rubens P. Smirn. (ковыль красный) с небольшой примесью ковыля Иоанна (Stipa Joannis Cel.) (Tarasov et al. 2021). Выпавшие отдельные витушки представлены овальными подушечками размером 9-11 x 8 см. В грудной части и некоторых других местах трава спрессована или разрушена до мелкой россыпи. Вероятно, футляр-тело был плотно набит отдельными витушками, а не сшит на какой-то единой травяной основе. Никакого дополнительного каркаса внутри манекена не прослеживается: его нет ни в разрушенной грудной части, ни в заполнении доступной для осмотра правой руки. Сохранность куклы - фрагментарность и хрупкость кожаных частей, сыпучесть травы - не позволяет с легкостью переворачивать куклу, удалось только ненадолго взглянуть на ее спину и нижнюю поверхность ног. Торс сшит из переднего и заднего кусков кожи, края которого соединены встык вдоль боков куклы. Сверху края торса соединены по плечам, по сторонам от вшитой шеи. Верх спины из сплошного куска кожи сохранился на высоту 15 см. Нижний прямой край кожи торса сшит с верхним обрезом кожи ног, образуя прямые поперечные швы спереди и сзади (см. рис. 5, 6, с). Ноги сшиты из полотнищ кожи, продольные края каждого полотнища соединены спереди по всей длине ног, дополнительно добавлены меньшие фрагменты. Левая рука манекена скрыта в рукаве шубы, который сохранился на 44 см от края манжеты. Правый рукав разрушен и видно, что рука под ним образована свернутым в уплощенный цилиндр фрагментом кожи с продольным швом по внутренней стороне руки. Сохранившаяся длина «руки» - 35 см, ее диаметр 6,5-8 см. Окончание «кисти» оформлено закруглением со сшитыми краями. Подобное закругление просматривается и у левой руки в глубине рукава. Сохранилось соединение правой руки и торса: кожа руки пришита к торсу как втачной рукав, образуя прямой вертикальный шов. Параллельно этому шву от плечевого шва отходит короткий вертикальный шов (вытачка?) (см. рис. 5). Образующая шею цилиндрическая деталь собрана из фрагментов, соединенных вертикальными швами: два расположены асимметрично по бокам и один сзади. Шея пришита к торсу по нижнему диаметру, внахлест. Она лучше сохранилась по бокам и сзади, где переходит в «затылок». Он сохранился на высоту 25-26 см, имеет продольный шов, продолжающий шов на шее (см. рис. 5; 6, a, b). Подобный шов есть и у куклы 1 (Панкова, Миколайчук 2019: рис. 3, 2). Небольшой прорыв в коже «затылка» куклы 2 закрыт изнутри полукруглой кожаной заплаткой (см. рис. 6, а). Рис. 5. Кукла 2 - кожано-травяной манекен без шубы и штанов. Рисунок-схема А.О. Машезерской Рис. 6. Фрагменты куклы 2: а - фрагмент кожи «затылка» со швом, волосками и заплаткой; b - плечи и шея куклы 2; с - нижняя часть живота куклы 2 и шов ее стыка с ногами; швы на животе и правой ноге. Фото К. Синявского На тонкой коже «затылка» снаружи сохранились отдельные тонкие белесые волоски до 1,5 см длиной (см. рис. 6, а). Трудно сказать, оставлены ли они специально для имитации человеческих волос и насколько густыми были раньше. Не этот ли фрагмент был назван Л.Р. Кызласо-вым человеческим «скальпом»? Подробные описания куклы, сделанные непосредственно после раскопок, не сохранились, видовая принадлежность кожи и волос «затылка» пока не определена. По центру живота куклы, ниже разрушенной кожи, имеется продольный шов - зашитый встык разрез, не доходящий до соединения торса с ногами. Параллельно ему с правой стороны куклы имеется отрезок подобного шва. Центральный шов мог служить для вкладывания футляра с костями внутрь торса куклы; такой же зашитый разрез имеется у другой, лучше сохранившейся куклы как раз поверх вложенного футляра (см. рис. 2, а). На куклу надет полушубок мехом внутрь, сшитый из фрагментов шкуры домашнего козла и взрослого северного оленя с оторочкой из меха лай-ки5; двойной стоячий ворот снаружи украшен фигурными аппликациями (Панкова 2020: 209-212, рис. 5) (рис. 7). Рис. 7. Кукла 2 - кожано-травяной манекен в шубе и штанах. Рисунок А.О. Машезерской Тщательно сшитая шуба с многочисленными заплатками производит впечатление ношеной одежды, использованной погребенным при жизни. Штаны сделаны из шкуры домашнего козла мехом внутрь. Верх штанов прямо обрезан, передняя часть набрана из маленьких кусочков меха, имеется петелька (рис. 8). Вдоль штанин спереди проходят фронтальные рельефные швы. Задняя часть штанов сохранилась значительно хуже, и окончания штанин внизу утрачены, так что установить длину точнее, чем «чуть ниже колен», невозможно - как и в случае с похожими по покрою штанами мужской мумии. Штаны имеют многочисленные заплаты и сильно вытянуты на коленях, что позволяет считать их предметом одежды, использованным погребенным при жизни. Рис. 8. Меховые штаны, принадлежавшие кукле 2 (длина 80 см; Государственный Эрмитаж, инв. № 2864/68. Фото П.С. Демидова) Внутри тела куклы в области живота находился уплощенный кожаный футляр прямоугольной формы (рис. 9, а). В длину он сохранился примерно на две трети (23 см), длина короткой стороны составляет 21-22 см. Футляр находился в полости куклы горизонтально (если кукла лежит), длинной осью вдоль оси куклы. Сохранившаяся часть располагалась под неразрушенной частью живота куклы. В настоящее время футляр реставрируется, его кожа размягчается, расправляются заломы и складки. Кожа в основной части футляра несет следы деформации, вызванной давлением плотно лежащих фрагментов костей, однако угловые части футляра остались не заполнены. Вероятно, на момент размещения останков многие костные фрагменты были достаточно крупными, что препятствовало заполнению всего свободного пространства футляра. Все швы футляра сшиты мелкими аккуратными стежками двойной сухожильной нитью, причем швов больше, чем требуется для изготовления такого простого по крою предмета. Возможно, он был переделан из какого-то другого изделия. b a Рис. 9. Футляр и кости кремации из куклы 2: a - кожаный футляр до реставрации; b - кости кремации Кожа груди и живота куклы 2, как и часть футляра под ними, сильно разрушена, пережженные кости оказались обнажены, что сделало возможным их извлечение и изучение. Общая характеристика кремированных костных останков Скелетные останки представлены фрагментами костей взрослого человека, большая часть которых имеет с внешней стороны белый или серый цвет (кремирована до стадии серого и белого каления), однако внутренняя сторона некоторых трубчатых костей, а также фрагменты губчатых костей имеют черный цвет. Размеры фрагментов варьируют от нескольких миллиметров до 15-16 см (рис. 9, b). Среди анатомически идентифицированных фрагментов представлены элементы всех отделов скелета, в том числе черепа, пояса нижних и верхних конечностей, грудного отдела (рис. 10). Общая масса останков, находившихся в футляре на момент вскрытия погребальной куклы, составляет 919 г и несколько уступает минимальной ожидаемой величине по данным наблюдений в современных крематориях. Рис. 10. Анатомически идентифицированные фрагменты скелета из кремированных костей внутри куклы 2 (отмечены серым цветом, в некоторых случаях сторона определена условно) После кремации тела взрослого человека, протекающей в течение 12,5 ч с максимальной температурой от 800 до 1 200°С, общая масса костных останков варьирует от 1 до 3 кг (Bohnert, Rost, Pollak 1998: 19; Щеголев 2000; Chirachariyavej, Limburanasombat, Tiensuwan 2007: 1873; Larsson 2009: 308). Археологические кремации, как правило, имеют значительно меньший вес. Отчасти эти различия объясняются неизбежной утратой части останков при их сборе и переносе на место захоронения, отчасти - разрушительным действием различного рода пост-депозиционных факторов. Обожженные кости отличаются повышенной хрупкостью, и не случайно трупосожжения в урнах имеют в среднем более крупные размеры и вес по сравнению с безурновыми захоронениями (McKinley 1994). В рассматриваемом случае можно предположить, что участники погребального обряда старались собрать все наиболее крупные фрагменты костей с места проведения кремации, отделяя фрагменты костей от остатков погребального костра: среди останков из футляра не было зафиксировано ни одного уголька. Помещение останков в футляр минимизировало их фрагментацию в период после совершения захоронения. Половозрастная характеристика костных останков Обследование идентифицированных фрагментов показало, что кости принадлежали одному человеку, вероятно, мужчине 20-45 лет. О принадлежности останков мужчине свидетельствует величина наименьшей ширины лба (112 мм), чрезвычайно большая даже в общемировом масштабе (Алексеев, Дебец 1964: 116). При этом восстановленный участок лобной кости таштыкца не демонстрирует характерных мужских признаков. Верхний край глазниц скорее острый, развитие надбровья может быть оценено на 1,5-2 балла, присутствуют надглазничные выемки. Однако метрические характеристики костей посткраниального скелета, в частности ширина нижнего эпифиза плечевой кости (не менее 67 мм без учета усадки костной ткани), также с высокой степенью вероятности позволяют предполагать, что останки принадлежали мужчине (Медико-криминалистическая идентификация. 2000: 272). Маловероятно, что возраст покойного превышал 40-45 лет, так как сохранившиеся суставные поверхности фрагментов лопатки, большой берцовой, бедренной и лучевой кости не имеют каких-либо следов краевых разрастаний. Однако на сохранившихся фрагментах бедренных и плечевых костей отсутствуют также следы сращения диафизарной и эпифизарной частей, следовательно, возраст погребенного на момент смерти составлял не менее 20 лет. Сохранившийся небольшой фрагмент теменной (?) кости несет следы облитерации шва с внутренней стороны. Это может свидетельствовать о том, что погребенному в момент наступления смерти было не менее 30-35 лет. Индивидуальная изменчивость сроков облитерации швов и плохая сохранность останков делают предпочтительным определение возраста в более широких градациях: adultus - maturus I (20-45 лет), нежели просто maturus I (35-45 лет). Максимальная температура кремации Экспериментальные данные, полученные разыми исследователями, показывают, что цвет костей может использоваться в качестве грубого индикатора приблизительной максимальной температуры, при которой протекала кремация. Большинство костей таштыкца сожжено до стадии серого и белого каления, а значит, температура горения на поверхности костей в процессе кремации достигала не менее 700-800°С. Проведение продолжительной высокотемпературной кремации в древности не являлось чем-то невозможным даже в условиях отсутствия специальных технических средств. Известно, что в ходе экспериментальных наблюдений за горением костра на открытом воздухе была зафиксирована температура 1 430°С, при этом в течение более 40 минут температура превышала 800°С (Shipman, Foster, Schoeninger 1984: 308). Впрочем, маловероятно, что высокотемпературное воздействие было столь продолжительным в рассматриваемом случае. Как указывалось выше, внутренняя часть значительного числа фрагментов обожжена только до состояния черного каления (обуглена), а кальцинированным оказался лишь внешний слой. Таким образом, продолжительность высокотемпературного воздействия оказалась недостаточной для полного выгорания органического компонента костей. Период, истекший между моментом смерти и временем сожжения тела Не только черный (иногда с глянцевой текстурой) цвет внутренней поверхности длинных костей, но и криволинейные и U-образные поперечные трещины, наличие деформаций свидетельствуют о том, что кости скелета содержали большой процент органических веществ в период, когда подвергались сожжению. Неравномерная окрашенность фрагментов костей, особенно заметная на суставных поверхностях, позволяет предположить, что, по всей вероятности, сожжению подвергалось тело с еще неразложившимися мягкими тканями и связками. По всей вероятности, тело оглахтинца было подвергнуто кремации в течение первых недель после наступления смерти (эта осторожная формулировка означает, что кремация могла быть проведена и в первые дни, но сегодня мы знаем, что макроскопический анализ кремированных останков, к сожалению, не позволяет устанавливать время сожжения с такой точностью). Сбор костных останков с места совершения кремации Необычным для археологических кремаций являются полное отсутствие среди скелетных останков идентифицированных фрагментов фаланг и других костей кисти и стопы, а также низкая доля костей черепа. Даже в современных крематориях более чем в половине случаев фаланги кисти хорошо опознаются после сожжения, при этом, как правило, они сохраняются лучше, чем фаланги стопы (Holck 2008: 49). Кроме того, общая масса фрагментов черепа в футляре составила всего 54 г, т. е. около 6% от общей массы останков. Между тем известно, что даже в современных крематориях средняя доля идентифицированных костей черепа относительно общей массы кремированных останков варьирует в пределах 13-20% (Chamberlain 1994: 11; Goncalves et al. 2010). Учитывая значительную общую массу останков, приходится признать, что низкая доля костей черепа не может быть удовлетворительно объяснена чистой случайностью. Могут быть выдвинуты три основных предположения объяснения такой картины: 1. Отсутствие костей кисти и стопы может объясняться тем, что кремации было подвержено частично разложившееся тело. Кости кисти и стопы нередко первыми освобождаются от мягких тканей и связок, иногда даже раньше, чем череп отделяется от посткраниального скелета (Roksandic 2002: 102; Зайцева 2005). Эта версия является маловероятной (другие аргументы в ее пользу отсутствуют), хотя и не может быть отвергнута полностью. К тому же она не объясняет частичное отсутствие костей черепа. 2. Весьма вероятно, что при сборе останков с места кремации внимание целенаправленно уделялось наиболее крупным сохранившимся фрагментам костей. Вероятно, что мелкие кости и мелкие фрагменты крупных костей сохранялись в кострище на момент завершения кремации, однако они просто не попали на место окончательного захоронения. Эта версия согласуется с указанными выше особенностями расположения останков в футляре, заставляющими предполагать, что собранные кремированные останки сохраняли относительно крупные размеры на момент захоронения. Не совсем ясно, однако, почему в таком случае кости свода черепа, особенно затылочной области, имеющие хорошую сохранность, оказались плохо или совсем не представлены в захоронении. 3. Иногда хорошую сохранность костей стопы и кисти связывают с тем, что они более устойчивы к воздействию огня, а покрывающие их мягкие ткани имеют небольшую толщину, в других случаях с тем, что кисти и стопы часто оказываются на периферии очага возгорания (Holck 2008: 111-112). Отсутствие этих элементов скелета и низкую долю костей черепа у таштыкца можно было бы рассматривать как следствие их попадания в зону высокотемпературного воздействия и разрушения в процессе кремации, что, в свою очередь, предполагает широкую (относительно площади сжигаемого тела) площадь костра и высокую продолжительность горения. Однако выше уже указывалось следующее: характеристики сохранившихся костей свидетельствуют о том, что участниками обряда, по-видимому, не ставилась цель длительного поддержания интенсивного горения (высокой температуры) костра. Следовательно, более вероятно, что при сборе останков не просто отдавалось предпочтение крупным фрагментам из центральной части кострища перед мелкими, но и центральной области кострища уделялось больше внимания, чем периферийной, а верхним слоям больше, чем нижним. Таким образом, характеристика останков становится более понятной, если исходить из избирательного подхода участников обряда к останкам уже после завершения кремации, нежели из особенностей непосредственно ее проведения. Очевидно также, что надежные заключения о погребальной обрядности быть могут получены лишь при работе с серией сходных кремаций из других кукол-манекенов. Даже самый тщательный анализ единичных захоронений не позволяет учитывать фактор случайной вариативности фиксируемых антропологами параметров. Выводы из изучения костей кремации из куклы 2 Скелетные останки из таштыкской куклы, по всей вероятности, принадлежали мужчине 20-45 лет. Кремация тела была проведена в течение первых недель после наступления смерти, до времени распада связок и разложения мягких тканей. Максимальная приблизительная температура кремации составляла не менее 700-800°С, однако очевидно, что участники погребального обряда не стремились поддерживать высокую температуру в течение всего процесса трупосожжения. После кремации большая часть костных останков была собрана, очищена от остатков погребального костра и затем (вероятно, без преднамеренного разрушения и дробления) помещена в футляр. Отсутствие в нем идентифицированных костей кисти и стопы, низкая доля костей черепа свидетельствуют либо о широкой площади костра, либо о том, что при сборе останков отдавалось предпочтение крупных фрагментам. Поскольку отдельные фрагменты длинных костей сохранили крупные размеры и в футляре, весьма вероятно, что сбор останков и очищение от остатков кострища происходили уже после того, как останки остыли до температуры окружающей среды. Важно отметить, что при работе с археологическими материалами не только реконструкция погребальной обрядности и культурных традиций сопряжена с неизбежными трудностями в интерпретации, обусловленными недостатком необходимой информации, но и даже простое сопоставление характеристик кремированных останков таит в себе высокие риски ошибочных заключений. Так, может показаться, что различия между характеристиками кремированных останков из исследованных к настоящему времени та-штыкских захоронений свидетельствуют о существенных вариациях погребального обряда. Например, кости из оглахтинской куклы и захоронений под каменными выкладками из могильника Маркелов мыс II (Митько, Николаева 2016) отличаются по целому ряду параметров: в Маркеловом мысе II существенно ниже средние размеры фрагментов и масса останков, встречаются фаланги пальцев, часть останков, вероятно, принадлежит женщинам. Сходство между захоронениями состоит в высокой температуре кремации и предположительно коротких сроках между смертью и сожжением. С одной стороны, кремации под каменными выкладками представляют иной тип таштыкских захоронений, нежели грунтовые могильники, и относятся, по мнению авторов публикации, к позднеташтыкскому времени (103). Поэтому соблазнительно интерпретировать различия между характеристиками останков как обусловленные культурно или хронологически. В частности, авторы исследования Маркелова мыса II предположили, что останки подвергались преднамеренному дроблению, поскольку фрагменты имеют мелкие размеры. Крупные размеры останков из оглахтинской куклы делают излишними такие предположения, как и в случае с кремациями из исследованных Э. Б. Вадецкой таштыкских могильников, средние размеры фрагментов костей в которых достаточно велики (до 8-10 см) (1986: 37). С другой стороны, все очевидные отличия между захоронениями из грунтовых могильников и под каменными выкладками, за исключением средней массы останков, могут и не иметь никакой культурной основы. Присутствие или отсутствие фаланг пальцев является статистическим фактом, который нельзя учитывать при сравнении с единичными захор
Ключевые слова
Южная Сибирь,
Хакасия,
Оглахтинский грунтовый могильник,
таштыкская культура,
куклы-манекены,
кремация,
погребальный обрядАвторы
| Панкова Светлана Владимировна | Национальный исследовательский Томский государственный университет; Государственный Эрмитаж | кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, лаборатория междисциплинарных археологических исследований «Артефакт»; старший научный сотрудник, Отдел археологии Восточной Европы и Сибири | svpankova@gmail.com |
| Широбоков Иван Григорьевич | Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН | кандидат исторических наук, старший научный сотрудник | ivansmith@bk.ru |
Всего: 2
Ссылки
Алексеев В.П. Материалы по палеоантропологии населения Минусинской котловины времени таштыкской культуры // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. 1954. Вып. 20. C. 52-58
Алексеев В.П. Палеоантропология Хакасии эпохи железа // Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР. Т. XX. М.; Л., 1961. С. 238-327
Алексеев В.П., Гохман И.И. Антропология азиатской части СССР. М.: Наука, 1984
Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1964
Вадецкая Э. Б. Черты погребальной обрядности таштыкских племен по материалам грунтовых могильников на Енисее // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 173-183
Вадецкая Э. Б. Мумии и погребальные куклы таштыкских могильников // Краткие сообщения Института археологии. 1986. Вып. 186. С. 33-41
Вадецкая Э. Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение» (Archaeologica Petropolitana, VII), 1999
Вадецкая Э. Б. Древние маски Енисея. Красноярск: Версо, 2009
Виноградов Н. Б. Кулевчи VI - новый алакульский могильник в лесостепях Южного Зауралья // Советская археология. 1984. Вып. 3. С. 136-153
Виноградов Н. Б. Антропоморфные «куклы» в погребальной обрядности могильника Кулевчи VI // Поволжская археология. 2020. Вып. 1 (31). С. 117-123
Грачев И. А. Новые данные о раннесредневековых памятниках Южной Сибири // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекта МАЭ РАН в 2012 г. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 28-32
Грязнов М. П. Пастушеские племена Средней Азии в эпоху развитой и поздней бронзы // Краткие сообщения Института археологии. 1970. Вып. 122. С. 35-38
Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР. (Труды Института этнографии. Новая серия. Т. IV). М., 1948
Дедик А. В. Погребения по обряду кремации как источник информации о населении Нижнего Приангарья в финале раннего железного века // Междисциплинарные археологические исследования древних культур Енисейской Сибири и сопредельных территорий. Тезисы международной конференции (Красноярск, 20-22 октября 2020 г.). Красноярск: СФУ, 2020. С. 51
Добровольская М.В. К методике изучения материалов кремации // Краткие сообщения Института археологии. 2010. Вып. 224. С. 85-97
Зайцева О. В. Погребения с нарушенной анатомической целостностью костяка: методика исследования и возможности интерпретации: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2005
Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М.: Наука, 1960
Кызласов Л.Р. Отчет о работе Хакасской археологической экспедиции Московского Государственного Университета в 1969 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 4010
Кызласов Л.Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М.: МГУ. 1979
Кызласов Л.Р. Очерки по истории Сибири и Центральной Азии. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1992
Кызласов Л.Р., Панкова С.В. Татуировка древней мумии из Хакасии (рубеж нашей эры) // Сообщения Государственного Эрмитажа LXII. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2004. С. 61-67
Мандрыка П.В. Бронзовый и ранний железный век в Южной тайге Среднего Енисея и Низовьев Ангары: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Барнаул, 2018
Медико-криминалистическая идентификация. Настольная книга судебно-медицинского эксперта. М., 2000
Митько О.А., Николаева Т.А. Особенности погребального обряда таштыкского населения (по данным антропологического анализа захоронений под каменными выкладками на могильнике Маркелов Мыс II) // Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 6 (44). С. 98-105
Митько О.А., Тетерин Ю.В. Таштыкская кремация: проблемы интерпретации (по материалам исследования могильника Староозначенская переправа I) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Т. 7, вып. 3: Археология и этнография. С. 132-142
Панкова С.В. Композитная юбка из могильника Оглахты в Южной Сибири // VI конгресс этнографов и антропологов России. Санкт-Петербург, 28 июня - 2 июля 2005 г.: тезисы докладов. СПб., 2005. С. 159-160
Панкова С.В. Косы из погребения 4 Оглахтинского могильника // Памятники археологии в исследованиях и фотографиях (памяти Г.В. Длужневской) / отв. ред. Н.Ю. Смирнов. СПб.: ИИМК РАН, 2018. С. 132-139
Панкова С.В. Меховые одежды из могильника Оглахты: шубы из погребения 4 // Археологические вести. Вып. 26. СПб.: ИИМК РАН, 2020. С. 202-215
Панкова С.В. Модель горита из Оглахтинского могильника // Творец культуры. Материальная культура и духовное пространство человека в свете археологии, истории и этнографии: сборник научных статей, посвященный 80-летию профессора Дмитрия Глебовича Савинова / отв. ред. Н. Ю. Смирнов. СПб.: ИИМК РАН, 2021. С. 460-474. (Труды ИИМК РАН. Т. LVII)
Панкова С.В., Миколайчук Е.А. Китайские шелковые ткани из Оглахтинского могильника (раскопки 1969 г.) // Искусство древнего текстиля. Методы изучения, сохранность, реконструкция: Материалы Российско-Германского семинара (Москва, 1113 марта 2018 г.) / отв. ред. И.И. Ёлкина, М. Вагнер, П.Е. Тарасов. Москва; Оппен-хайм-на-Рейне: ИА РАН; Nunnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, 2019. С. 108-141. (Archaeology in China and East Asia. Т. 7)
Панкова С.В., Васильев С.С., Дергачёв В.А., Зайцева Г.И. Радиоуглеродное датирование оглахтинской гробницы методом «wiggle matching» // Археология, этнография, антропология Евразии. 2010. № 2 (42). С. 46-56
Пшеницына М.Н. Тесинский этап. Комплекс археологических памятников и горы Тепсей на Енисее. Новосибирск: Наука, 1979. С. 70-88
Семёнов Вл.А. Археологические памятники конца I тыс. до н. э. в Саянском каньоне Енисея // Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства. Кемерово, 1979. С. 87-89
Сенотрусова П.О. Таштыкские вещи в комплексах финала раннего железного века в нижнем течении Ангары // Археологические памятники Южной Сибири и Центральной Азии: от появления первых скотоводов до эпохи сложения государственных образований: материалы международной научной конференции, посвященной 85-летию д.и.н. Э.Б. Вадецкой и д.и.н. Г.А. Максименкова (19-21 апреля 2021 г.). СПб.: ИИМК РАН, 2021. С. 118-119
Тетерин Ю.В., Готлиб А.И. Модели кинжалов таштыкской культуры // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, вып. 3: Археология и этнография (приложение 2). С. 141-149
Ширин Ю.В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тысячелетия н.э. (погребальные памятники фоминской культуры). Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2003
Широбоков И.Г., Панкова С.В. Данные компьютерной томографии в изучении головы мужской мумии из погребения № 4 Оглахтинского могильника // Археологические памятники Южной Сибири и Центральной Азии: от появления первых скотоводов до эпохи сложения государственных образований: материалы международной конференции, посвященной 85-летию д.и.н. Э.Б. Вадецкой и 90-летию д.и.н. Г.А. Максименкова. 1921 апреля 2021 г., Санкт-Петербург. СПб.: ИИМК РАН, 2021а. С. 107-109
Широбоков И.Г., Панкова С.В. Данные компьютерной томографии в изучении головы мужской мумии из могилы 4 Оглахтинского могильника // Археологические памятники Южной Сибири и Центральной Азии: от появления первых скотоводов до эпохи сложения государственных образований: сборник статей, посвященных 85-летию Э.Б. Вадецкой и 90-летию Г.А. Максименкова. Археологические вести. № 33. СПб.: ИИМК РАН, 2021б (в печати)
Щеголев С.Б. Судебно-медицинская экспертиза кремированных останков (экспериментальное и практическое исследование): автореф. дис. ... канд. мед. наук. СПб., 2000
Bohnert M., Rost T., Pollak S. The degree of destruction of human bodies in relation to the duration of the fire // Forensic Science International. 1998. Vol. 95. P. 11-21
Chamberlain A. Human remains. London, 1994
Chirachariyavej T., Limburanasombat S., Tiensuwan M. The relationship between bone and ash weight to body weight and body length of Thai corpses in Bangkok and central part of Thailand after cremation // Journal of the Medical Association of Thailand. 2007. Vol. 90, № 9. P. 1872-1878
Goncalves D., Duarte C., Costa C., Muralha J., Campanacho V., Costa A.M., Angelucci D.E. The Roman cremation burials of Encosta de Sant'Ana (Lisbon) // Revista Portuguesa de Arqueologia. 2010. Vol. 13. P. 125-144
Fairgrieve S.I. Forensic cremation. Recovery and analysis. New York, 2008
Holck M.D. Cremated bones. A medical-anthropological study of an archaeological material on cremation burials. Oslo, 2008
Keyser C., Bouakaze C., Crubezy E., Nikolaev V.G., Montagnon D., Reis T., Ludes B. Ancient DNA provides new insights into the history of south Siberian Kurgan people // Human Genetics. 2009. Vol. 126 (3). P. 395-410
Larsson A.M. Breaking and making bodies and pots. Material and Ritual Practices in Sweden in the Third Millennium BC. Uppsala, 2009
McKinley J.I. Bone fragment size in British cremation burials and its implications for pyre technology and ritual // Journal of Archaeological Science. 1994. Vol. 21. P. 339-342
Nikolaev N.N., Pankova S.V. After the Scythians // Scythians: Warriors of Ancient Siberia / eds. St.J. Simpson, S. Pankova. London: Thames and Hudson, 2017. P. 322-351
Pankova S. Mummies and mannequins from the Oglakhty cemetery in Southern Siberia // Masters of the steppe: the impact of the Scythians and later nomad societies of Eurasia. Proceedings of a conference held at the British Museum, 27-29 October 2017 / eds. St.J. Simpson, S. Pankova. Oxford: Archaeopress, 2020. P. 373-396
Pankova S., Long T., Leipe Ch., Tarasov P., Wagner M. Oglachty, Russland. Die Menschen von Oglachty in Sudsibirien: Welchen Platz hatten sie in der Geschichte Eurasiens im fruhen ersten Jahrtausend n. Chr.? // E-Forschungsberichte. 2020. Deutsches Archaologisches Institut. Is. 2. P. 66-80. URL: https://publications.dainst.org/journals/ index.php/efb/article/view/2595/7094
Roksandic M. Position of skeletal remains as a key to understanding mortuary behavior // Advances in Forensic Taphonomy: Method, Theory and Archaeological Perspectives. Boca Raton; London; New York; Washington, 2002. P. 100-117
Shen H. Body Matters: Manikin Burials in the Liao Tombs of Xuanhua, Hebei Province // Artibus Asiae. 2005. Vol. 65, № 1. P. 99-141
Shipman P., Foster G., Schoeninger M. Burnt bones and teeth: an experimental study of color, morphology, crystal structure and shrinkage // Journal of Archaeological Science. 1984. Vol. 11. P. 307-325
Steinhardt N.S. Liao Archaeology: Tombs and Ideology along the Northern Frontier of China // Asian Perspectives. 1998. Vol. 37, № 2. P. 224-244
Tallgren A.M. The South Siberian cemetery of Oglakty from the Han period // Eurasia Septentrionalis Antiqua. Vol. XI: Helsinki. 1937. P. 69-90
Tarasov P.E., Pankova S. V., Long T., Leipe Ch., Kalinina K.B., Panteleev A. V., Brandt L.0., Kyzlasov I.L., Wagner M. New results of radiocarbon dating and identification of plant and animal remains from the Oglakhty cemetery provide an insight into the life of the population of southern Siberia in the early 1st millennium CE // Quoternary international. Special issue, Holocene Environments, Human Subsistence and Adaptation in Northern and Eastern Eurasia'. 2021. In print
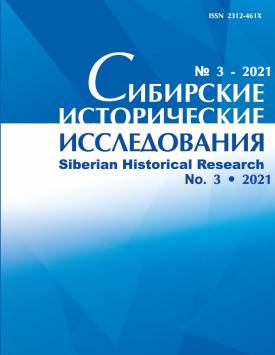

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью