В научный оборот вводятся новые материалы, полученные в ходе раскопок на аварийном участке Оглахтинского могильника в 2020 г. В его центральной части исследовано грунтовое погребение таштыкской культуры, совершенное в деревянном срубе. В погребении обнаружены компактно расположенные кремированные останки взрослого человека у северной стенки сруба и разрозненные необожженные кости конечностей, принадлежащие другому взрослому, находящиеся вне анатомического порядка в южной половине сруба. Установлено, что изначально в могилу были помещены останки двух человек. Первый был сожжен на стороне, а его кремированные останки, вероятно, были помещены в погребальную «куклу». Второй человек был захоронен по обряду ингумации. Парные биритуальные погребения достаточно типичны для таштыкской культуры. По прошествии некоторого времени, за которое мягкие ткани и связки индивида, погребенного по обряду ингумации, частично или полностью успели истлеть, его останки были аккуратно извлечены из могилы. После этого была восстановлена целостность погребального сооружения - сруб был перекрыт накатом из десяти бревен и «обернут» слоями бересты. Рассмотрены случаи эксгумации в других могильниках и намечены перспективы реконструкции сложного ритуального сценария многоэтапных таштыкских похорон.
Multi-activity of ritual actions and exhumation in Tashtyk burial complexes (based on excavations of the Oglakhty burial.pdf Введение В любом исследуемом погребении нам в первую очередь открывается материальное воплощение реакции сообщества на смерть его конкретного члена. Часто археологи склонны воспринимать погребение как некое один раз и навсегда совершенное действие, вольно или невольно перенося на иные культуры опыт своего взаимодействия с современными погребальными практиками, которые, действительно, те- Статья написана при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. перь чаще всего укладываются в один акт, достаточно четко ограниченный по времени. Однако уже более ста лет назад антропологом Робертом Герцем была высказана идея рассматривать смерть не как событие «прерывания» и «конца», а как протяженный социальный процесс, который заново «пересоздает» людские сообщества после травмы утраты. По сути, Герц первый смог объяснить существование ритуальной практики «двойных похорон». Тело покойного становится объектом ритуалов, на который направлена коллективная активность. Включение умершего в сообщество предков не станет окончательным, пока его материальные останки не воссоединятся с их останками. Именно манипуляции с телами покойных, иногда весьма продолжительные и многоступенчатые, и позволяют вернуть общество в равновесие после утраты (Герц 2019). Практикам перезахоронения человеческих останков, вторичного обращения и иным самым разнообразным многоэтапным манипуляциям с телами покойных не всегда уделяется достаточное внимание. Несмотря на кажущееся для нас очевидное преобладание «обычных», т.е. одноактных погребальных ритуалов, наличие вторичных, или окончательных погребальных обрядов, по некоторым современным оценкам, характерно более чем для 75% традиционных обществ. При этом отмечается, что вторичные погребальные обряды более характерны для оседлых обществ, чем для кочевых (Schroeder 2001). Иногда нам удается археологически зафиксировать подобные многоэтапные практики обращения с умершими. Так, таштыкская культура демонстрирует нам поразительную сосредоточенность на самых разнообразных манипуляциях с телами покойных: трепанация и мумификация, разные варианты кремации, в том числе с созданием кукол-манекенов, вторичные, расчлененные и парциальные погребения. Каждый из этих случаев требует тщательной фиксации и изучения на основе интеграции методов археологии, физической антропологии и судебной медицины. В данной статье мы на конкретном примере из раскопок Оглахтинского могильника 2020 г. покажем, что население таштыкской культуры практиковало сложные многоэтапные формы обращения с умершими, пока не поддающиеся какой-либо однозначной интерпретации и требующие дальнейшего исследования и осмысления. Материалы погребения 1 из раскопок Оглахтинского могильника 2020 г. В ходе исследований совместной экспедиции Государственного Эрмитажа и Томского университета в 2019 г. на территории Оглахтинского могильника были зафиксированы разрушения - в центральной части могильника образовался почвенный провал. Тогда мы предположили, что он мог образоваться над грунтовым погребением, у которого под действием тяжести почвы обрушилось перекрытие, и поставили вопрос о проведении спасательных раскопок в следующем полевом сезоне. В 2020 г. раскоп размером 10 х 8 м был заложен над провалом почвы таким образом, чтобы последний оказался в центре раскопа. Однако наши ожидания того, что провал маркирует разрушающееся погребение, не оправдались. Непосредственно в провале ни погребения, ни каких-либо других археологических объектов обнаружено не было. Образование провала было связано с сезонными водотоками и естественным размывом почвы. Тем не менее после снятия первого пласта на глубине 0,3 м от уровня современной поверхности на краю провала было зафиксировано пятно светло-серой супеси, маркировавшее грунтовое погребение. На этом же уровне в центре пятна обнаружены фрагменты придонной части сосуда с поддоном. Дальнейшие исследования показали, что к восточному краю провала примыкают западная стенка погребального сруба. Бревна западной стенки сруба и перекрытия над ней уже начали постепенно «сползать» в провал (рис. 1, 2). Рис. 1. Берестяное перекрытие погребального сруба. Погребение 1. Раскопки 2020 г. Рис. 2. Бревенчатое перекрытие погребального сруба. Погребение 1. Раскопки 2020 г. На глубине 0,5 м от уровня современной дневной поверхности расчищено берестяное покрытие сруба размером 2,26 х 1,35 м, состоящее как минимум из четырех берестяных полотен, плотно уложенных друг на друга. Берестяные полотна были цельными и не имели никаких следов повреждения, что указывало на ненарушенный характер погребения. Берестяные полотнища с перекрытия опускались по внешним сторонам сруба до дна ямы. Между листами бересты снаружи от северной и восточной стенок сруба найдены единичные ребра овцы. После снятия бересты расчищено бревенчатое перекрытие сруба, состоящее из 10 бревен, уложенных параллельно друг другу в поперечном направлении север-юг (рис. 2). Размер перекрытия 1,83 х 1,33 м в самых широких частях. Все концы бревен подтесаны с нижней стороны для более плотного примыкания к бревнам верхнего венца, а торцы отесаны наискось, что является характерным признаком таштык-ских срубов. Семь бревен под действием грунта и с течением времени надломились, и частично провалились внутрь сруба, три бревна перекрытия уцелели. Интересно при этом отметить, что ровно лежащие на бревнах перекрытия берестяные полотнища практически не отразили деформацию бревен. Таким образом, в погребальной яме был расчищен сруб, сложенный в два венца, бревна которого были соединены «в лапу». Размеры сруба 2 х 1,15 м, высота 0,4 м. На дне сруба обнаружено берестяное полотнище размером 1,55 х 0,65 м. Находки, а также человеческие кости располагались непосредственно на этом берестяном полотне. В погребении обнаружены останки, предположительно, двух взрослых индивидов, представленные кремированными и не кремированными костями (рис. 3, 4). У северной стенки сруба на берестяном полотне расчищены компактно залегающие кремированные останки. Размер скопления кремированных костей 0,47 х 0,28 х 0,08 м. Незначительная часть кремированных костей разнесена по погребению в результате деятельности землеройных животных. Кремированные останки принадлежали взрослому человеку. Определить пол не удалось. Среди идентифицированных останков присутствуют элементы всех отделов скелета. Останки представлены кальцинированными костями преимущественно небольшого размера с различными типами трещин, в том числе дугообразными. Общая масса кремированных останков - 1 143 г. Компактное расположение кремированных костей, их положение относительно погребального сруба и сопоставление ситуации с уже изученными ранее погребальными комплексами таштыкской культуры позволяют предположить следующее: после сожжения на стороне взрослого человека, его кремированные останки были собраны и помещены внутрь «погребальной куклы». Такие «куклы» представляли собой полноразмерные имитации человеческого тела, сшитые из кожи или меха и одетые в одежды, вероятно, принадлежавшие умершему (Вадецкая 1975, 1999). Рис. 3. Ортофотоплан расчищенного погребения 1. Раскопки 2020 г. семена Плита Условные обозначения | Бревно О Человеческая кость (необожженная) И Фрагмент гипса с краской И Железный язычок пряжки Разрез погребения 1 по линии АА* | Желто -серая супесь Рис. 4. План погребения 1. Раскопки 2020 г.: 1 - железный язычок пряжки; 2 - фрагмент плюсневой или пястной кости; 3 - фрагмент правой пяточной кости с задней таранной суставной поверхностью; 4 - тело пястной кости; 5 - тело фаланги кисти; 6 - фрагмент верхнего эпифиза большеберцовой кости; 7 - диафизы правой локтевой и лучевой костей Кроме компактного скопления кремированных останков в погребении также обнаружены отдельные необожженные кости конечностей взрослого человека. Эти кости находились в южной части погребения вне анатомического порядка. В расположении костей зафиксирована интересная особенность: они образуют два условных скопления в югозападном и юго-восточном углах южной части сруба. Юго-западное скопление представлено четырьмя костями: фаланга кисти, фрагмент верхнего эпифиза большеберцовой и диафизы правой локтевой и лучевой костей, лежащие вдоль западной стенки сруба. Юго-восточное скопление представлено тремя костями: фрагмент плюсневой или пястной кости, фрагмент правой пяточной кости с задней таранной суставной поверхностью и фрагмент пястной кости. Все эти кости принадлежали, с высокой долей вероятности, одному взрослому индивиду возрастом 20-40 лет, пол которого определить не удалось. В южной половине погребения помимо разрозненных костей конечностей человека были также обнаружены очень мелкие фрагменты гипса со следами красной краски. Эти фрагменты буквально представляли собой гипсовую крошку, но их наличие и, тем более, следы на них красной краски указывали на то, что в погребении могла присутствовать характерная для таштыкской культуры гипсовая погребальная маска. В большинстве таштыкских грунтовых могил гипсовые маски находятся в очень плохом состоянии, их почти никогда не удается «снять» целиком, они буквально «рассыпаются» при расчистке. Но при этом, в каком бы состоянии они не были, они четко локализованы на черепе погребенного. Даже в случае, если маски были перемещены и разбиты и находились в нескольких скоплениях, всегда можно понять по количеству фрагментов гипса, что целая маска изначально была в могиле. В нашем случае картина иная: мы собирали и фиксировали только гипсовые крошки. Просев всего грунта из могилы в сетке с мелкой ячейкой в 0,2 см исключал вероятность того, что мы могли «пропустить» мелкие фрагменты гипса, как и костей. Фрагменты гипсовой крошки расположены шлейфом вдоль южной стенки сруба. Ни в центральной, ни в северной части могилы ни одного фрагмента гипса не обнаружено. В юго-восточном углу сруба найден железный язычок от пряжки, а в северо-восточном углу сруба зафиксировано скопление семян. На основании полученных радиоуглеродных дат могила датирована III-IV вв. н.э. (полные данные по радиоуглеродным датировкам материалов из раскопок 2020 г. готовятся к публикации). Возможная реконструкция последовательности действий, приведших к наблюдаемому в погребении положению скелетных элементов Знания о погребальном обряде других таштыкских грунтовых могильников, размер погребального сруба, расположение останков погребенных и инвентаря позволяют сделать предположение о том, что первоначально в погребальный сруб были помещены останки двух человек, похороненных по обрядам кремации и ингумации. Первого сожгли на стороне, кремированные кости собрали и зашили в куклу-манекен, которую поместили в северную половину могилы. В южную часть могилы поместили взрослого человека, похороненного по обряду ингумации. Сам факт сочетания кремации и ингумации в одной могиле типичен для таштыкских кладбищ. Однако положение и комплектность костей индивида, погребенного по обряду ингумации, нетипичны и вызывают целый ряд вопросов. Первый вопрос связан с некомплектностью костяка. В могиле присутствуют только разрозненные кости верхних и нижних конечностей. Ни одного фрагмента остального посткраниального скелета в могиле нет, также полностью отсутствуют кости черепа. Можно было бы предположить, что могила была нарушена при ограблении, но сохранившее целостность перекрытие из бревен и бересты исключают такой вариант. Полное отсутствие костей туловища и головы при хорошей сохранности отдельных костей конечностей, находящихся не в анатомическом состоянии, требует своего объяснения. Кроме того, требует объяснения и наличие следов от маски в виде гипсовых крошек на дне могилы, при отсутствии остатков самой гипсовой маски. Единственная гипотеза, которая может объяснить наблюдаемую ситуацию, указывает на постпогребальные действия. Первоначально было совершено парное погребение по достаточно распространенному в таштыкской культуре варианту с сочетанием в одной могиле кремации и ингумации. Наличие гипсовой маски на ингумированном теле не исключает, что покойник был мумифицирован. По прошествии некоторого времени, за которое мягкие ткани и связки индивида, погребенного по обряду ингумации, успели частично или полностью истлеть, его останки были достаточно аккуратно извлечены из могилы. Особое внимание было уделено черепу с гипсовой маской и костям туловища. Часть костей конечностей намеренно или не намеренно не была изъята из могилы. Так как следов перекапывания заполнения могилы не выявлено, нельзя исключать, что первоначально сруб, перекрытый бревнами и берестой, мог какое-то время стоять в открытой яме. Затем вскрытый погребальный сруб вновь был аккуратно «запечатан» накатом из 10 бревен и берестяными полотнищами. После проведения неких обрядовых действий, оставивших кости овцы и разбитый сосуд, погребальная яма была засыпана. Заключение Выявленный нами случай эксгумации одного из похороненных в парной могиле на Оглахтинском могильнике с последующим восстановлением целостности погребального сооружения наглядно демонстрирует сложное, разнообразное и многоэтапное обращение с телом умершего после его биологической смерти и до смерти «социальной». Естественным образом возникает вопрос о дальнейшей судьбе извлеченных из погребения останков. Однозначный ответ мы вряд ли когда-нибудь получим, но ряд интересных наблюдений, сделанных нашими коллегами при исследовании других таштыкских грунтовых могильников, могут пролить свет на эту проблему. Перемещение останков молодой женщины из одной могилы в другую зафиксировано на могильнике Сахсар. Одна из могил с парным захоронением мужчины и женщины была вскрыта, женский скелет изъят, свидетельством чему стала ступня левой ноги, оставшаяся в могиле. Скелет с отсутствующей левой ступней и нарушенной анатомией был обнаружен в соседней могиле вместе с кремированными останками другого человека (Грачев 2013: 39). Э.Б. Вадецкая также отмечала случаи эксгумации в таштыкских грунтовых могильниках: «...на Красной Гриве об извлечении покойников свидетельствовали случайно завалившиеся под нижний венец сруба либо фаланга пальца человека, либо несколько сожженных косточек, либо нашивка на одежду - амулет» (Вадецкая 1999: 30). Если посмотреть на массив данных, накопленный по таштыкским грунтовым могильникам, то станет очевидным, что «потревоженные» могилы встречаются очень часто. Привести сейчас достоверную статистику невозможно, так как идентифицировать нарушения могил родственниками погребенных и возможные более поздние ограбления часто не позволяет состояние источниковой базы. Впрочем, состав инвентаря таштыкских грунтовых погребений вообще ставит под сомнение возможность их массового и целенаправленного ограбления с «целью наживы». Также очень сложно достоверно различить парциальные, вторичные и нарушенные погребения, если во время исследования погребений в поле непосредственно не присутствовал антрополог и специалист по судебно-медицинской остеологии. Э.Б. Вадецкая, основываясь на своем богатейшем опыте изучения та-штыкской культуры, высказала гипотезу о существовании временных первичных захоронений на таштыкских грунтовых могильниках: «Таким образом, возможно, что покойников выкапывали и перезахоранивали сами родственники. Это объясняет большое количество копаных могил, которые обычно и видят археологи на поверхности земли в виде небольших западин. На одних могильниках (Новая Черная IV и Красная Грива) срубы, из которых извлечены покойники, ничем не отличаются от других: аккуратно сложены, окутаны берестой. На других они нестандартные, выглядят как временные захоронения: неглубокие простые ямы, закрытые плитами или жердями. Хотя нестандартных могил очень мало, они подтверждают версию о первичных и вторичных захоронениях, т.е. о многоактности похоронных процедур» (Вадецкая 1999: 31). Пока мы не можем достоверно реконструировать весь сложный ритуальный сценарий многоэтапных таштыкских похорон. Движение в этом направлении возможно только при активном участии антропологов и судебных медиков на всех этапах исследований. К сожалению, пока междисциплинарный подход исследования положения и состояния скелетных элементов непосредственно в момент их обнаружения еще не получил должного распространения в российской археологии, несмотря на отдельные положительные примеры (Abramov et al. 2015). Кроме того, весьма актуален был бы тщательный анализ таштыкских погребальных комплексов на предмет отделения случаев сознательной эксгумации, проводимой родственниками умерших, от позднейших банальных ограблений могил.
| Зайцева Ольга Викторовна | Национальный исследовательский Томский государственный университет | кандидат исторических наук, заведующая кафедрой антропологии и этнологии, факультет исторических и политических наук | snori76@mail.ru |
| Водясов Евгений Вячеславович | Национальный исследовательский Томский государственный университет | кандидат исторических наук, заведующий Лабораторией междисциплинарных археологических исследований «Артефакт» | vodiasov_ev@mail.ru |
| Ширин Юрий Викторович | Новокузнецкий филиал-институт Кемеровский государственный университет | кандидат исторических наук, доцент | shirin_a@mail.ru |
| Слюсаренко Игорь Юрьевич | Институт археологии и этнографии СО РАН | кандидат исторических наук, старший научный сотрудник | slig1963@yandex.ru |
Вадецкая Э.Б. Черты погребальной обрядности таштыкских племен по материалам грунтовых могильников на Енисее // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 173-183
Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1999
Герц Р. Смерть и правая рука. М.: Arspress, 2019
Грачев И. А. Новые данные о раннесредневековых памятниках Южной Сибири // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекта МАЭ РАН в 2012 г. СПб., 2013. С. 28-32
Abramov A., Veselovskaya E., Dolgov A., Engovatova A., Mednikova M., Nikitin S., Safarov A. Forensic archaeology in the Russian Federation // Forensic archaeology in global perspective (eds W.M. Groen, N. Marquez-Grant and R.C. Janaway). Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Ltd., 2015
Schroeder S. Secondary Disposal of the Dead: Cross-Cultural Codes // World Cultures. 2001. № 12. P. 77-93
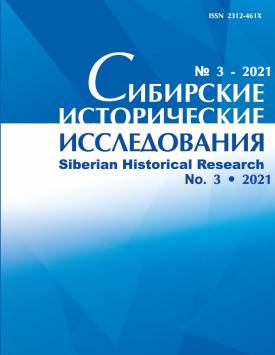

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью