Логическим продолжением многолетней дискуссии между квебекскими историками и антропологами относительно исконности или позднего прихода в Квебек автохтонных групп (монтанье) можно считать их позиции по поводу недавно заявивших о себе метисов Сагенея и Сеньории Минган. Здесь будет неправомерно говорить о противостоянии представителей одного и другого научных направлений, как это было в случае с монтанье. Многие антропологи признают как существование этих метисных этнических групп, так и их территориальные права («права предков»). Однако мнения историков Р.-А. Бушар и Н.-М. Доусона, которые были солидарны в вопросе об автохтонах, теперь кардинально разделились. Доусон доказывает, что в данном регионе сообществ метисов так и не сложилось, а Бушар не только признает метисов Сагенея и сеньории Минган, но и сам, обладая метисной идентичностью, является одним из лидеров их национального движения. На основе анализа работ этих авторов предпринята попытка дать оценку их мнений по данному вопросу.
The Metis and Metis Identity in the works of Quebec historians N.-M. Dawson and R.-A. Bouchard: ways of approaching the .pdf В последние два десятилетия антропологические исследования метисной проблематики в Канаде стали популярны в научном сообществе и по сравнению с предыдущими периодами вышли на более высокий уровень. В этот период на данную тему было написано большое количество работ. Такой повышенный интерес к проблеме связан изначально с подъемом этнического самосознания, который начался еще в 1970-1980-е гг., и политической и юридической борьбой коренного населения за свои гражданские права. Метисы, представляющие собой, наряду с первыми нациями1 и инуитами, часть коренного населения, также не остались в стороне от этого процесса. Помимо степных территорий провинций Манитоба, Саскачеван и Альберта, где существование сообществ метисов явилось свершившимся историческим фактом, в самых разных районах страны, где прежде о присутствии метисов речи не шло, начали возникать сообщества людей, заявляющих о своей метисной идентичности и требующих от властей официального признания и отстаивающих данные требования в судах. Не стала исключением и провинция Квебек. К проблеме метисов Квебека - потомков от смешанных браков монтанье (инну) и французов (затем франкоканадцев), меня привела попытка разобраться в том, что представляли собой в этническом измерении сообщества алгонкинских таежных охотников востока Канадской Субарктики накануне и к началу появления французов в данном регионе. Следует ли подразумевать под каждым упоминаемым в письменных источниках этнонимом отдельное этническое образование или будет правомерно вести речь о достаточно аморфных мобильных группах таежного охотничьего населения, практически однородного в культурном и языковом плане, связанных между собой разветвленной сетью брачных союзов и, по сути, не представлявших собой четко выраженных этнических образований. Данный интерес вывел меня на связанную, в том числе и с этой темой, дискуссию между квебекскими антропологами и историками (Воробьёв 2021). Катализатором дебатов послужили книги историков Рассел-Авроры Бушар и Нельсон-Мартина Доусона (Bouchard 1995; Dawson 2005). Критика квебекского антропологического сообщества в отношении книг и научно-общественных позиций Р.-А. Бушар и Н.-М. Доусона базируется на опровержении диспарационистского тезиса авторов об исчезновении в конце XVII в. индейцев монтанье (инну/илну) бассейна Сагенея, озера Сен-Жан и Верхнего Кот-Нора2 под воздействием ряда факторов, в первую очередь эпидемий занесенных европейцами заразных болезней и набегов военных отрядов ирокезов, а также сокращения популяций промысловых животных, голода, французской колонизации, деятельности христианских миссионеров и метисации. В данной работе будет рассмотрен только фактор метисации. И Бушар, и Доусон видят в метисации одну из причин исчезновения монтанье и, как следствие, приход на их место других групп коренного населения из района Великих озер и залива Джеймс, также, в свою очередь, подвергшихся метисации. Когда я только начинал проявлять интерес к данной теме, мне казалось, что позиции этих авторов практически идентичны. Не случайно же противостоящие им исследователи критикуют их за одни и те же ошибки и подкрепляют свою критику одинаковыми аргументами. Во многом это действительно так, но только не в случае с фактором метисации. Здесь позиции Бушар и Доусона кардинально расходятся. Исследователи признают бытование межэтнических браков, появившиеся в результате которых дети, вполне понятно, оказывались метисами, но при этом Бушар настаивает на том, что они в дальнейшем сформировали в исследуемом регионе отдельную этническую общность метисов, не являющихся ни «индейцами», ни «белыми», тогда как Доусон делает вывод о том, что в Квебеке, в отличие от западных провинций, метисное сообщество так и не сложилось, даже несмотря на присутствие людей смешанного происхождения. Попробуем рассмотреть точки зрения двух авторов по этому вопросу подробно. Н.-М. Доусон о метисах региона Сагенея и озера Сен-Жан Непосредственно к проблеме метисации и метисного населения в Квебеке в XVII - начале XX в. Н.-М. Доусон обращается в своей книге «Меха и леса метиссируют монтанье: взгляд на людей со смешанной кровью в Королевстве Сагеней» (Dawson 2011), которая в отличие от его предыдущей монографии (Dawson 2005) не вызвала большой критической реакции. В первой ее части повторяются диспарационистские выкладки, опубликованные еще в книге 2005 г., тогда как вторая часть, носящая название «Феномен метисации», посвящена непосредственно метисной проблематике и представляет результаты его последующих исследований. Однако Доусон пишет, что уже в самом начале XVII в. отмечены факты положительного отношения колониальных лидеров к возможным бракам французов с представительницами коренного населения и называет это «политикой смешения» (politique de la mixite). Он приводит слова С. Шамплена, адресованные гуронам3, согласно которым французы придут к ним в большом количестве и возьмут в жены их дочерей, когда те станут христианками. Тем не менее Доусон оценивает подобные намерения как напрасные. В тот период обращенных в католицизм индейских женщин было еще очень мало, а союзы с нехри-стианками, с точки зрения колониальных властей, не могли иметь легитимный характер, они выходили за пределы официальной доктрины, порицались и никак не регистрировались (Dawson 2011: 137-138). Надо отметить, оценка Доусоном матримониальной политики смешения как неудачной вполне справедлива. Такие представления и действия были одним из механизмов предполагаемого проведения властями Новой Франции и миссионерами-иезуитами политики францизации (Федин 2016a: 103-104), итогом которой должны были стать переход коренного населения от мобильного охотничьего к оседлому земледельческому образу жизни и последующая его ассимиляция европейцами. Однако на рубеже 1640-1650-х гг. окончательно становится понятна бесперспективность перевода таежных охотников на оседлость и концентрация их в крупных поселениях, и иезуиты переходят к системе «летучих миссий», когда миссионеры путешествуют по лесам вместе с небольшими подвижными группами индейцев (Beaulieu 1994: 142). А. В. Федин в связи с этим приводит очень интересный и показательный для данного периода факт: «Инцидент с попыткой неофитов Тадусса-ка вести себя “как французы” вместо поощрения вызвал критику и обвинения в “обезьяньих” уловках со стороны миссионеров» (Федин 2016b: 222). В таких условиях межэтнические браки, будучи изначально одним из средств претворения в жизнь политики францизации, утрачивают свою актуальность, и отношение к ним меняется в негативную сторону. Таким образом, Доусон, рассматривая ситуацию первой половины XVII в., почти не говорит о метисации, но много рассуждает о «межиндейском этногенезе» или «внутреннем индейском этногенезе» (ethnogenese intra-amerindienne). Именно так автор назвал первую часть своей книги. По данному вопросу его позиция идентична взглядам Р.-А. Бушар. Кратко это понятие можно резюмировать так: монтанье долины Св. Лаврентия и Сагенея - озера Сен-Жан, переживают сильнейшую депопуляцию (на 90-95%) вследствие эпидемий и рейдов ирокезов. На эти опустевшие земли приходят другие алгонкинские народы из бассейна залива Джеймс и Великих озер, абенаки с побережья Атлантики и смешиваются с остатками местных групп монтанье (Dawson 2011: 53-54). Доусон даже отмечает, что монтанье Тадуссака, в силу резкого падения их численности, стали приглашать представителей других «наций», в том числе не только соседних, но и живущих на значительном от них расстоянии. В качестве примера он приводит умамиуек, населявших земли напротив острова Антикости (116). В результате к концу XVII в. монтанье, согласно авторской терминологии, постепенно становятся «композитной группой» или «составной группой», иначе говоря, сформировавшейся из разных этнических общностей. Так, рассматривая генеалогическое древо лидера монтанье Франсуа Уканишиша, Доусон обнаруживает среди его предков и потомков по линиям родства представителей групп какушаков, папинаши, алгонки-нов, мистассинии и эчеминов (Dawson 2011: 130). Именно на такого рода свидетельствах он делает вывод об исчезновении «старых монтанье» (Montagnets в источниках), формировании на основе разнородных этнических групп «новых монтанье» (Montagnais в источниках) и называет этот процесс «межиндейским» или «внутренним индейским этногенезом» (119-122, 131-132). По Доусону, это пока еще не совсем метисация, которая начнется чуть позже, когда уже пережившие «внутренний этногенез» индейцы станут заключать брачные союзы со служащими торговых постов, а только культурная метисация - взаимопроникновение разных автохтонных культур (133). Следует сказать, что, по-видимому, это единственный момент, где Доусон говорит именно о культурной метисации. Вывод о межиндейском этногенезе, в числе прочих, повлек за собой вполне обоснованную критическую реакцию многих квебекских антропологов. Данная критика выглядит вполне обоснованной. Во-первых, практика адопции - усыновления и включения в состав социума иноплеменников (и автохтонов, и европейцев) - широко практиковалась многими североамериканскими группами (особенно широко известен пример Лиги ирокезов) и не влекла за собой каких-либо изменений в идентичности принимающей стороны. Таким образом, она далеко не всегда может быть свидетельством формирования новых этнических сообществ. Во-вторых, применительно к охотничьим группам востока канадской Субарктики, то, что именуется здесь межиндейским этногенезом, не являлось неким разовым событием, а происходило постоянно и всегда было обыденной традиционной практикой, не имеющей отношения к подвижкам колонизационной эпохи. Эти группы были культурно гомогенны, вели подвижный образ жизни, не имея при этом четко выраженных границ между охотничьими территориями, и были связаны между собой густой сетью брачных отношений. Их состав не был постоянным, а часто варьировался под воздействием различных факторов (экологических, демографических и т.п.). Поэтому факт присутствия в генеалогии, например, какого-либо монтанье Тадуссака предков из групп мистассини, папинаши и какушак не представляет собой что-то новое, ведущее к изменению идентичности, а является обычной матримониальной практикой в пределах континуума кри-монтанье-наскапи. Непосредственно к анализу процесса этнической метисации между индейцами и европейцами Н.-М. Доусон переходит во второй части книги, носящей название «Феномен метисации». Этот раздел, в отличие от первого, не вызвал особой критики, что вполне понятно, поскольку содержащиеся в нем выводы не противоречат выводам многих обращавшихся к данной проблеме антропологов. Как уже было сказано, в первой половине XVII в. «политика смешения» властей Новой Франции потерпела неудачу. Люди смешанного происхождения появляются в «Королевстве Сагеней» только в конце XVII в., а в XVIII в. метисация монтанье, уже и так претерпевших межиндейский этногенез, идет полным ходом. Доусон полагает, что до середины XVII в. монтанье не пускали французов на внутренние территории к северу от реки Св. Лаврентия, оберегая свои торговопосреднические интересы. Только в середине столетия какушаки (монтанье озера Сен-Жан), сильно ослабленные эпидемиями, приглашают к себе миссионеров-иезуитов, но о присутствии здесь других французов («лесных бродяг», торговцев пушниной) источники умалчивают. И только с открытием здесь в конце столетия торговых постов (пост Шикутими - 1676, пост Метабечуан на озере Сен-Жан - 1676, пост на озере Некуба - 1685) (Dawson 2011: 156) начинается стихийный процесс метисации, контролировать который миссионеры оказываются уже не в силах. Доусон разделяет этническую метисацию в сагенейской тайге на две стадии. Первая приходится на XVIII в. и связана с проникновением сюда торговцев пушниной, а вторая, обусловленная лесозаготовками и сельскохозяйственной колонизацией региона, начинается в первой половине XIX и завершается в начале XX в. На начальном этапе служащими торговых факторий были только представители мужского пола, которые вступали в кратковременные связи с индейскими женщинами, а в некоторых случаях заключали с ними долговременные браки, которые вскоре стали поощряться миссионерами. Если венчание отцом Шарлем Албанелем торговца пушниной и лесного бродяги (coureur de bois) Николя Пелтье и «дикарки-христианки», состоявшееся в 1660 г. в Квебеке, «наделало много шума», то, например, брак между Николя Жереми-Ламонтанем и монтанье Мари-Мадлен Тетаусикуе, скрепленный отцом Франсуа де Крепьёлем в 1693 г. в Шикутими, был уже вполне в русле политики, проводимой колониальной администрацией и миссионерами (Dawson 2011: 143-144). Доусон прослеживает метисацию XVIII в. и ее последствия и результаты на базе подробнейшего анализа архивных материалов и генеалогий Николя Пелтье - основателя фактории на озере Некуба - и его многочисленных как официальных, так и незаконно рожденных потомков. Анализ автора показывает, что дочерей Пелтье, как и другие уважаемые мехоторговцы, предпочитал, как правило, отправлять в Квебек или Монреаль, где они поступали в услужение в богатые семьи, многие из них впоследствии выходили замуж или как-то иначе инкорпорировались в колониальное общество и воспринимали европейскую культуру. Их дети становились представителями евро-канадского сообщества и ничем уже не отличались от остальных франкоканадцев. В частности, подобную судьбу разделили три его дочери Мари-Жанн, Доротея и Мари-Мадлен (Dawson 2011: 158-160). Сыновья Николя Пельтье, например Шарль Пелтье Эчинескауат, напротив, будучи потенциальными добытчиками пушнины, оставались в лесах со своими индейскими матерями и становились охотниками, воспринимая тем самым культуру монтанье и становясь частью их сообщества. То же самое происходило с их потомками. Биологически это были метисы, но с индейской идентичностью (161). Первая половина XIX в. ознаменовалась для Сагенея и озера Сен-Жан (особенно региона Шикутими) масштабной сельскохозяйственной и лесопромышленной колонизацией, а следовательно, притоком евроканадцев из густо заселенной к тому времени долины реки Св. Лаврентия, районов Шальвуа и Мальбе (Dawson 2011: 171-172). Наемные работники, увольнявшиеся с лесозаготовок и ферм и уходившие в леса на промысел или торговать мехами, вступали в браки с женщинами монтанье, как мы выяснили, и так уже метиссированными в XVIII в. Их дети, именуемые в источниках «свободными людьми», были, по Доусону, уже вдвойне «метисами», но вновь с индейской идентичностью, так как тоже воспитывались в автохтонной среде (189-190). Доведя свой анализ метисации на Сагенее до начала XX в., Доусон приходит к выводу, что смешанные браки на протяжении более 200 лет практиковались здесь в значительном количестве, но они не повлекли за собой формирования метисной идентичности и отдельного сообщества метисов. Метисы были, но они входили либо в автохтонное, либо в евро-канадское общество. В таких условиях сообщество «между двух миров» не смогло сформироваться (Dawson 2011: 226). Принимая метисов в свое общество, монтанье восстанавливались демографически. По Доусону, метисы по крови рассматривались как аутентичные индейцы. Их «индейскость» поддерживалась образом жизни, который они выбирали. В регионе Сагеней - Озеро Сен-Жан метисы, считавшие себя индейцами, чаще, чем сельскохозяйственное население, имели в предках смешанные пары. Такова региональная микроистория. В итоге «в саге-нейских лесах метиссированные дети создали народ-симбиоз, который не метался между двумя идентичностями, в отличие от метисов запада» (Dawson 2011: 229-231). Складывается впечатление, что Н.-М. Доусон рассматривает метисацию только как биологический, считай - этнический, процесс смешения людей, представляющих разные народы и расы, хотя на самом деле это явление более многогранно и сложно, а о культурной метисации говорит очень редко, упоминая ее лишь косвенно. Не случайно термин «люди смешанной крови» (les sang-meles) вынесен в заглавие книги. В то же время культурный аспект метисации в картине, написанной Доусоном, вырисовывается весьма ярко, поскольку метисы становились носителями либо автохтонной, либо евро-канадской культур. До последнего аналитического постулата позиции Н.-М. Доусона и Р.-А. Бушар были почти идентичны, но когда дело коснулось выводов, они кардинально расходятся. Рассел-Аврора Бушар о метисах регионов Сагенея и озера Сен-Жан Р.-А. Бушар в вопросе диспарационизма разделяет позицию Н.-М. Доусона, или, скорее, Доусон разделяет позицию Бушар, поскольку книга «Последний из монтанье» была издана в 1995 г., т.е. существенно раньше выхода всех работ Доусона на эту тему (Bouchard 1995). Именно поэтому не стану подробно излагать диспарационист-ские выводы Бушар, так как они мало чем отличаются от тех, что выдвинул и более глубоко, на мой взгляд, разработал Доусон (подробнее см.: (Воробьёв 2021: 124-125)), а сразу перейду к рассмотрению вопроса, в ответе на который названные авторы придерживаются разных точек зрения. Сразу следует сказать, что Бушар предстает убежденным сторонником давнего существования отдельного, не принадлежащего ни к автохтонам, ни к франкоканадцам, сообщества метисов в Квебеке, формирование которого началось еще во второй половине XVII в., если не раньше. Более того, также является общественно-политическим деятелем, лидером сообщества метисов Шикутими, носителем метисной идентичности, именующим себя «свободный человек» (homme libre). Начиная с 2004 г., исследователем написано большое количество книг, в которых отстаивается тезис непрерывного существования метисной идентичности и самостоятельного этнического сообщества метисов в Квебеке на протяжении колониального и современного периодов. «Рождение» метисов Бушар начинает доказывать уже с самого начала, т.е. с постулируемого им «смешения» разных автохтонных групп на основе «исчезающих» монтанье и последующего смешения «новых» монтанье с франкоканадскими торговцами пушниной и трапперами: Древние монтанье, которые прежде населяли эту территорию? От них больше почти ничего не осталось! Апокалипсис! «Раса» стоит на пороге исчезновения... И те немногие выжившие, которым удалось избежать болезней, войны, голода и холода, оказались безвозвратно приговорены к метисации с выжившими представителями Альянса (теми же монтанье и другими союзными французам индейцами региона. - Д.В.), а через короткий период и европейскими лесными бродягами, которые понемногу начали повсеместно распространяться по этим удаленным местам (Bouchard 1995: 163). Итак, Бушар без особых сомнений рассматривает «межиндейский этногенез» (по терминологии Доусона) как начальный этап метисации. Доусон же прямо этого не утверждает, но складывается впечатление, подразумевает такую интерпретацию этнических процессов, которая, как уже было показано, совсем не отражает реальный ход событий. Последующий «приток сильно метисированных лесных бродяг», согласно Бушар, и вовсе в первой половине XVIII в. «сформировал новую расу мужчин и женщин» (Bouchard 1995: 199). Под, безусловно, некорректным термином «раса» следует понимать не подлежащее никакому сомнению формирование сообщества метисов, обладающего в том числе и особыми культурными чертами, присущими только метисам и отличающими их и от индейцев, и от евро-канадцев. Окончательный вывод таков: «Вновь только что воссозданная “нация” монтанье продолжает свое превращение и подходит к становлению этничности (ethni) метисов» (200). Таким, образом, этногенез метисов, согласно Бушар, свершившийся факт. Родоначальником метисов Бушар считает все того же лесного бродягу и торговца пушниной Николя Пелтье: «Рождение клана метисов слеДует соотносить с появлением Николя Пелтье - отца нароДа» (Bouchard 2006b: 36-37). Более того, даже видит в этом человеке предка всех илну (монтанье), живущих сейчас в селении Маштеуиач на озере Сен-Жан (Bouchard 2005: 36), которые, по мнению исследователя, также являются по крови метисами. В оценке хода самой метисации отчасти прослеживается солидарность с Доусоном, но в плане этногенеза метисов выводы совершенно противоположные. Бушар пишет, что, по меньшей мере, восемь сыновей и дочерей Пелтье от трех его жен-монтанье, а в дальнейшем и их многочисленные потомки распространились по всей территории «Королевского Домена»4 от озера Никабо до реки Минган, поселились в Тадуссаке и Шикутими, дав тем самым начало «клану метисов». Таким же образом дела обстояли и с потомками других лесных бродяг (Bouchard 2006b: 38-40). Как видим, данная интерпретация разительно отличается от выводов Доусона, который не обнаруживает у потомков Пелтье метисной идентичности. Далее Бушар выделяет вторую и третью фазу (соответственно, вторая половина XVIII - начало XIX в. и середина XIX в., начиная с аграрной колонизации региона и зарождения лесопромышленности) становления народа метисов, связывая их с мехоторговцами теперь уже шотландского происхождения - МакЛареном и Питером МакЛеодом. Для второй эпохи характерно гармоничное сосуществование трех этнических сегментов сообщества Шикутими - служащие торговых постов (шотландцы и франкоканадцы), «свободные люди» (метисы) и индейцы (Bouchard 2005: 45), а в третий период прибывающие колонисты смешиваются с местными жителями, продолжая тем самым метисацию (57-59). Со второй половины XIX в. положение метисов Квебека, в частности Шикутими, меняется в худшую сторону. Провинциальные власти предпочитают не замечать их, и в переписи населения 1861 г. они уже не упоминаются, их всех записали индейцами. Причина такого поворота событий состоит в том, что к этому времени метисы Манитобы начинают представлять политическую силу и противостоять канадским властям, а также обостряется франкоканадский вопрос (Bouchard 2005: 70-72). Складывается впечатление, что, по Бушар, именно эти факторы в свою очередь приводят к негативному отношению к метисам в целом. Весь последующий период метисы Квебека, продолжая существовать, оказались «забытом народом» и только после судебного решения по делу Паули 2003 г. они вновь заявили о себе и о своих правах (76). Под руководством Бушар 21 июня 2005 г. в Шикутими была проведена символическая церемония «пробуждения медведя-метиса», выходящего из своей берлоги. Тем не менее, данное сообщество метисов официально так и не признано провинциальными властями Квебека до сих пор (Bouchard 2007: 59-60). Формула мифа о рождении метисов, по Бушар, такова: «Свобода как страна (пространство, земля. - Д.В.), воображаемая как линия горизонта» (Bouchard 2006а: 147). Многие исследователи подвергают критике позицию и доказательную методологию Р.-А. Бушар относительно существования сообщества метисов в Квебеке на протяжении почти всего исторического периода. Так, Луи-Паскаль Руссо критикует книги Бушар, последовавшие за «Последним из монтанье». Он говорит, что автор, изменив лишь терминологию, продвигает все тот же диспарационистский тезис - массовая гибель индейцев в ходе первых контактов и рождение «нации канадских метисов». В них постулируется исчезновение монтанье в процессе метисации и параллельное возникновение заменившего их сообщества метисов. В деле изучения этногенеза метисов эти работы являются маргинальными. Они слабы в теоретическом и методологическом измерениях, базируясь на позициях социального дарвинизма, которые выражаются в идее, что культура группы людей определяется их биологическим происхождением. Испытав метисирующее воздействие колонистов, монтанье были якобы обречены на формирование культуры метисов (Rousseau 2012: 75-76). Рассмотрю некоторые примеры, приводимые Бушар в качестве доказательства культурного своеобразия метисов Шикутими, отличающего их от других этнических сообществ Квебека. Исследователь подробно останавливается на культурных особенностях, свидетельствующих, по мнению ученого, о бытовании культуры, присущей именно этому сообществу. Сразу надо отметить, что многие примеры таких особенностей на деле не выглядят убедительными. Среди них следует упомянуть фотографию, датируемую 1910 г., на которой изображены охотники в окрестностях Метабечуана, указаны их имена. Это люди европейской внешности, в предназначенной для леса одежде фабричного производства, сидящие перед входом в палатку с железной печкой. На шест палатки надет медвежий череп, по мнению Бушар, явно закрепленный там в неких ритуальных целях. Автор видит в этом синкретизм автохтонного и евроканадского компонентов - суть культуры метисов. Впитав и то и другое, они не принадлежат ни к тем, ни к другим (Bouchard 2006а: 159). Надо сказать, что такие палатки используют почти все жители тайги обоих полушарий, а череп медведя может как нести, так и не нести ритуальные функции. Многие евроканадцы, ведущие охотничий образ жизни, на промысле вполне могли отправлять некие ритуалы, заимствованные у индейцев. Таким образом, фотография не свидетельствует именно о метисной идентичности. Эти люди могут вполне быть метисами, но равным образом и не быть ими. Также в качестве культурного достояния метисов Бушар отмечает длинный, плетеный из шерстяных нитей пояс-кушак со стреловидным орнаментом (la ceinture flechee) и характеризует его как «деталь традиционной одежды, характерной для метисов франкоканадского происхождения» (Bouchard 2008: 89). Хотя Бушар и не отрицает того факта, что такие пояса также носили лесные бродяги, индейцы, торговцы пушниной, но и не пишет об этом. На мой взгляд, данный пример неудачен. Кушаки со стреловидным орнаментом являются культурным наследием жителей Квебека в целом (Bevilacqua 1994: 81) и поэтому не могут служить признаком отдельной культурной идентичности именно метисов региона. Еще одной характерной и яркой культурной, а скорее биологокультурной, чертой метисов Бушар считает большое количество людей с приобретенной физиологической особенностью, называемой «горб от каноэ» (la bosse du canot). Он представляет собой своеобразный хрящевой нарост, образующийся на шейных позвонках в результате переносок каноэ и другой тяжелой ноши на плечах во время многочисленных переходов через длинные волоки - сухопутные переходы из одной озерноречной системы в другую. Здесь автор прямо говорит, что такая особенность характерна для всех жителей лесов (индейцев, франкоканадских трапперов и метисов) и даже составляет предмет гордости, так как является показателем богатого опыта и выносливости ее обладателя (Bouchard 2006а: 22-24). Факт, действительно, очень интересный, но он тоже никак не может свидетельствовать о культурной исключительности метисов. Мнения других исследователей о проблеме метисов региона Сагенея и озера Сен-Жан Большинство известных мне исследователей так или иначе скептически относятся к возможности формирования метисного сообщества и идентичности на территории Квебека в исторический период. Например, такое мнение высказывает в своей книге Клод Желина (Gelinas 2011). В общих чертах его главный вывод сходен с выводом Доусона, но в некоторых частных моментах они расходятся. Рассматривая ранний этап, Желина пишет о широко распространенной практике торгового обмена и прочих взаимодействий населения региона Сагенея - Озера Сен-Жан с другими группами (долина р. Св. Лаврентия, юг Онтарио, север Лабрадора и пр.), говорит о контактах с ирокезским населением, но не считает это «межиндейским этногенезом» в отличие от Доусона. Он лишь осторожно допускает возможность влияния этих связей на культурную идентичность (Gelinas 2011: 25). В дальнейшем, в связи с проникновением в данную местность немногочисленных франкоканадцев и их отношениями с индейскими женщинами, появляются люди смешанного происхождения, но дети от таких союзов воспринимали культуру матерей, а не отцов. Биологическая метисация не ведет к формированию новой идентичности и особой культуры. Культура не определяется биологическим происхождением индивида. Ни та ни другая сторона не отказывались от своей идентичности даже при культурном взаимопроникновении (Gelinas 2011: 32-34). Исследование К. Желина отличается от работы Н.-М. Доусона тем, что он много внимания уделяет сразу начавшейся культурной метисации, которой подвергались и сами европейцы, заимствуя у индейцев каноэ, снегоступы, всевозможные навыки жизни в лесу. Индейцы восприняли металлические изделия, христианство, алкоголь и пр. Таким образом, европеец, воспринимая культуру индейцев, не обязательно становился индейцем, а индеец, воспринимая европейское, вовсе не обязательно становился «белым». Культурная метисация также не меняла идентичность (28). В источниках XIX в. Желина обнаруживает термины, относящиеся к метисам, но связывает их с «навязываемой идентичностью», когда и франкоканадцы, и индейцы могли приписывать метисность жившим среди них отдельным индивидам, хотя сами эти люди до относительно недавнего времени себя так не идентифицировали ни на индивидуальном, ни на коллективном уровне. В итоге Желина констатирует: «Проведенный анализ демонстрирует, что доступные на данный момент исторические источники не позволяют сделать заключение о существовании одного или нескольких сообществ метисов на территории Сагеней - Озеро Сен-Жан до самого недавнего периода» (Gelinas 2011: 143). Однако важно отметить, он не исключает, что дальнейшие исследования все-таки смогут выявить такое сообщество, поскольку инструментарий его определения разработан еще очень слабо (147). Показательно, что Доусон ни о чем подобном не говорит. Еще один исследователь, Луи-Паскаль Руссо, посвятил проблеме вероятности формирования сообщества метисов в исследуемом регионе на раннем этапе (XVI-XVII в.) диссертационную работу (Rousseau 2012). Сразу следует сказать, Руссо тоже пришел к выводу, что в регионе Сагеней - озеро Сен-Жан в XVI-XVII вв. метисного этногенеза не было (Rousseau 2012: 330-331). Уже в XVI в. практиковались кратковременные эпизодические связи между индейскими женщинами и европейскими (басками, затем французами) моряками и китобоями, а родившиеся от них дети, вполне естественно, формируясь в автохтонной среде, росли с автохтонной идентификацией. И даже в XVII в. союзы с европейцами оставались во многом эфемерными, это были лишь мимолетные связи и быстрое неизбежное расставание. Дети, оставаясь у матерей, росли индейцами (337-339). Не обходит своим вниманием Руссо и культурный фактор. По его мнению, в условиях тесного культурного взаимопроникновения коренного населения и европейцев, их потомки - люди смешанного происхождения - легко находили себе место в автохтонных сообществах. Таким образом, почвы для формирования идентичности метисов не было (Rousseau 2012: 342). Наконец, еще один фактор, неблагоприятный для метисности, состоял в том, что на Сагенее в XVII в. два общества (автохтоны и евроканадцы) контактировали между собой достаточно тесно, тогда как метисные сообщества, служащие посредниками между двумя мирами, обычно появляются там, где эти два общества, две культуры, почти не контактируют напрямую, как это происходило впоследствии в Манитобе и Саскачеване. В регионе Сагеней - озеро Сен-Жан необходимости в таких посредниках не существовало (Rousseau 2012: 343). Исследователи, разделяющие взгляды Р.-А. Бушар, по всей видимости, не столь многочисленны. Упомяну лишь статью Паскаля Юо, в которой автор, полностью разделяя идею формирования сообщества метисов Сагенея уже в XVII в., повторяет, подчеркивает и всячески поддерживает постулаты, выдвинутые Бушар (Huot 2010). Формирование идентичности метисов в современный период. Юридический и политический аспекты Итак, мнение большинства упомянутых здесь исследователей сводится к тому, что в исторический период отдельное этническое сообщество метисов на территории Квебека так и не сложилось. Групп людей, осознающих себя как метисы, здесь попросту не существовало. Тем не менее, начавшийся в 1970-е гг. общий для всей Канады подъем национального самосознания, привел в итоге к формированию множества новых идентичностей, и метисы не составили исключения в этом процессе. Начало признанию или непризнанию метисных сообществ в разных регионах страны было положено громким дело Паули. Все началось в 1993 г., когда отец и сын Стив и Родди Паули охотились на лося в лесах окрестностей Со-Сент-Мари в провинции Онтарио и были задержаны охотничьей инспекцией. Их охота была признана нелегальной, и дело дошло до суда, где Паули заявили, что имеют право на охоту для жизнеобеспечения как метисы, обладающие таким правом наряду с «первыми нациями», согласно Статье 35 Акта о Канаде 1982 г. Однако, как гласит эта статья, такие права могут быть только коллективными, и ответчикам пришлось доказывать не только свое смешанное происхождение, но и существование на протяжении исторического периода и существующего по сей день в Со-Сент-Мари сообщества метисов со своей особой культурой и самосознанием. Дело продлилось 10 лет. В итоге Паули удалось доказать наличие исторического сообщества метисов в Со-Сент-Мари, и 19 сентября 2003 г. Верховный Суд признал их правоту на основе «права предков» (Gagnon 2019: 169-170). Это был нашумевший прецедент, в результате которого впервые на законодательном уровне была признана возможность существования сообществ «других метисов» - не имеющих отношения к давно признанным метисам, ведущим происхождение из колонии на Красной реке, и населяющим территории юга провинций Манитоба, Саскачеван и Альберта - со всеми вытекающими из этого статуса правами и льготами. Сразу после данного события во всех провинциях Канады стали появляться группы людей, идентифицирующие себя как метисы и отстаивающие свои права в судах. В Квебеке за период с 2006 по 2016 г. количество людей, считающих себя метисами, увеличилось с 27 980 до 69 360 человек (Gagnon 2019: 158). Таким образом, если даже принять точку зрения, согласно которой в прежние времена сообществ метисов в Квебеке не было, то теперь, в связи с возникновением здесь новой идентичности, они появились, и данный факт не вызывает никакого сомнения. Другое дело, что по законодательству право на эту идентичность приходится доказывать в суде. Получается, проблема метисов Квебека лежит не только в этническом, но и, в равной степени, в юридическом и политическом измерениях. Обращает на себя внимание, что в подавляющем большинстве случаев требования метисов в судах сводятся к отстаиванию права именно на ведение определенной формы промыслового хозяйства (право на охоту, рыболовство и пользование другими возобновляемыми природными ресурсами). Достаточно упомянуть дело Г. Короно (1999-20092015 гг.) о незаконном занятии охотничьего участка на землях Короны в окрестностях Шикутими; дело Парана (2010-2013 гг.) - о вылове рыбы сверх лимита; дело Сегэна (2016 г.) - незаконное обустройство охотничьего лагеря в районе Маниваки; дело Ганьона (2016 г.) - о праве на рыбалку на реке Утард; и дело Поля (2016 г.) - четыре представителя одной семьи обвинялись в многочисленных нарушениях закона «О сохранении и поддержании фауны» и закона «О лесе» на территории от озера Абитиби до залива Джеймс (Gagnon 2019: 159-161). Это наводит на мысль, что данный вид деятельности имеет существенное значение для многих квебекцев, в особенности живущих в сельской местности и небольших городах вне пределов урбанизированной полосы долины Св. Лаврентия. Насколько мне известно, на какие-либо другие льготы или компенсации метисы Квебека не претендуют. Не случайно же антрополог и специалист по вопросу метисов Дени Ганьон назвал главу своей книги, где разбираются судебные процессы с участием метисов, отстаивающих свои права, именно как «Право на промысел» (Droits de recolte) (Gagnon 2019: 158). Все эти дела были метисами проиграны, суды постановили, что ответчикам не удалось доказать в каждом случае существования исторического сообщества метисов, а следовательно, и отстоять свои права на промысел. Не думаю, что требования, связанные именно с охотой и рыбалкой, являют собой лишь манипуляции, направленные на получение всевозможных выгод и льгот от государства. По всей вероятности, этот вид деятельности действительно важен для многих жителей провинции Квебек. Думается, их частое фигурирование в основе судебных дел говорит о том, что это нечто большее, чем просто желание изредка вести охоту на отдыхе, как это делают многие граждане многих государств, получившие охотничьи билеты. Для нас - в контексте задач статьи - будет важным рассмотреть дело Корно как начавшееся еще до вынесения решения по делу Паули, в первую очередь по той причине, что в качестве экспертов в нем выступили, в том числе, и лидер сообщества метисов Королевского Домена и Сеньории Минган Рассел Бушар со стороны ответчиков, и Нельсон-Мартин Доусон - со стороны прокурора, доказывавшего отсутствие метисного сообщества. В 1999 г. Гислэн Корно оспорил в суде обвинение в незаконном нахожден
Воробьёв Д. В. Об одной дискуссии между квебекскими социальными антропологами и историками // Антропологический форум. 2021. № 51. С. 113-140. DOI: 10.31250/1815-8870-2021-17-51-113-140
Федин А. В. Стратегии аккультурации : политика францизации в контексте иезуитской миссии в Новой Франции в первой половине XVII века // Самарский научный вестник. 2016a. № 4 (17). С. 101-109. DOI: 10.17816/snv20164206
Федин А. В. Иезуитская миссия в Новой Франции в первой половине XVII века. М.: Изд-во Ипполитова, 2016b
Beaulieu A. Convertir les fils de Cain. Jesuites et amerindiens nomades en Nouvelle France, 1632-1642. Quebec: Nuit Blanche Editeur, 1994
Bevilacqua P. La ceinture flechee et le caribou.... // Cap-aux-Diamants. 1994. № 37. P. 81
Bouchard R.-A. Le dernier des Montagnais de la prehistoire au debut du XVIIIe siecle: Vie et mort de la nation Ilnu. Chicoutimi: R. Bouchard, 1995
Bouchard R.-A. La communaute de Chicoutimi, fondements historiques et culturels. Chicoutimi: R. Bouchard. 2005. URL: http://classiques.uqac.ca/collection_histoire_SLSJ/bouchard_russel/communaute_metisse_chicoutimi_2005/metis_chicoutimi.html
Bouchard R.-А. La longue marche du Peuple oublie... Ethnogenese et spectre culturel du Peuple Metis de la Borealie. Chik8timih, Saguenay: R. Bouchard, 2006a
Bouchard R.-A. Le peuple Metis de la Borealie: Un epiphenomene de civilisation. Chik8timith: R. Bouchard, 2006b
Bouchard R.-A. Quand l'Ours Metis sort de la ouache. Conference. Chik8timih, Saguenay: R. Bouchard, 2007
Bouchard R.-A. Le peuple Metis de la Borealie. Evocation des textes fondateurs. Quebec: R. Bouchard et les Editions CORNAC, 2008
Coock M. Les droits ancestraux autochtones: reconnaissance et contestation. La controverse entourant l' “Approche commune” // Recherches amerindiennes au Quebec. 2013. Vol. 43, № 1. P. 59-68. URL: https://id.erudit.org/iderudit/1024474ar
Dawson N.-M. Feu, fourrures, fleaux et foi foudroyerent les Montagnais. Sillery: Septenrtion, 2005
Dawson N.-M. Fourrures et forets metisserent les Montagnais. Regard sur les sang-mele au Royaume du Saguenay. Quebec: Septentrion, 2011
Gagnon D. Le statut de Metis au Canada. Histoire, identite et enjeux sociaux. Quebec: Presses de l'Universite Laval, 2019
Gelinas C. Indiens, Eurocanadiens et le cadre de metissage au Saguenay - Lac-Saint-Jean, XVIIe-XXe siecles. Quebec: Septentrion, 2011
Huot P. Les Metis de Borealie. Une presence autochtone au Quebec // Rabaska. 2010. Vol. 8. P. 77-92. DOI: 10.7202/045256ar
Rousseau L.-P. Ni tout l'un, ni tout l'autre. Rencontres, metissage et ethnogenese au Saguenay - Lac-Saint-Jean 16e-17e siecles. These presentee a la Faculte des etudes superieu-res et postdoctorales de l'Universite Laval dans le cadre du programme de doctorat en his-toire pour l'obtention du grade de Philosophic doctor (Ph.D.). Quebec, 2012
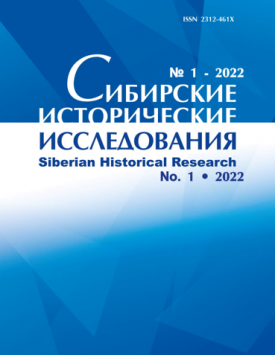

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью