Введение к специальной теме номера посвящено культурным практикам и механизмам забвения и особенностям их междисциплинарного исследования. В подборку вошли статьи участников конференции «Забыть и вспомнить: формы и границы советской памяти», состоявшейся 1, 3, 5 и 6 февраля 2021 г. онлайн на базе Института экологии и антропологии РАН и Московской высшей школы социальных и экономических наук. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Forgetting and Remembering: Cultural Mechanics of Amnesia. An Introduction to the Special Topic of the Issue.pdf Мы представляем читателям вторую подборку материалов конференции «Забыть и вспомнить: формы и границы советской памяти», состоявшейся в феврале 2021 г. и собравшей более 50 докладчиков из разных стран . Основные темы конференции - соотношение памяти и забвения, осмысление механизмов преднамеренного или стихийного забывания, динамики памяти о событиях и явлениях в советское время и в первые постсоветские десятилетия - уже тогда казались до крайности злободневными. В современной ситуации, когда память и забвение вновь стали одними из ключевых категорий публичной политики и идеологических войн, размышления участников конференции часто откликаются и вовсе неакадемическими параллелями. Как уже было отмечено во вступлении к предыдущей тематической подборке (Куприянов, Соколова 2021), несмотря на то что забвение упоминалось или обсуждалось многими участниками конференции, оно редко оказывалось непосредственным объектом исследования. Другая характерная черта современного амнестического дискурса, проявившаяся в докладах и дискуссиях, состоит в том, что в большинстве случаев мы склонны толковать забвение в негативном модусе, как отсутствие или противоположность памяти, а это заметно снижает его ценность как аналитической категории. Публикуемые тематические подборки нацелены на изменение сложившегося способа говорения о забвении, углубление рефлексии и концептуализации этого важного, но все еще недостаточно освоенного понятия. Первая подборка в этом же журнале (со статьями Г.А. Янковской, С.Г. Маслинской и Ю.А. Секушиной) была выстроена вокруг темы постсоветского восстановления в памяти и практиках феноменов ушедшей советской действительности. Настоящий блок статей сконцентрирован на самой механике коллективного и индивидуального забывания. Его авторы размышляют над Первая подборка опубликована: Сибирские исторические исследования. 2021. № 4. С. 112-182. С материалами конференции можно ознакомиться на сайте http://oblivionconf.tilda.ws/ 28 Забыть и вспомнить: культурная механика амнезии тем, как именно отбирается «материал» для запоминания и забывания, рассматривают более и менее успешные случаи вытеснения одной версии событий другой, прослеживают, какие способы вытеснения прошлого работают в исследуемых сообществах, как забывающий осмысляет сам процесс и его последствия. Особо отметим, что вниманию читателя предлагаются тексты, рассматривающие забвение в разных дисциплинарных оптиках, что важно, учитывая характер изучаемого феномена. Исследования в области психологии индивидуального и коллективного забывания соседствуют здесь с анализом конкретных исторических примеров. Подборку открывает статья В.В. Нурковой и А.А. Гофман «Управляемое забвение: четыре типа амнезогенных практик». Размышляя о коллективном забывании, авторы констатируют сложившийся в литературе консенсус относительно «толерантной трактовки забывания»: если вынести за скобки результаты направленной политики памяти (предписывающей помнить или забывать исходя из сиюминутных интересов элит), забвение позволяет сообществу стихийно отказаться от нерелевантного в новых обстоятельствах опыта и таким образом более эффективно отвечать на вызовы настоящего. При этом «забываемый опыт» может быть как вовсе стерт, так и остаться в виде «следов памяти», возвращение к которым возможно по мере актуализации опыта. Основа механизма забвения - это правила коллективного взаимодействия с эвокативными объектами, вызывающими воспоминания о том, о чем следовало (хотелось бы) забыть. Авторы выделяют четыре типа таких «амнезогенных практик»: игнорирование, уничтожение, функциональную замену (изменение функции эвокативного объекта путем вытеснения одних ассоциаций и воспоминаний другими) и гиперстимуляцию памяти через фиксацию утраты или забвения. Особая примечательность данного текста, на наш взгляд, состоит в том, что он представляет собой редкую - и тем более ценную - попытку междисциплинарного подхода к проблематике забвения: авторы не просто описывают типы и механизмы забывания, выявленные в ходе психологических исследований, но и последовательно прикладывают их к историческому и культурному материалу. В разных случаях это представляется более или менее убедительным, но неизменно интригующим и продуктивным. Возникающий здесь вопрос о том, в какой степени и каким образом психологические данные могут быть применены к общественным (историческим) феноменам, так же как и предложенная типология управляемого забвения, представляется полезным для осмысления и других статей подборки, в которых амнестическая тематика раскрывается на конкретном историческом материале. Так, А.С. Виноградова («“Я не хочу об этом знать”: механизмы памяти и забвения у коммунистов во Франции») обращается к механиз-29 Павел Сергеевич Куприянов, Никита Андреевич Ломакин мам управляемого забвения и их разоблачению на материале мемуаров бывших членов Коммунистической партии Франции. На страницах своих воспоминаний бывшие коммунисты обличают игнорирование на индивидуальном и коллективном уровне «неудобных» решений компартии как часть общей и осознанно культивируемой и «сверху», и «снизу» политики памяти. А.С. Виноградова показывает, что разрыв с партией провоцирует индивидуальный кризис и подчеркнутое внимание к «забываемым» ранее деталям ее истории. При изменении в самоидентификации «забытое» и «забывание» возвращаются в виде травматического опыта, который находит отражение в позднейших мемуарах. Важную роль в осмыслении как политики памяти компартии, так и последующего отказа от нее имеет практика институциональной «самокритики», зародившаяся в недрах компартии и позже перенесенная, по мнению А.С. Виноградовой, на страницы автобиографической литературы. Тема забвения как подмены памяти и актуализации разных ее слоев в зависимости от запросов общества становится ключевой для статьи В. С. Стафа «От войны гражданской к войне освободительной: формирование советской памяти об интервенции на Севере России (1918- 1920 гг.)». Автор исследует мемориализацию событий Гражданской войны в беломорских регионах страны. Отмечая уникальность языка и средств этой мемориализации в 1920-х гг. (так, пионерским для мировой практики стало решение о музеефикации целого концентрационного лагеря), он подчеркивает, что задачей этой политики была подмена понятия и памяти: вместо Гражданской войны победившие большевики предлагали «вспоминать» интервенцию стран Антанты. Механизм этой подмены оказывается созвучен тому, что в статье В.В. Нурковой и А. А. Гофман описано как игнорирование и функциональная замена эвокативного объекта. События, связанные с противостоянием красных и белых, последовательно обходились молчанием в публичных практиках коммеморации, а затем (со второй половины 1920-х и в 1930-х) и вовсе оказались замещены историей противостояния внутренне единой страны интервентам. В.С. Стаф подмечает и другой важный момент: с ослаблением режима в 1980-х гг. опыт Гражданской войны (а вместе с ним и его мемориальное наследие) оказывается ненужным и забывается. Продлевая цепочку функциональных замен и вытеснений и тем самым продолжая работу забвения, на место старых памятников приходят новые эвокативные объекты, на этот раз музеефицирующие оставленные лагеря и командировки ГУЛАГа. В.П. Клюева в статье «(Не)потерянное десятилетие первопроходцев: глубина памяти молодых нефтяных городов Западной Сибири» исследует своеобразную динамику памяти и забвения истории некоторых северных городов, ориентированных на нефтедобычу. Многие из них (такие, как Когалым, которому, собственно, посвящена статья) зароди-30 Забыть и вспомнить: культурная механика амнезии лись не как нефтяные, однако с приходом сюда нефтяной индустрии память о начальном периоде их существования оказывается в тени более ярких последующих лет, связанных с интенсивным развитием всех сфер городской жизни. Прослеживая перипетии этого мемориального противостояния, автор показывает, что фактическая картина сложнее, чем может показаться на первый взгляд. При том, что в целом жители склонны воспринимать себя именно как сообщество нефтяников, вытеснения памяти о первом десятилетии Когалыма не происходит: оно не сбрасывается со счетов, и история первопроходцев находит свое место в публичных репрезентациях местного прошлого. Вместе с тем воспоминания об этих первых годах постепенно уходят даже из семейной памяти, теряя свою значимость в общей локальной истории. Вероятное объяснение этого, по мнению В. П. Клюевой, заключается в постоянной миграции местного населения и отсутствии устойчивого старожильческого ядра, которое было бы хранителем и авторитетным агентом этой памяти. Каждый из текстов, составляющих данную подборку, представляет самостоятельный интерес. Однако в совокупности они, как кажется, приобретают некое дополненное качество и значение. Во-первых, они демонстрируют продуктивность взгляда на проблематику памяти со стороны забвения. Во-вторых, они поднимают важные вопросы о сложностях и возможностях междисциплинарности в сфере мемориальных исследований - привычно провозглашаемой, но нечасто реализуемой. Конкретные исторические кейсы, разбираемые в статьях разных авторов, с одной стороны, вполне соотносятся с моделями, предлагаемыми на основе психологических исследований, а с другой - добавляют в эти модели значимые нюансы. Наконец, мы не можем не отметить общественную актуальность данной подборки. Тематика управляемого забвения, прямо или косвенно затрагиваемая во всех представленных статьях, сегодня приобрела пугающую остроту. А зависимость памяти и забвения от актуальных общественных запросов и повестки, показанную в представленных текстах, мы можем наблюдать в реальном времени. Память демонстрирует удивительную пластичность: кажется, уже сейчас люди начинают забывать то, что еще вчера казалось незыблемым и неискоренимым. В целом культурная механика памяти и забвения оказывается сегодня не только приведенной в активное движение, но и доступной невооруженному глазу. Все это предоставляет богатый материал для наблюдения и анализа и делает начатый разговор о забвении не просто важным, но неоконченным. Надеемся, что продолжение следует...
| Куприянов Павел Сергеевич | Институт этнологии и антропологии РАН | кандидат исторических наук, старший научный сотрудник | kuprianov-ps@yandex.ru |
| Ломакин Никита Андреевич | Институт этнологии и антропологии РАН | кандидат исторических наук, научный сотрудник | lomakinu@gmail.com |
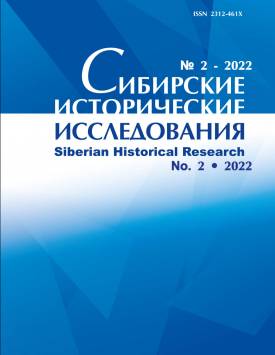

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью