Рассматривается сохранение памяти в северных городах Тюменской области, появившихся в период освоения нефтегазового комплекса. Анализ проведен на примере г. Когалыма - «столицы» нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Рассматривается проблема коммеморации начального этапа истории населенного пункта (до получения статуса города). В центре внимания - варианты и возможность репрезентации памяти о первопроходцах-строителях в городе с преобладающим населением, занятым в нефтяных отраслях. Акторами памяти, занимающимися конструированием и репрезентацией «до-городской» памяти, являются общественная организация «Первопроходцы Когалыма» и городской музей. Показано, что сложность в передаче и сохранении памяти связана с постоянной миграцией населения. По этой причине не происходит передача памяти на индивидуальном и семейном уровнях. Сделан вывод, что хотя история первопроходцев включена в общегородской исторический нарратив, образ Когалыма как города ЛУКОЙЛа оставляет в тени предшествующий этап развития этого места, вытесняет предыдущий этап развития, а личная память большинства горожан не содержит воспоминаний о первых строителях. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The (Un)Lost Decade of Pioneers: Preservation of Memory in Young Oil Cities of Western Siberia.pdf Как и многим северным городам, жизнь Когалыму подарила нефть. Ей он обязан своим рождением. На гербе города рядом с золотым медведем черная капля нефти как символ благосостояния. Преодолевая все трудности экономического развития России в непростую эпоху перемен, Когалым стал поистине городом-шедевром, воплощением мечты и устремлений многих людей. Сценарий празднования 15-летия Когалыма... 2000 Среди географов и урбанистов давно сложился консенсус о том, что наиболее высокий уровень европейской урбанизации характерен для 97 Вера Павловна Клюева северных широт. Об этом говорит Н.Ю. Замятина в одном из интервью: «Города ворвались в Арктику на волне индустриализации и потребности в природных ресурсах. Эта волна строительства городов в районе добычи природных ресурсов на Западе закончилась где-то в 60-е, а в России продолжалась вплоть до конца советской эпохи» (Будущее российской арктической урбанизации... 2021). Развитие российского севера значительно ускорилось в советский период (Стась 2016: 19-64; Ка-леменева 2019). С 1930-х гг. десятки населенных пунктов были построены практически с нуля. В 1926 г. на Крайнем Севере существовали 10 городов и один рабочий поселок, к 1933 г. их стало уже 14 и 27 соответственно (Крайний Север 1934: 8). А к 1960-м уже насчитывалось более 600 различных индустриальных поселений1. Активная урбанизация Тюменской области и исключительно ее северной части (ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского автономных округов) начинается только в 1960-е гг. К моменту промышленной эксплуатации нефтегазовых месторождений (1965 г.) в Тюменской области было всего лишь четыре города, возникших в досоветский период: Тюмень (1586 г.), Тобольск (1587 г.), Ишим (1782 г.), Ялуторовск (1782 г.), и три, получившие городской статус в советское время: Салехард (бывший Обдорск, статус города получил в 1938 г.), Ханты-Мансийск (1950 г.), Заводо-уковск (1960 г.). Возникновение городов и поселков в районах промышленного освоения обусловливалось вводом в разработку нефтегазовых месторождений. К 1989 г. на этой территории появилось 14 городов и 50 рабочих поселков (см. подробнее: (Колева 2007; Колева, Стась, Шорохова 2013: 130, 135; Дашинамжилов 2018)). Интенсивное ресурсное освоение советского Севера изначально моделировало жизненный цикл новых городов. Большинство из них должны были стать центрами предприятий горной промышленности и металлургии (в Мурманской области, Республике Коми и Красноярском крае) или освоения нефтяных и газовых месторождений (в Тюменской области). Жизнь преобладающего числа горожан должна была также выстраиваться вокруг профильных предприятий. Таким образом, северная урбанизация шла по пути формирования монопрофильных поселений. Формирование структуры населения в новообразованных городах и поселках повторяло логику заселения городов, возникших в период раннесоветской индустриализации (рубеж 1920-1930-х гг.). В обоих случаях населенным пунктам присуща миграционная активность жителей, текучесть рабочих кадров и преобладание жителей молодого и среднего возраста (до 50-55 лет). Но если в 1920-1930-е гг. государство справлялось с этой ситуацией принудительными мерами - через «самозакрепление» и введение института прописки для добровольных переселенцев или принудительным переселением «спецпоселенцев» и репрессированных (Меерович, Конышева, Хмельницкий 2011: 74-99), 98 (Не)потерянное десятилетие первопроходцев: глубина памяти то в позднем СССР использовалось экономическое, материальное и социальное стимулирование - повышенная зарплата, льготный отпуск, ранний выход на пенсию (Куцев 1989: 34, 94). И до сих пор особенностью городского населения новых северных городов является незначительное число старожилов и многопоколенных семей. Поэтому решающее влияние на формирование локальной памяти (а через нее и городской идентичности) оказывает градообразующее или монопрофильное производство. Специфика городской идентичности жителей моногородов, в том числе северных, становится предметом исследования и теоретических споров. На это указывает М.Г. Агапов, выступающий против использования термина «моногорожанин». Он вводит понятие «градообразующая профессионально-отраслевая группа» (Агапов 2021: 145). Статья М.Г. Агапова строится на анализе имиджинирига2 современного нефтяного города на примере Когалыма (Ханты-Мансийский округ), являющегося штаб-квартирой или холдинговой столицей (так предлагает обозначать города, в которых находятся головные компании нефтяных холдингов, О.Г. Колосова (2011: 215)) нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». На мой взгляд, автор, рассматривая оппозицию «нефтяников-производ-ственников» и «жителей города», упускает важный момент, касающийся до-городской истории3 и ее включенности или исключенности при конструировании образа нефтяного города. В истории моногородов то, что происходило до промышленного освоения территории, нередко остается «за кадром» или, в лучшем случае, попадает в экспозицию городского музея. Поэтому для городской идентичности естественным становится фокус на доминирующей группе: «главное там нефть, а уже остальные люди - вспомогающие профессии» (Инт. 1). Соответственно, и точка отсчета жизни города начинается с момента открытия и промышленной разработки месторождений. Как это происходило, можно увидеть на примере городов Западной Сибири. В 1985 г. в Тюменской области появилось три новых города: Лангепас, Радужный и Нягань, ставших базами освоения Локосовского, Варьеганского и Красноленинской группы месторождений нефти (Стась 2016: 151). Но эти города возникли не на пустом месте, до своего преобразования они были рабочими поселками, основанными в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Однако в публичной риторике возраст молодых нефтяных городов отсчитывается с момента присвоения им городского статуса и, соответственно, отличается от фактического возраста населенного пункта в меньшую сторону4. В этой статье я предлагаю сосредоточиться на конструировании догородской истории и воспроизводстве исторической памяти в нефтяных городах Западной Сибири. Кейсом для анализа выбран г. Когалым, который является типичным позднесоветским монопрофильным городом, основанным для нужд ресурсного производства. Датой основания насе-99 Вера Павловна Клюева ленного пункта считается 1976 г., когда появляется железнодорожная станция Когалымская на линии Сургут - Коротчаево (Уренгой). В 1985 г. поселок при станции получает статус города и становится центром освоения Повховского, Ватьёганского, Тевлинско-Русскинского нефтяных месторождений. В 1978 г. здесь начинает работу НГДУ «Повхнефть», а в 1988 г. - «Когалымнефтегаз». В 1991 г. зарегистрирован государственный концерн «ЛУКОЙЛ», название которого состоит из первых букв городов, в которых расположены нефтедобывающие предприятия: Лангепас, Урай и Когалым5. В основу анализа положены мои полевые материалы, собранные в 2017 и 2018 гг.6, дополненные рядом интервью с бывшими когалымча-нами, которые жили в городе в 1980 - начале 2000-х гг., а сейчас живут в Санкт-Петербурге и Тюмени. Ключевой вопрос, который предлагается к обсуждению - в каком виде присутствует «до-нефтяная» (догородская) история в публичной памяти Когалыма, кто является ее основными акторами и насколько успешны их действия по включению этого нарратива в культурную память города? Теория коллективной памяти Я. Ассманна является наиболее продуктивной при анализе материальных следов и воспоминаний. Особенно важно различение между «миметической памятью», «памятью объектов», т. е. материальным окружением социального мира, «коммуникативной памятью», передаваемой через три-четыре поколения при помощи прямого и непосредственного общения, и наконец, «культурной памятью», формирующейся посредством ритуальных практик и «твердых» объектов репрезентации, таких как мемориалы, памятники, культурные ценности и пр. (Ассманн 2004; Assmann 2008: 109-118). Как соотносятся эти разновидности памяти в случае Когалыма - города с нестабильным населением и явной «нефтяной» идентичностью? Есть ли здесь место для межпоколенной коммуникативной памяти или полностью доминирует культурная? И каким образом в местный мемориальный ландшафт вписывается до-городское прошлое? Первые годы: от поселка к городу, от строителей к нефтяникам История Когалыма начинается со строительства железнодорожной ветки между Сургутом и Уренгоем в 1976 г. Первые строители-железнодорожники установили палаточный лагерь, а потом построили временный поселок СМП-524. В августе 1976 г. поселок получает постоянный статус и название Когалымский7: «Вновь возникшему населенному пункту управления “Тюменьстройпуть” присвоить наименование - поселок СМП № 524 - Когалымский Тром-Аганского сельсовета» (Из решения исполнительного комитета...). Нефтяники приходят сюда немного позже. Для разработки нефтяного месторождения, от-100 (Не)потерянное десятилетие первопроходцев: глубина памяти крытого еще в 1972 г., в 1978 г. создается нефтегазодобывающее управление «Повхнефть». Строительство города начинается в 1980 г., и связно с изменениями в концепции градостроительного освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Нефтяные ведомства выступали за появление такой системы расселения, которая смогла бы приблизить жилье к месторождениям или к объектам межпромыслового обслуживания (Стась 2016: 143-148). Для поселка Когалымский это означало расширение жилищного строительства и увеличение населения: Изначально, вероятно, предполагалось, что город будет расти на базе поселка, потому что после этих палаток постепенно стали строиться дома, а потом появлялись эти финские сборные домики и так далее. Потом приезжали строители, которые жили тоже там в своих поселках отдельно. И, собственно говоря, как бы это вот был центр жизни и потом, когда город стали строить на некотором отдалении - это вызывало удивление, почему он далеко, почему он не на базе поселка (Инт. 5). Строительство будущего города началось в семи километрах от поселка на правом берегу р. Ингу-Ягун (рис 1)8. ІІЛАп-СлбМА р.п. РОГАЛЬ!і'л Саргатомог*' "ч ПРСДСЕДАШЬ РАИКШНОМА в. манущенка гл.титтор района «.амвшшвй Рис 1. План-схема Когалыма. 1983 г. (ГБУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 6860. Л. 65) До сих пор в речи жителей Когалыма при обращении к прошлому 101 Вера Павловна Клюева встречается противопоставление города и поселка: А он постоянно был поселок, это поселковая часть и городская часть, левобережье и правобережье. Это все с момента начала строительства города. А когда заселились-то мы - понятно, что все. Есть левобережная часть - это поселок. И есть правобережная часть - это город. Вот две части (Инт. 2). Мы, естественно, в поселке жили. У нас делится город на поселок и на город, в городе всего два дома стояло. Две пятиэтажки. И магазин «Уралочка». И все (Инт. 3). Для горожан поселком могло маркироваться и все левобережье, и поселок рядом с железнодорожной станцией («где начинался город»), и поселок с капитальным строительством, построенный спустя несколько лет в нескольких километрах от станции: Поселком мы называем эту левобережную часть. Там начинался город, был поселок, и все его так и зовут в простонародье «поселок». И там было ветхое жилье. Постоянный поселок - там сразу построили каменное [жилье]. И он уже был «постоянный поселок» (Инт. 4). В 1980-е гг. рядом, также на левом берегу Ингу-Ягуна, появились еще два поселка: Прибалтийских строителей (ДСУ-12)9 и Фестивальный. Новый город начал быстро заселяться, хотя и не пользовался популярностью в первое время: Вот первые дома, когда строили. Наши знакомые, они не хотели переезжать [из поселка]. Они как-то не очень хотели ехать. Потому что там был [только] один дом, потом второй дом. А потом, конечно, город - это уже хорошо считалось, это уже все хотели (Инт. 5). На нежелание переезжать из поселка влияло отсутствие благоустройства. Неразвитость социальной инфраструктуры была заметной проблемой в северных городах. Об этом писали еще советские социологи (Куцев 1989: 42-57). За развитие и благоустройство Когалыма как ведомственного «нефтяного» города отвечал один заказчик - управление «Повхнефть», а генеральным застройщиком выступал трест «Кога-лымнефтегазстрой» (Петрушин 2015: 103). Исключительное присутствие нефтяников в городе, с одной стороны, позволило застраивать его по единому генплану, что создало архитектурный образ, но с другой -оказало влияние на формирование социально-профессиональной стратификации горожан, на их группность (согласно М.Г. Агапову). Смена профессиональной специализации была заметна и на вербальном уровне: «Появились новые организации, звучали слова “нефть”, “нефтяник”, “буровик”, “нефтедобыча”, “КС”, “ДНС”, “куст”, “СМУ”, “ПУБР”, “СУМР”...» (Воспоминания Т.Г. Гавриловой). Слова информантки, переехавшей в Когалым в 1985 г. по предложе-102 (Не)потерянное десятилетие первопроходцев: глубина памяти нию отца-геофизика, работавшего в нефтяном производстве, дают возможность понять, как выстраивалось разделение: Ну, мы поселков-то и не видели, собственно . Вы знаете, наверное, о том, что он строился, и это была принципиальная позиция о том, что в самом городе не строить этих временных балков, временных каких-то поселений для строителей. Все это было вынесено на левобережную часть, и, соответственно, там это происходило. Я долго называла левобережную часть деревней, потому что вообще не знала, что есть такое слово «поселок». Огромное количество всевозможных аббревиатур, которые мне ни о чем, естественно, не говорили. ДСУ, СМП - что это вообще? А у меня понятия «посёлок» вообще не было. Была деревня. Но это вот был поселок, да (Инт. 6). К середине 1980-х гг. город уже во многом воспринимался как город нефтяников. Об этом было сказано на первой сессии городского совета народных депутатов (30 августа 1985 г.): «Ведущей отраслью Когалыма является нефтегазодобывающая промышленность. На его территории дислоцируются более 60 предприятий и организаций» (Когалыму - 35 2020). Спустя год тюменские социологи подтверждают нефтяную принадлежность Когалыма - это «монофункциональный город нефтедобывающего профиля, существующий на основе базовых предприятий, с тенденцией к быстрому качественному росту населения исключительно за счет миграции» (ГБУТО ГАТО. Ф. 2124. Оп. 1-1. Д. 285). В настоящее время для жителей Когалыма, социализация которых пришлась на конец 1990-х - начало 2000-х гг., история города - это история «ЛУКОЙЛа»: «Этот город же был под началом ЛУКОЙЛа, и все считают, что когда он начал действительно быть, это день становления именно вот этой компании. Потому что даже ЛУК - это Лангепас, Урай, Когалым, все на этом завязывалось у нас» (Инт. 10). Нефтяной расцвет города оказывается более значимым и заметным для рассказа о прошлом, даже дату получения городского статуса относят к началу 1990-х гг.: «Дата основания, по-моему, год 90-й или 91-й и там сначала была станция железнодорожная. А потом уже начал расти [город], видимо» (Инт. 8). Материальные следы памяти: нефть и(или) первопроходцы Первый и бессменный председатель общества «Первопроходцы Ко-галыма» Т.Г. Гаврилова любое свое выступление начинает с утверждения первенства «десанта строителей железнодорожной трассы»: «Стало уже привычным отсчитывать возраст Когалыма с августа 1985 года, когда ему был присвоен статус города. Но его история началась с марта 1976 года, когда на крошечную площадку бескрайнего белого безмолвия древней хантыйской земли приземлился вертолет, прилетевший с целью “привязки станции Коголымской к местности” С вертолёт-103 Вера Павловна Клюева чиками прилетели и первые работники строительно-монтажного поезда № 524 треста “Тюменьстройпуть”. То есть то, что история нашего города началась 40 лет тому назад, является непререкаемым историческим фактом» (подчеркнуто мною. - В.К.) (Гаврилова 2018: 3). Но уже в середине 1980-х и особенно с начала 1990-х гг. со стороны «Когалымнефтегаза» и «ЛУКОЙЛа» как его преемника складывается патерналистское отношение к городскому пространству и самим кога-лымчанам. Подобное отношение градообразующего ведомства к горожанам было характерно для позднесоветского времени, о чем пишет применительно к пермским нефтяным городам Д. Роджерс (2021: 114-120). Девяностые годы были сложным периодом для горожан, работавших вне нефтяной сферы. Именно тогда разделение на нефтяников и не-нефтяников стало наиболее заметным. Это проявлялось в «социальном неравенстве между бюджетниками и нефтяниками» (Инт. 7): разница в зарплате («я вот работала директором вечерней школы. Мои ученики получали 500-600 рублей, а у меня 102 рубля» (Инт. 2)), в снабжении («у нефтяников все равно были какие-то свои каналы по получению продуктов и так далее» (Инт. 7)) и др. В начале 1990-х гг. городскую администрацию возглавил выходец из «Когалымнефтегаза» А. Гаврин. «Над Когалымом раскрылся “социальный зонт” Когалымнефтегаза. В основу нового постсоветского “общественного договора” когалымчан был положен принцип: социальные программы “нефтяников” в обмен на лояльность “горожан” (“бюджетников”)» (Агапов 2021: 156). Действительно, по воспоминаниям жителей о том периоде, «вся эта кампания 90-х, она пролетела мимо нас. Мы строили город, мы были в таком кайфе, мы в таком развитии были. Тут были такие деньжищи, которые позволяли реализовывать любые мечты» (Инт. 6). Неудивительно, что городское пространство постепенно маркировалось нефтяной (а часто и Лукойловской) тематикой. Это заметно в топонимике Когалыма. «Инт.: В Когалыме нет улицы Ленина. Инф.: Да. У нас больше про нефть» (Инт. 8). В городе только две улицы названы в честь известных персон, и это нефтяники. Самая первая городская улица была названа именем Степана Повха (одного из первооткрывателей самотлорской нефти, в честь которого было названо месторождение, разрабатываемое НГДУ «Повхнефть»). Рядом проходит проспект Шмидта (в честь В.Г. Шмидта, генерального директора «Когалымнефтегаза» в 1990-1993 гг.). Память о первопроходцах в городской топонимике считывается не так прямо. Можно утверждать, что в честь строителей города были названы центральные улицы: Дружбы народов, Ленинградская, Прибалтийская, Градостроителей. Следы первопроходцев остались в названиях - Пионерная, Новоселов, Романтиков, Комсомольская - на территории поселка Пионерный (бывший Когалымский). 104 (Не)потерянное десятилетие первопроходцев: глубина памяти Свое присутствие в городе нефтяники закрепляли не только в городской топонимике, но и в информационном пространстве, создав газету «Нефтяник Когалыма» (первый номер вышел в мае 1990 г.). До этого в городе издавалась общегородская газета «Когалымский рабочий», (1986-1998 гг.). В 1998 г. «Нефтяник Когалыма» и «Когалымский рабочий» были объединены в единое издание - «Когалымские вести»: Несколько газет у нас было в городе. Сейчас «Когалымский вестник», а сначала был «Когалымский рабочий», потом «Когалымские вести», потом «Когалымский вестник». Ну, и «Нефтяник Когалыма» был - это уже нефтяники. Его в «Нефтяники Западной Сибири» потом переименовали. То есть вот как бы газета городская - «Когалымский рабочий» и так далее. А это - нефтяники. Сначала он был «Нефтяник Когалыма», а сейчас «Нефтяник Западной Сибири»10. Сейчас изменили, там [информация про] три города, все эти три - Урай, Лангепас и Когалым. Раньше только Когалым, там вся информация была» (Инт. 5). Из материальных следов наиболее заметными являются городские памятники, среди которых выполненные в стиле нефтеэстетики11 заметно преобладают над прочими монументальными группами. Среди них только один обращен ко всем «первооткрывателям когалымской нефти, первопроходцам Тюменского Севера» - «Слава труду» (рис. 2). Большинство других: «Капля жизни» (чаще называемая «Капля нефти») (рис. 3); стела Пламя; «После вахты»; памятник героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири (рис. 4); Архитектурная форма, посвященная 25-летию «ЛУКОЙЛа» - имеют однозначно считываемую коннотацию (Достопримечательности Когалыма.): Вот наша Капля знаменитая. Вот это для меня клевый памятник. Притом что это нефтяники, и капля нефти, но там же совмещены и народы северные - ханты, и семьи, и нефть. Вот это то, к чему нужно стремиться городу. Нефть нефтью, а помимо нефти есть еще что-то (Инт. 8). Первопроходцы сумели добиться установки памятного камня на месте высадки десанта (рис. 5). В камень заложена капсула с обращением к потомкам и списком первопроходцев, начинавших строить город: Мы планируем, конечно, стелу поставить, уже камню хватит стоять - он пять лет простоял, с 12-го года стоит Долго мучились и долго искали, как это сделать. Потом в 12-м году началась проектная деятельность, и наш первый проект был - памятный знак. И все, и нам его поставили. Звонит ХХ из администрации. «NN, вот мы такой-то камень нашли, вот, пойдет ли он вам?» Я говорю: «Ну, вы какой нашли - такой нашли, не зацикливайтесь на этом, какой он из себя. Табличку мне сделает мой ученик. А камень ставьте. А какой будет камень, такой и ставьте, потому что он не вечный. Это закладной камень. Нам самое главное - обозначить место, где стояли палатки, чтоб никто не забывал, что начался город с палаток. Вот это важно для нас» (Инт. 2). 105 106 Вера Павловна Клюева Рис. 2. Памятник «Слава труду». Фото В. Клюевой. 2017 г. Рис. 3. Памятник «Капля жизни». Фото В.Клюевой. 2017 г. (Не)потерянное десятилетие первопроходцев: глубина памяти Рис. 4. Памятник героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири. Фото В. Клюевой. 2018 г. Рис. 5. Памятный камень первопроходцев после открытия Дня города. Фото В. Клюевой, 2017 г. 107 Вера Павловна Клюева Однако из-за того, что сам камень был подобран и установлен при поддержке городской администрации, активистами-первопроходцами он воспринимается как нечто навязанное «сверху», то, что им приходится принимать за неимением ничего лучшего: Все-таки мы с Т.Г. [хотели бы] там не только камень поставить, а все-таки какую-то стелу, чтобы она все-таки была... Знаете, может, если б мы вложились в камень... А это просто нам привезли, подарили, поставили. Да, мы любуемся, мы ухаживаем. Но такого, сказать, чтобы к душе лег - нет (Инт. 4). В 2014 г. почти напротив камня был установлен памятник героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири (см. рис. 4). Горожане, участники коммеморативных практик, восприняли установку этого памятника как очередное подтверждение «нефтяной» доминанты города: Инф.: Традиционно у нас, значит, у нас есть памятное место именно первопроходцев мы разбивали палатку там, чаи, они приходили, рассказывали, с чего всё начиналось, и мы погружались в эту атмосферу праздника, начала этого всего. Потом вот Алекперов поставил другое место свое - вот этот наш, который факел горит. Такой, спорный политический момент... Инт.: А в чем спорный момент? Инф.: Ну, вот они захотели увековечить, наверно, больше работу нефтяникам своим, и они этот памятник поставили, как именно символ людей, которые добывали нефть. А там (т.е. у закладного камня. - В.К.) - это когда прибыл первый поезд» (Инт. 9). М.Г. Агапов, подробно разобравший визуальную оппозицию присутствия нефтяников и не-нефтяников в Когалыме, считает, что в этом случае нет прямого противостояния памятных знаков. В одном случае присутствует привязка к историческому месту (памятный камень), в другом - к ландшафту (памятник героям-нефтяникам). Одновременно с этим он делает вывод, что «противопоставление памятных знаков первопроходцев и нефтяников символизирует конфликт первопроходческого и нефтяного нарративов, выражающих разный жизненный опыт» (Агапов 2021: 164-165). Конфликт коммеморативных практик продолжается. В 2021 г. в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» предполагалось заложить сквер им. В. Грайфера (в честь председателя совета директоров «ЛУКОЙЛа») и выполнить проект «Создание исторического сквера на месте высадки первого десанта строителей ж/д Сургут-Уренгой». В сентябре 2021 г. сквер был торжественно открыт губернатором области Н. Комаровой и президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Аликперовым. Одновременно с этим создание исторического сквера было отложено из-за отсутствия финансирования. Сквер им. В. Грайфера в СМИ представлен как сквер нефтяников и предполагает сохранение памяти только о представите-108 (Не)потерянное десятилетие первопроходцев: глубина памяти лях нефтяной отрасли. Первопроходцы воспринимают сложившуюся ситуацию как очередное подтверждение противопоставления представителей градообразующей отрасли и остальных жителей города. Где хранится память: акторы и акции Сохранение до-городской памяти - это, прежде всего, низовая инициатива, реализуемая обществом «Первопроходцы Когалыма»12. Возникновение организации в 2001 г. связано с желанием работников, работавших в СМП-524, отметить юбилей своего появления на «хантыйской земле». К этому времени СМП уже перестал существовать, поэтому инициаторы решили зарегистрировать общественную организацию: А когда мы-то создавали организацию, это 25 лет прошло уже, уже статус город получили. Поэтому музей уже здесь был, и мы в музее-то и собирались распланировать, как мы будем праздновать это 25-летие, потому что если раньше эти годовщины высадки праздновало СМП-524 (строительно-монтажный поезд 524) - это основное, головное предприятие, которое, собственно, и строило, и которое начинало все, если разобраться (Инт. 2). Тогда же первопроходцы стали активно продвигать дату 15 марта как знаковый день для города - «день высадки первого десанта»: Инф.: Это наш праздник. Город его отмечает по нашей просьбе. Инт.: То есть он, если бы не Вы и не организация, то его, скорее всего, не было? Инф.: Никто бы и не знал бы, и никто бы и не думал про это (Инт. 2). К настоящему времени «Первопроходцы Когалыма» уже включены в публичную повестку. Председатель организации является непременным участником большинства городских мероприятий. Открытие Дня города (в первое воскресенье сентября) начинается около памятного знака с речей представителя администрации Когалыма. Однако около камня собираются, в основном, сами первопроходцы и члены их семей: Инт.: Он действительно собирает только первопроходцев, потомков первопроходцев? Инф.: Да, там нефтяники не присутствуют. Нефтяники относятся к этому довольно презрительно - я даже так скажу. Был такой момент, когда она (председатель организации Т.Г. Гаврилова. - В.К.), по-моему, даже не выигрывала гранты свои, потому что они там совершенно четко смотрят на это все, будто она вообще мешается им под ногами, будто она мешает им строить [город] (Инт. 6). При этом первопроходцы не отрицают «нефтяного» основания города: Из-за чего город появился? Из-за чего железная дорога появилась, прежде всего? Из-за того, что нужно было нефтяникам везти оборудование. И благодаря этой железной дороге вот приехали прибалты, начали строить город. Все - город появился, это город нефтяников, город строителей, естественно. еще города-то не было, а нефть уже шла (Инт. 2). 109 Вера Павловна Клюева Если для первопроходцев сохранение памяти - это попытка сохранить личную историю и сделать ее частью своеобразного так называемого «городского кода», то для городского краеведческого музея - это одно из традиционных направлений работы. Музей в городе начал создаваться на рубеже 1980-1990-х гг. Инициатором его создания выступил «Когалымнефтегаз»: Инф.: А вообще история музея городского краеведческого в Когалыме, она начинается с восемьдесят девятого года. Там возникла идея сделать музей, который отражал бы деятельность «Когалымнефтегаза». Это градообразующее [предприятие]. Инт.: То есть [создать] ведомственный музей? Инф.: Нет, но чтобы в музее отражалось история «Когалымнефтегаза» и нефтяников. Вот в «Когалымнефтегазе» тогда был небольшой какой-то свой музейчик, там внутри, небольшая такая комната славы. Вот и они выступили с инициативой «Когалымнефтегаз», партийная организация Когалыма городская, выступили с инициативой организовать [городской] музей (Инт. 7). Можно говорить о преемственности покровительства градообразующего предприятия, так как современный музейно-выставочный центр существует под патронажем «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». В пресс-релизе на официальном сайте музея прямо указывается: «Музейно-выставочный центр является подарком городу и горожанам от ООО “ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь”» (Пресс-релиз). Хотя из текста не очень понятно, что именно является подарком горожанам - здание или его внутреннее наполнение. Но судя по тому, что куратором проекта являлась руководитель центра по информационному обеспечению и связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь Виктория Некрасова (Пресс-релиз), речь идет не только о здании. Одним из направлений деятельности музея с самого начала его существования становится коммеморация до-городской истории. Это было легко осуществимо, поскольку в момент открытия музея большинство первостроителей жили в Когалыме. Комплектование включало в себя не только сбор устных историй, но и фотографий, предметов быта и пр.: Второе направление было у нас связано с историей Когалыма как населенного пункта и с историей людей, которые участвовали, вложили свой труд в появление Когалыма и всей инфраструктуры, которая вокруг него есть. Ну и, соответственно, первой задачей было выявить имена тех, кто строил ещё железную дорогу и, собственно говоря, являлся основателем поселка, который возле Когалыма, где они первоначально проживали. Естественно, что тогда в восемьдесят девятом году фамилии этих людей хорошо помнили, но нам называли, к кому лучше обратиться. Да, они жили еще там и с большой охотой делились впечатлениями, которые у них были. Это были самые первые строители железной дороги и строители поселка (Инт. 7). Сейчас часть собранной коллекции представлена в музейной экспозиции (рис. 6): 110 (Не)потерянное десятилетие первопроходцев: глубина памяти [Мы] формировали коллекции, то есть договаривались, чтобы нам отдали какие-то предметы, которые были связаны с первым десантом, с самыми первыми поселенцами. И нам помню, тогда отдали предметы, которые были в столовой, то есть черпаки, ложки, еще что-то. И, по-моему, теперь в музее этот быт строителей железной дороги [представлен]. Вот часть предметов вошла в эту экспозицию» (Инт. 7). Рис. 6. Экспозиция в музейно-выставочном центре Когалыма «Палатка первопроходцев». Фото В. Клюевой. 2017 г. В начале 2000-х гг. к сбору воспоминаний активно подключаются «Первопроходцы Когалыма». Именно по их инициативе начинают выпускаться памятные буклеты и хронографы, сборники воспоминаний. В 2021 г. музей на своем сайте объявил конкурс личных историй «Мой Когалым». Целью конкурса заявлено создание информационной базы данных по истории и культуре Когалыма, основанной на личных историях проживающих в нем людей (Положение о проведении конкурса.). Кроме «Первопроходцев Когалыма» и городского музея, которые напрямую работают с сохранением и репрезентацией памяти, необходимо упомянуть «косвенных игроков» - акторов, которые, казалось бы, напрямую этим не занимаются, но также вносят свой вклад в коммемо-рацию. Прежде всего, это городские СМИ (газеты «Когалымский вестник» и «Нефтяник Западной Сибири») и архивный отдел администрации города Когалыма, в котором собраны коллекции документов, посвященных начальному этапу развития города. Для них поводом для обращения к до-городской истории становятся юбилейные даты или празднования Дня города. В марте 2016 г. архивный отдел организовал выставку «И город, и судьбы...», посвященную 40-летию высадки первого десанта на когалымскую землю. В этом же году «Нефтяник Западной Сибири» опубликовал статью на первой полосе: «Задержка на станции Когалымская» (Автономова 2016: 1, 5). В 2019 г. репортаж со 111 Вера Павловна Клюева Дня города включал сюжет о встрече первопроходцев у Камня Памяти. При этом в статье одновременно сосуществуют даты получения городского статуса города и высадки трудового десанта. «В этом году Кога-лыму исполнилось 34 года. Стоит отметить, что весной 2019 года исполнилось 43 года со дня высадки первого трудового десанта на ко-галымскую землю» (Миронова, Калугина 2019: 3). Своеобразной популяризацией начального этапа жизни города являются праздничные мероприятия, такие как, к примеру, «концерт, посвященный 45-летию высадки десанта первостроителей железной дороги “Сургут - Уренгой”» (Планида 2021: 3). По рассказам участников подобных праздничных мероприятий, в них регулярно включались музыкально-танцевальные композиции, связанные с историей города и нефтяной тематикой: Где-то есть эти люди, вот этот десант трудовой, который мы вечно изображаем в своих прекрасных постановках. Которые жили в палатках. У нас эту тему очень любят показывать, как пришли сюда первопроходцы. Поэтому эту тему я знаю исключительно по постановкам (Инт. 3). Инф.: Мы выступали [в начале 2000-х], нам шили специальную форму лукойловскую. Мы выступали на этих днях нефтяников. Инт.: Вы изображали маленьких нефтяников? Инф. И качалки эти танцевали. Что мы только не танцевали. И нефть из черной ткани [делали]... (Инт. 10). Вероятно, информанты вспоминают о театрализованных мероприятиях «Семидесятым гимн слагаю я годам!», посвящЕнного 30-летию Повховской нефти (2008-2009 гг.), и «Дорога, которой нет.», посвященного 35-летию первостроителей железной дороги Сургут-Уренгой (2011 г.). Ретро-тема как романтическое прошлое активно эксплуатируется на городских праздниках: Нам немножечко уже дурно от этого, но чем дальше, тем больше к этому возвращаемся, почему? Потому, что юбилеи вот эти празднуются, и все возвращаются к воспоминаниям этого ретро. И вот, получается, что мы, значит, мюзикл уже поставили свой здесь, то есть, и с палаткой, такой, как мы приезжали, как мы покоряли, как мы вот осваивали... (Инт. 9). Как видим, постепенно первые годы Когалыма включаются в общегородской исторический нарратив, и более того - происходит их мифологизация с обязательными элементами романтизации, героизации трудового подвига и преодоления трудностей. Заключение Для локаций с постоянной ротацией населения из-за невозможности формирования устойчивой коммуникативной памяти основной формой 112 (Не)потерянное десятилетие первопроходцев: глубина памяти передачи знания о прошлом становится культурная память. Важную роль в этом играют акторы памяти и их возможность/потребность включать воспоминания в городское публичное пространство и городской текст. Для наиболее активных акторов коммеморация догородской истории осуществляется с разной степенью интенсивности. Если для участников общества «Первопроходцы Когалыма» рассказ о 1970-1980-х гг. становится основным пунктом деятельности, то для городского музея - это одно из исследовательских направлений, которое может быть выигрышно представлено в экспозиции, наряду с этнографической составляющей. Главным актором памяти остается организация «Первопроходцы Когалыма», но ее деятельность во многом зависит от активности председателя: Только по каким-то причинам выедет Гаврилова из города, это вообще все будет потеряно, погибнет, абсолютно точно, потому что нет ни во властных структурах, ни в администрации города [заинтересованности]. Те люди, которые обязаны хранить эту культуру, эту память историческую в основном, заняты досуговыми мероприятиями» (Инт. 6). Память о до-городской истории Когалыма в настоящее время сочетает коммуникативную и материальную память. Есть памятники, которые маркируют территорию, существует музейная экспозиция, проводятся разнообразные мероприятия. Такие следы памяти требуют активного участия от горожан: необходимости прийти в музей или к закладному камню. Следов такой активности в собранных интервью не обнаруживается. Информантка, живущая сейчас в Санкт-Петербурге, признавалась: Вот если обо мне сказать - да, я не интересовалась историей. Просто вот... я не знаю, как на ладони [все видно]. Приехали, поставили вагончики, отсыпали дороги, это все видно Вот про Сургут можно многое узнать. Потому что там 400 лет и больше. А тут, ну сколько? 30 с хвостиком. Какая история может быть? Она еще только начинается. Если успеет продолжиться - успеет, если нефть будет (Инт. 1). Как видим, для нее история возникает только на длительном хронологическом периоде. Более того, знания отрывочны не только о городе, но и самом крае (Ханты-Мансийском округе или Сибири), где он находится. Работница культурной сферы Когалыма констатировала: К моему стыду, я ничего не знаю о крае. Ханты - да, у нас есть прекрасные, вот Вера Кондратьева из Югры, которая представляет Югру везде и повсюду. Потому что она коренной житель. Она сама по национальности хан-тыечка. А мы - нет. И я поняла, что я не знаю ничего о том месте, где я выр
Kalinin I. Petropoetics: The Oil Text in Post-Soviet Russia. Russian Literature since 1991. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Čepaitienė R., Kliueva V. Baltic labour migration to the North of West Siberia in the late Soviet period // Journal of Baltic Studies. 2021. Vol. 52. DOI: 10.1080/01629778.2021.1918734
Assmann J. Communicative and Cultural Memory // Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook / Astrid Erll, Ansgar Nünning (Hg.). Berlin; New York, 2008. Р. 109-118.
Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства М.: НЛО, 2013.
Эткинд А. Природа зла. Сырье и государство. М.: НЛО, 2020.
Сценарий празднования 15-летия Когалыма, машинопись, 2000 // Из личного архива автора.
Стась И.Н. От поселков к городам и обратно: история градостроительной политики в Ханты-Мансийском округе (1960 - начало 1990-х гг.). Сургут: Дефис, 2016.
Роджерс Д. Недра России. Власть, нефть и культура после социализма. СПб.: Academic Studies Press/БиблиоРоссика, 2021.
Пресс-релиз // Официальный сайт музейно-выставочного центра. URL: http://museumkogalym.ru/content/2
Положение о проведении конкурса «Мой Когалым» // Официальный сайт музейно выставочного центра. URL: http://museumkogalym.ru/my-kogalym
Петрушин А.А. Пароль «Когалым». Тюмень: ОЛМА-ПРЕСС, 2015.
Планида А. Юбилей высадки десанта первостроителей // Когалымский вестник. 2021. 28 мая. С. 3.
Орлова О.В. Нефть: дискурсивно-стилистическая эволюция медиаконцепта. Томск: ТомСувенир, 2012.
Описание ТПП «Когалымнефтегаз» // Сайт ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». URL: https://zs.lukoil.ru/ru/About/Structure/Kogalymneftegaz
Миронова Е. Калугина Е. Когалым отметил день рождения // Когалымский вестник. 2019. 30 авг. № 69. С. 3.
Куцев Г.Ф. Человек на Севере. М.: Политиздат, 1989.
Меерович М.Г., Конышева Е.В., Хмельницкий Д.С. Кладбище соцгородов: градостроительная политика в СССР (1928-1932 гг.). М.: РОСПЭН, 2011.
Крайний Север к 1934 г.: Сборник материалов по хозяйственному и культурному строительству. М.: Власть советов, 1934 (тип. ВЦИК).
Колосова О.Г. Особенности регулирования трудовых отношений на Севере // Проблемы современной экономики. 2011. № 3. С. 214-218.
Колева Г.Ю., Стась И.Н., Шорохова И.И. Становление индустриально-урбанистического общества на территории Тюменской области. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
Когалыму - 35: Как развивался наш город // Когалымский вестник. 2020. 25 сент. № 75. С. 5.
Колева Г.Ю. Строительство городов в районах нового промышленного освоения в 1960-1980-е годы // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2007. № 1. С. 237-243.
Клозе А., Штайнингер Б. Нефть. Атлас петромодерна. М.: Логос, 2021.
Клюева В., Чепайтене Р. «Малая Литва» посреди больших тюменских болот: репрезентации, память, наследие // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2019. № 3 (46). С. 34-48.
Калеменева Е.А. «Поворот к человеку» в проектах и практике урбанизации Крайнего Севера СССР в 1950-1960-е годы : дис. ... канд. ист. наук. М.: НИУ ВШЭ, 2019.
Из решения исполнительного комитета Сургутского районного совета депутатов трудящихся от 31.08.1976. № 122, № 123 // Календарь памятных дат города Когалыма на 2021 год. URL: http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/226/12_vn_2_21.pdf
Достопримечательности Когалыма // Официальный сайт органов местного самоуправления г. Когалым. URL: http://admkogalym.ru/city/dostoprimechatelnosti-kogalyma
Дашинамжилов О.Б. Городское население Западной Сибири в 1960-1980-е годы: Историко-демографическое исследование. Новосибирск: Наука, Изд-во СО РАН, 2018.
Гриценко В.Н. К вопросу о реальном возрасте города Надыма // Научный вестник ЯНАО. Обдория: история, культура, современность. 2016. № 3 (92). С. 77-82.
ГБУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 6860. Л. 65. План-схема Когалыма. 1983.
Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив Тюменской области» (ГБУТО ГАТО). Ф. 2124. Оп. 1-1. Д. 285. Социальный паспорт Когалыма. 1987.
Гаврилова Т.Г. От станции Когалымская до Жемчужины Западной Сибири // Хронограф продолжает действовать… 40 памятных лет города Когалыма. Когалым, 2018.
Воспоминания Гавриловой Т.Г. // Официальный сайт музейно-выставочного центра. URL: http://museumkogalym.ru/my-kogalym/memories/1769
Будущее российской арктической урбанизации. Интервью с Надеждой Замятиной. URL: https://ion.ranepa.ru/news/budushchee-rossiyskoy-arkticheskoy-urbanizatsiiintervyu-s-nadezhdoy-zamyatinoy/
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004.
Агапов М. «Здесь все нефтяники»: дискурсивно-символическое производство и оспаривание неравенства в северном моногороде // Антропологический форум. 2021. № 48. С. 144-178.
Автономова Е. Задержка на станции Когалымская // Нефтяник Западной Сибири. 2016. 28 марта. С. 1, 5.
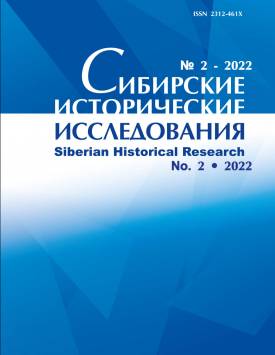

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью