Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
History of Predictions and Modeling the Future Under Uncertainty.pdf Неустойчивость границ между прошлым, настоящим и будущим горячо обсуждается в исторической теории начиная как минимум с «Нищеты историцизма» К. Поппера. Новый виток этой дискуссии связан с концептами «горизонта ожиданий» Р. Козеллека и презентизма Ф. Артога (Артог 2008; Йордхайм 2021), а также с полемикой о травме и памяти в разных культурах (Чеканцева 2020; Шнирельман 2021). Частью данной проблемы является и вопрос о релевантности прогнозирования - возможности продления существующих социально-экономических трендов и извлечения прагматических уроков из прошлого в условиях растущих скоростей, рисков и алармистских настроений первой четверти XXI в. Важно подчеркнуть, что обозначенная полемика имеет именно теоретический характер, поэтому вопросы ее соотнесения с уровнем прагматических социальных практик, востребованных среди представителей различных культур и сообществ, представляются весьма продуктивными. Как справедливо отмечает Мартин ван Кре-вельд в рецензируемой книге, «желание узнать будущее и способность заглянуть в него столь значимы в жизни каждого человека и человечества в целом, что трудно переоценить их значение. Предвкушение, предчувствие, предвидение, предугадывание, предсказание, прогноз -без них человеческая жизнь, какой мы ее знаем, совершенно невозможна. Без них невозможно поставить цели и начать выполнять их, невозможно предусмотреть последствия успеха или провала» (с. 6). Книга «Прозревая будущее» делится на две части. Первая посвящена «краткой истории предсказаний»: визионерству шаманов и религиозных пророков, оракулов и пифий, спиритуалистов и астрологов, адептов нумерологии и толкователей снов. Все эти культурные практики ван Кревельд рассматривает как попытку использовать sensus communis, или здравый смысл, для ориентации во времени -согласовании прошлого, настоящего и будущего. Сразу отмечу, что первая часть книги представляется откровенно слабой: автор стремится скорее развлечь аудиторию своей коллекцией ярких исторических при-208 Рецензии меров знамений и предсказаний, не сравнивая их в структурном или социально-антропологическом плане. Сибирские шаманы, герой греческих мифов Тиресий, японские слепые женщины-прорицательницы итако и болгарская предсказательница Ванга соседствуют на страницах первой главы, а различия отношения к предсказаниям в разных культурах не анализируются. Популярный характер книги здесь способствует предельному редуктивизму. Читателю остается лишь догадываться, что объединяет всех героев первой части (видимо) нивелирование исторического времени - его подчинение законам движения планет, воле рока или духов. Вторая часть книги, посвященная эпохе модерна и моделированию будущего в современном мире, показалась мне гораздо более интересной. Здесь речь идет не просто о влиянии секуляризации, развития науки и бюрократического управления на представления о будущем, но о переплетении философии истории (вольтеровской, гегельянской, марксистской диалектики и т.д.) с социальными практиками в сфере политэкономии, социологических исследований, военных игр или при построении математических моделей. Автор подчеркивает, что современные модели и представления о будущем имеют вероятностный характер и относятся не к отдельным людям, но к социальным группам. На этом фоне предсказатели, толкователи снов и спиритуалисты, отвечающие на индивидуальные вопросы о завтрашнем дне, по-прежнему пользуются популярностью. По данным ван Кревельда, в 1995 г. гороскопы печатали 70% американских ежедневных изданий; в Италии с момента кризиса 2008 г. число предсказателей выросло в 5 раз, и четверть населения регулярно обращалась к ним за советом, расходуя на это 8 млрд евро в год (с. 241). Структурной причиной этого спроса оказывается рост неопределенности в экономике и прекарность трудовых отношений, которые сознательно используются неолиберальным капитализмом, извлекающим дополнительную прибыль из рискованных инвестиций и их страхования. Вслед за известным немецким социологом В. Штриком напомню, что эта неолиберальная политэкономия имеет важное темпоральное измерение: прошлое рассматривается в ее рамках не просто как опыт, но как ресурс (дебет); а будущее - как объект инвестиций (кредит). При этом неолиберализм подчиняет и «темное» прошлое, и (рискованное) будущее господству настоящего (Штрик 2019). В рамках этой стратегии кризисы не столько преодолеваются, сколько генерируются крупными корпорациями ради увеличения стоимости своих акций, ослабления конкурентов и проведения структурных реформ, направленных на снижение собственных расходов и перекладывания их на государственные институты. Важно подчеркнуть, что неолиберализм представляет собой не просто экономическую доктрину или набор управ-209 Николаи Ф.В. История предсказаний и моделирование будущего ленческих стратегий, но язык описания социальной реальности и прогнозирования будущего в условиях неопределенности. Однако он, конечно же, не является единственным языком описания или стратегией управления этой неопределенностью, без которой современный мир невозможен. Использование самых разных культурных практик (начиная с гороскопов и заканчивая футурологией), пытающихся согласовать между собой прошлое, настоящее и будущее исходя из sensus communis, представляется неизбежным, и в этом ван Кревельд, как мне видится, совершенно прав. Но силовые поля и напряжения, конкуренция и нестыковки между разными языками описания и практиками прогнозирования совершенно не рассматриваются в его книге. Одной из наиболее успешных и перспективных практик прогнозирования ван Кревельд считает военные игры, которые отличаются от построения математических моделей конкуренцией участников и динамичным целеполаганием - концентрацией осознанных усилий для того, чтобы учесть и нивелировать успехи противника. Несмотря на доказанную в ХХ в. высокую эффективность, результаты этих игр сегодня слишком часто игнорируются и не принимаются в расчет политиками. Посвященный им раздел представляется одним из наиболее интересных и важных в книге, что далеко не случайно, поскольку значительная часть предыдущих работ ван Кревельда была посвящена именно трансформациям войны и военной стратегии в эпоху модерна (Кревельд 2005; Creveld 2007; Creveld 2013). Во всех своих книгах исследователь рассматривает стратегию как попытку спрогнозировать и повлиять на будущее в условиях неопределенности военных действий. Ключевым тезисом автора при этом становится мысль об исчезновении «старых» войн, ведущихся армиями суверенных государств и не затрагивающих мирное население напрямую, и распространении гибридных конфликтов низкой интенсивности: «Мое основное предположение состоит в том, что уже сегодня самые мощные вооруженные силы по большей части не годятся для современной войны. Их релевантность обратно пропорциональна техническому совершенству» (Кревельд 2005: 63). Военные игры и стратегия в принципе представляют собой попытку не столько преодолеть, сколько использовать неопределенность в своих целях: «Война ведется и должна вестись в том числе и путем задействования неопределенности» (Кревельд 2005: 171). Военная стратегия так же претендует на универсальность и подчинение всех сторон жизни, как и неолиберальный капитализм. Но если последователи М. Фридмана и Ф. Хайека делают ставку на максимальное извлечение прибыли, обещая рост уровня жизни высшего и среднего класса, то военная стратегия использует аффекты, эмоции и экзистенциальные переживания: «Война - это жизнь во всех ее проявлениях. Из всех существующих на земле видов деятельности только война одновременно 210 Рецензии и позволяет, и требует использовать с полной отдачей все человеческие качества - и самые благородные, и самые низкие. Жестокость и беспощадность, храбрость и решительность, чистая сила, которая с точки зрения стратегии необходима для того, чтобы вести вооруженный конфликт, - все это является одновременно его причиной» (Кревельд 2005: 337). В этом смысле война есть не продолжение политики другими средствами, как считал К. фон Клаузевиц, но самоцель, подчиняющая себе все остальные сферы жизни общества не менее сильно, чем неолиберальный капитализм. Как стало очевидно в 2022 г., сделанный в начале 1990-х гг. прогноз ван Кревельда об отмирании «старых» войн оправдался лишь в среднесрочной, но не в долгосрочной перспективе. Действительно, борьбу с терроризмом и асимметричные конфликты в 1990-2000-е гг. можно называть «новыми», гибридными или постгероическими войнами (Кал-дор 2019), но их вряд ли стоит рассматривать как замену прежних конфликтов. Скорее, можно говорить об их взаимодополнительности: суверенная власть и армейская дисциплина не исчезают в современном обществе неолиберального контроля, но лишь отходят в тень, не мешая развиваться более гибким управленческим и биополитическим практикам и используя их (подобно дронам или компьютерным симуляторам) в своих целях. Однако неолиберализм и военные стратегии используют разные языки описания неопределенности, и конфликт между ними во многом вызван различиями в интерпретации будущего. Если неолиберальный капитализм делает ставку на рискованные инвестиции для максимализации прибыли, то военные игры используют насильственную синхронизацию, размывая границы между обыденным и экстраординарным насилием, внешним противостоянием и внутренней политикой. Книга ван Кревельда представляется мне показательным примером внутренних противоречий современной популярной литературы: ориентируясь на интерес «широкой аудитории» к ярким историческим примерам и фактам, она слишком часто пренебрегает не только тщательным анализом источников, но и забывает о необходимости итоговых структурных выводов о сложности социально-политических и культурных процессов. И превращает науку в развлечение вместо того, чтобы попытаться заинтересовать аудиторию (возможно, не столь широкую) исследованием конкурирующих языков описания реальности и поиском модели их соотнесения, а не антагонистического противопоставления или эклектического перечисления.
| Николаи Федор Владимирович | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | старший научный сотрудник | fvnik@list.ru |
Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. 2008. № 3. С. 19-38
Йордхайм Х. Множественное время и стратификации истории // Логос. 2021. № 4 (143). С. 95-118.
Калдор М. Культура новых войн // Логос. 2019. № 3. С. 1-21.
Кревельд М. ван. Трансформация войны. М.: Альпина Бизнес Бук, 2005. 344 с.
Чеканцева З.А. Path dependence, политика времени и метаморфозы истории // Вестник Пермского университета. История. 2020. № 3. С. 5-16.
Шнирельман В.А. Травматическая память: подходы к изучению и интерпретации // Сибирские исторические исследования. 2021. № 2. С. 6-29. DOI: 10.17223/2312461X/32/1
Штрик В. Купленное время. Отсроченный кризис демократического капитализма / пер. с нем. И. Женина. М.: ИД ВШЭ, 2019.
Creveld M. van. The Changing Face of War: Combat from the Marne to Iraq. N.Y.: Presidio Press, 2007.
Creveld M. van. Wargames: From Gladiators to Gigabytes. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
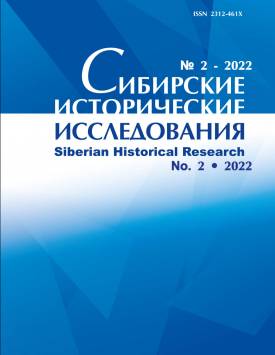

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью