Вдалеке от туристических маршрутов и официального ислама на мусульманских святых местах (мазарах) сохраняется ритуальное наследие религиозных систем прошлого. К регионам с богатой синкретической традицией локальных верований и практик с уверенностью можно отнести современный Хорезм. Его относительная изоляция от остальной части Центральной Азии способствовала формированию своеобразия культуры. Такого рода островком местной религиозной культуры остается хорезмский мазар Уллу-пир, предлагающий антропологу удивительную возможность зафиксировать и изучить загадочный мир крупного сакрального объекта. Пройдя вместе с паломниками по одному из крупнейших религиозных центров региона и заглянув за алтарь производства семантически разных «услуг спасения», мы сможем приблизиться к разгадке тайны святых мест. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Khorezmian “Tropics”: The Anthropology of the Ullu-Pir Mazar.pdf Давайте предположим, что, возвратившись из тропиков, антропология стала занимать трижды симметричную позицию: она объясняет истины и заблуждения в одних и тех же терминах - это первый принцип симметрии; она изучает одновременно порождение людей и нечеловеков - это принцип генерализованной симметрии; наконец, она занимает промежуточное позицию, располагаясь между традиционными и новыми территориями, поскольку воздерживается от всякого утверждения относительно того, что отличает западных людей от Других. (Латур 2006: 177-178) Мазар в контексте социологии Б. Латура Начиная с 2015 г. с завидной для любого этнографа регулярностью мне удается проводить полевые выезды в Узбекистан. С каждой новой поездкой растет круг общения, а вместе с ним - все большее погружение во внутреннюю жизнь мазара2 Уллу-пир («Великий пир») и кишлака Бешмерген («Пять охотников») Хорезмской области Республики Узбекистан. Поле открывалось очень медленно, мешала настороженность местных жителей в отношении вопросов, связанных с религией. На пользу всем пришел 2016 г., который принес некоторые послабления в религиозной сфере3. Изменений было не так много, поле религии продолжало терять автономию от поля власти, но в целом люди стали более открыты на радость исследователю. Мои информанты становились друзьями, и наши встречи теперь проходят не только в кишлаке или на мазаре, но и в путешествиях по республике. Количество часов, проведенных в неструктурированных и полуструктурированных беседах, сложно поддаются подсчетам. В данной работе мне хотелось бы предложить и обосновать выбор принципиально другого теоретического подхода, способного, по моему мнению, расширить понимание такого распространенного в Центральной Азии социокультурного феномена, как культ святых в исламе4 (культ аулийа Аллах5), в рамках которого принято рассматривать своеобразие местных религиозных традиций, проявляющихся в ритуальных 49 Игорь Александрович Панков практиках на мазарах. В отличие от привычных способов изучения феномена культа святых и его академических репрезентаций, я предприму попытку заново переосмыслить накопленный материал и попробовать осуществить так называемую латуровскую «пересборку социального» (Латур 2020). Некоторые шаги в этом направлении были сделаны в предыдущих работах (Панков 2015, 2018), а именно начато изучение структуры социального пространства мазара, своего рода - предтечи акторной сети. В первой из них, следуя привычной для советской этнографии методологии, исследуемый объект рассматривался как социокультурный феномен в структуре из трех элементов: непосредственно сам объект поклонения - могила святого, легенды и притчи о святом и святом месте и комплекс ритуалов и практик, включая целительство. Собранные материалы убедительно показали хорезмские особенности элементов культа святых в исламе. На следующем этапе был предпринят анализ социального пространство мазара, а именно сети агентов - людей, занятых в производстве «услуг спасения», - основного продукта святых мест. Мы познакомились с теми, кто оказывает непосредственное влияние на воссоздание и трансформацию элементов культа. С помощью инструментария теории социального поля П. Бурдье я попытался найти скрытые силы, влияющие на динамику культа святых на мазаре Уллу-пир. Понятие капитала6 и его модусы помогли мне связать происходящие изменения в структуре культа святых с мотивами акторов (Бурдье 2007), чье участие в иеротопии7 святилища оставалось за кулисами. В итоге, как мне кажется, удалось значительно продвинуться в раскрытии дверей «тайных комнат» и продемонстрировать ограниченность подходов, в первую очередь, советских этнографов, исключающих социальные аспекты исследуемого феномена. Однако осталось много загадок относительно «внутренней кухни» мазара, связанного с его основной деятельностью - процессом производства «услуг и продуктов спасения», а также генезиса и природы целительского дара ключевых акторов, что стало отправной точкой для дальнейших поисков. Основная же идея данной работы заключается в том, чтобы представить мазар как своего рода научную лабораторию по производству знаний, только в роли ученых, конкурирующих в создании научных истин, в нашу сеть включены религиозные специалисты, соперничающие в производстве и продвижении знаний о мире (способов видения мира) и соответствующих этому видению «услуг и продуктов спасения». Следуя за Б. Латуром, охарактеризовавшим науку как «отчаянную борьбу за конструирование реальности», мазар может быть исследован с позиции симметричной антропологии8, которая подразумевает выявление явных или скрытых коммуникативных сетей, с участием в них на равных правах «человеков» и «нечеловеков» (Латур 2006). 50 Хорезмские «тропики»: антропология мазара Уллу-пир По Б. Латуру сеть в акторно-сетевой теории понимается как связанный ряд действий, каждый участник которых, рассматривается как полноценный посредник (актор/актант), который влияет на затрагивающие его процессы (Латур 2020: 181), поэтому сетевое взаимодействие подразумевает участие людей наравне с другими сущностями или вещами9. Принцип репрезентации результатов исследования, которому я буду придерживаться в этой работе, заключается в описании паломничества (зийарат) на мазар Уллу-пир. По мере продвижения по сакральным объектам комплекса - могилам святых, нам будут представлены религиозные специалисты, предлагающие различные «услуги спасения». Каждый специалист - звено коммуникативной сети - посредник в передаче определенного учения или практики, способный не только транслировать ее своим потребителям, но и адаптировать ее к меняющимся социально-политическим условиям (Латур 2006). Посредник часто выступает в связке с другой сетью, образующейся при участии круга помощников, выполняющих разные функции, неустанно трудящихся над производством определенного «продукта спасения». В роли посредника в сетевом взаимодействии также выступает паломник. Он не просто наблюдатель, но и активный участник модификации сети. Его роль в трансформации элементов культа святых мазара и появлении новых участников сети - новых святых на мазаре, подтверждается историей возникновения пантеона святых мазара. Обращение к латуровской методологии исследования лабораторных практик при изучении мира сакрального объекта (мазара) и его репрезентации, пускай даже в незначительном объеме, позволяет нам увидеть целостность в том, что раньше выглядело как набор несвязанных явлений, и испытать своего рода фасцинацию от нахождения в пространстве партиципации. В дополнение к этнографичекому описанию практики и роли ее актора в коммуникативной сети значительное внимание будет уделено прошлому мазара и генеалогии религиозных специалистов. Немногочисленные источники, в основном устное наследие, помогут нам сформировать образ мазара в недавнем прошлом, но только в том необходимом и достаточном для понимания современного состояния мазара, его социального пространства и культовых практик объеме. Хорезмский мазар Уллу-пир Хорезмский оазис находится в низовьях крупнейшей водной артерии Центральной Азии - реки Амударьи - и является одним из самых древних центров оседлой земледельческой культуры с мощной ирригационной системой. «Хорезм выступает перед нами в X-XII вв. как естественный центр тяготения кочевых племен, как форпост передне-51 Игорь Александрович Панков азиатской мусульманской цивилизации в гузской и кыпчакской степи. Города Хорезма ведут торговые операции со степью» (Толстов 1948: 14). Во многом вследствие особого географического положения в окруженном пустынями Хорезме сформировались оригинальные культурные формы, дошедшие до наших дней в большинстве своем в виде легенд и преданий, но иногда - в виде живой традиции. Одной из популярных вернакулярных практик, с которой вы наверняка встретитесь на святых местах Хорезма, будет целительство душевных расстройств и болезней. Еще в советский период проведения хорезмской историко-этнографической экспедиции (1937-1991) известный советский этнограф Г.Н. Снесарев отмечал в своих отчетах, что «в аспекте домусульманских генетических связей, пожалуй, нигде в Центральной Азии, кроме Хорезма, столь тесно не переплетался культ святых с шаманством. Шаманские приемы “лечения” - изгнание злых духов из тела больного - процветали и раньше на многих мазарах святых, и занимались этим шейхи (шихи)10 - хранители гробниц. Чаще всего объектами подобного “лечения” являлись душевнобольные люди. Шейхи мазаров изгоняли духов при помощи весьма нешуточного избиения больного плетью. Что касается местного шаманства, то в качестве покровителей и помощников шамана наряду с духами здесь постоянно фигурируют хорезмские святые» (Снесарев 1983: 37). В наше время, кроме известных работников мазаров - шихов, к помощи святых в своих практиках прибегают фолбины (кадалки/шаманки) и табибы (целители), действующие, как правило, нелегально, но при негласном одобрении со стороны властей. Среди хорезмских святых главная роль в лечении джинни (хорезм. джилли) (обуреваемых джиннами, душевнобольных, дураков) отведена известному центральноазиатскому святому суфийскому подвижнику Йусуфу Хамадани11, одно из мест поклонения которому находится на мазаре Уллу-пир в Хорезмской области Узбекистана. В лечении психических расстройств и заболеваний ему в Хорезме равных не было и нет. Его агиология является итогом длительного исторического пути и одной из самых оригинальных в регионе. Наиболее древний пласт агиологии связан с народными верованиями, существовавшими еще до возникновения ислама. Легенды и предания о чудодейственных способностях святого притягивали и притягивают к мазару паломников в поисках исцеления. Таким образом, мазар Уллу-пир стал своего рода «специализированной лечебницей», известной к тому же своим достаточно оригинальными методами лечения. Сведения о прошлом мазара в письменных источниках практически отсутствуют. Небольшая заметка есть у Г.П. Снесарева. Вот как он описывает облик мазара в 1949 г.: «Довольно примитивное каркасное сооружение с глиняной обмазкой типа жилого дома, с плоской кровлей, 52 Хорезмские «тропики»: антропология мазара Уллу-пир лишенной купольного перекрытия. К задней стене мазара приставлены гигантские туги - ритуальные знамена; большинство из них представляли собой срубленные под корень стволы тополей с прикрепленными полотнищами флагов, опутанными обетными тряпочками - дарами паломниц. Мазар находился в пустынном месте, рядом - кладбище, поодаль - кишлак, где проживали шихи» (Снесарев 1983: 115). С обретением независимости Республики Узбекистан мазары не только начинают возрождаться, но и становиться объектами изучения антропологов. Доступ к полю получают западные исследователи. Ситуация, возникшая в процессе реконструкции и институционализации деятельности на мазаре Уллу-пир, в начале 2000-х гг. нашла свое отражение в исследовании Кристины Кехл-Бодроги (Kehl-Bodrogi 2006). Более подробно об элемен -тах повседневной религиозности в Хорезме, о местных формах ислама, включая ритуальную деятельность, о паломничестве к мазарам авлийа ’ и различных видах целительских практик автор останавливается в монографии «Религия здесь не так сильна: религиозная жизнь мусульман в Хорезме после социализма» (Kehl-Bodrogi 2008). Мазар в Хорезме, о котором идет речь, начиная с 1994 г. официально называется зийаратгох Йусуфа Хамадани, но в народе больше распространено другое название - Уллу-пир или иногда Катта-пир («Большой пир»). Кишлак Бешмерген, с которым граничит мазар, находится в 20 км от города Ургенча по дороге в районный центр Ша-ват. Из Ургенча до кишлака можно доехать на автобусе, но если вы нездоровы и ищете помощи в лечении душевных недугов, то скорее всего вас повезет сюда на машине кто-то из родных. Другой способ и наиболее подходящий для совершения паломничества с целью испросить у святых мазара помощи - это дойти пешком, даже если придется заночевать в дороге. Святому особенно «нравится», когда вы совершаете усилия на пути к исцелению. Проехав указатель с названием кишлака, вы увидите с левой стороны дороги рынок, на который в среду съезжаются из всех окрестных кишлаков торговцы и покупатели. В эти дни здесь стоит громкий рев и блеяние, идет бойкая торговля скотом. Возле рынка остановка автобуса, и следом за ней вход на территорию зийаратгох Йусуфа Хамадани, по крайней мере так написано над входным порталом. Перед входом раскинулись палатки и лотки с соответствующими нашему времени товарами для паломников, в большинстве своем китайского производства, за исключением разве что книг религиозного содержания и травы исрык (рис. 1) для окуривания помещений и ряда других традиционных практик. Однако, пройдя дальше ко входу на ма-зар, вы обнаружите его закрытым, весь проход завален кусками шифера. Реконструкция комплекса так и не была завершена по причине остановки финансирования (декабрь 2021). 53 Игорь Александрович Панков Рис. 1. Продавщица сушеной травы исрык при входе на мазар Уллу-пир. Фотография автора, май 2015 г. Одноэтажные здания из желтого селикатного кирпича, которые вы увидели за входным порталом, были до недавнего времени внушительной по местным меркам гостиницей (мехмонхона) и предназначались для проживания паломников, но в первую очередь для людей с психическими отклонениями, которых привозили сюда в надежде на исцеление. Иногда здесь собиралось до трехсот «постояльцев», проходивших курс так называемого лечения «святым местом». Комплекс12, включавший гостиницу, был самостоятельной организацией с отдельной от зийаратгох администрацией. Гостиница была закрыта в 2011 г., и вместе с ее закрытием был перенесен центральный вход на мазар. Причиной закрытия послужило постепенное превращение гостинцы в любимое место маргиналов всех мастей: его облюбовали наркозависимые и сексработницы. Здесь же принимали своих клиентов фолбины (гадал-ки/шаманки), экстрасенсы и целители, потерявшие свои права на легитимную деятельность в 1998 г. с принятием поправок к закону «о свободе совести и религиозных организаций». Архитектуру входного портала вряд ли можно отнести к традиционной. Попытка придать порталу современный вид с национальным колоритом обернулась явным фиаско - аляповатый, в «рыцарском стиле» входной портал встречает сегодня каждого проезжающего мимо Бешмергена. За воротами вы увидите заброшенное пространство. Длинная аллея, по сторонам которой несколько пустых одноэтажных 54 Хорезмские «тропики»: антропология мазара Уллу-пир длинных строений, заканчивается зданием мечети. Мечеть действующая. На джума-намаз собирается около 200 человек, народ в кишлаке (в Бешмергене проживает около 3 ты. человек) не очень соблюдающий, хотя последнее время все больше местных «встают на намаз». Мазар после предпринятой в 1994 г. реконструкции перешел в подчинение Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) и официально называется зийаратгох Йусуфа Хамадани. Провинциальный в прошлом мазар превратился в сакральный культовый комплекс регионального значения. Масштабная по местным меркам реконструкция мазара, по мнению антрополога Кристины Кехл-Бодроги, проводившей полевые исследования в 2005 г., вызвана стремлением местных властей создать фокус региональной идентичности, который в силу своего символического значения для националистического дискурса способен конкурировать с главными местами поклонения других регионов (Kehl-Bodrogi 2006: 247). Однако не всем это нравится, как говорит одна из наших собеседниц: «Хаким Маркс Джуманиязов, глава области, в 1994 г. поднял и организовал зияратгох. Народ был против того, чтобы он открыл гостиницы на зияратгохе». По ее мнению, простой капитальный ремонт мазара был бы достаточен, чтобы удовлетворить чаяния верующих, все остальное - политика [Инф. 3]13. «В 2004 г. на мазаре работали одиннадцать сотрудников: имам и его заместитель, четыре муллы, муэдзин (призывающий на молитву), бухгалтеры, садовник, повара и мясник. Зийаратгох функционировал как полноценное средних размеров предприятие. Часть вырученных денег должна быть выплачена ДУМУ, а остальная часть остается для оплаты труда сотрудников, на содержание мазара и благотворительные цели» (Kehl-Bodrogi 2006: 243). Когда святыня в 1994 г. была восстановлена и передана в управление ДУМУ, хранители мазара - шихи были сначала интегрированы в новую официальную структуру и получили долю от пожертвований, но со временем шихов постепенно заменили муллы, пользующиеся доверием имама. Процесс сопровождался непрекращающимися конфликтами и жалобами со стороны сотрудников зийаратгох в районное управление ДУМУ, которое вынуждено было поменять имама в 2005 г. Новый имам неоднократно обращался к властям, чтобы выставить шихов с мазара из-за их навязчивого и вредного влияния на паломников, однако ему было поручено «не вмешиваться в их деятельность, поскольку наказывать грешников - задача Бога» (Там же). Тем не менее противостояние шихов и имама, как представителя ДУМУ, хотя и закончилось победой нового руководства зийаратгох Йусуфа Хамадани, потомки шихов по-прежнему сохраняют исторически сложившиеся позиции в управлении и держат в своих руках народные способы лечения, которым славится на весь Хорезм бешмергенский мазар. 55 Игорь Александрович Панков Зийарат на мазаре Уллу-пир Если вы впервые приехали совершить зийарат (паломничество), то вам подскажут, что вход на пир (место, где похоронен святой) находится с противоположной стороны, но при этом объяснят, что начинать зийарат предписывается с посещения пира Жиловдор-бобо и других пиров - помощников Йусуфа Хамадани, мазар которых находится невдалеке, на другой стороне дороги, и только потом переезжать на зийаратгох ходжи Йусуфа Хамадани и других аулийа паломнического комплекса. Итак, ваш зийарат начинается. Вам предстоит последовательно обойти всех аулийа на первом мазаре, и только после этого можно совершить полноценное паломничество к главному сакральному объекту - мазару Йусуфу Хамадани. Согласно легенде, святые первого маза-ра были помощниками знаменитого подвижника ислама и повсеместно сопровождали его в странствиях. Каждый из них играл свою определенную роль: Жиловдор-бобо заботился о коне Йусуфа Хамадани (узб. жилов - «водит коня», дор - «рабочий»), Дасторхончи-бобо отвечал за пропитание, Чирокчи-бобо был ответственным за освещение, в обязанности Хорозмончи-бобо входила выпечка хлеба. Ходжа Йусуф Хама-дани завещал похоронить Жиловдора-бобо возле него, так как он очень любил и уважал своего помощника. Теперь и у вас появилась прекрасная возможность обратиться к святым помощникам и наконец-то разрешить свои насущные потребности. Для этого здесь рядом с мазарами святых помощников сидит штатный мулла. Вместе с другими паломниками вы первым делом идете к нему. Мулла читает Коран и делает дуа (пожелания), чтобы ваши просьбы принял Аллах, а святые выступили в этом деле посредниками и лишний раз замолвили за вас слово перед Всевышним. После молитвы муллы отдельные паломники остаются и молятся уже без посредников, прося заступничества непосредственно у святого, хотя знают прекрасно, что молиться можно только Аллаху. Для большей уверенности многие пытаются умилостивить святых, совершив нехитрые магические приемы: по долгу сидят у могилы, прижавшись к ней лбом; могут несколько раз обойти могилу по кругу, оставляют на могиле как садака14 (милостыню) деньги или продукты, которые потом «странным образом» исчезают. После посещения макбары (мавзолея) Жиловдора-бобо и других сподвижников шейха Йусуфа и отдав им почести, вам следует пройти немного вперед и повернуть налево. В конце этого пути можно обнаружить усыпальницу еще одного вали. Это маленькая макбара вали по имени Очувчи-бобо, того, кто «открывает дорогу» для любого рода начинаний и дел. В его обязанности также входит оберегать людей от злых духов и исцелять одержимых джинном. 56 Хорезмские «тропики»: антропология мазара Уллу-пир В первый же визит на мазар Жиловдор-бобо мне повезло встретить в этом дальнем углу среди небольшой рощи плачущих гуджум15 в месте поклонения Очувчи-бобо двух женщин. Они сидели на корточках и, наклоняясь к горящей чра (лампадке), наговаривали религиозные формулы-тексты, состоящие из сур Корана и дуа. По окончании обряда мне удалось расспросить их о целях и особенностях выполняемого обряда. Женщины планировали ехать на заработки в Москву, в связи с чем решили заручиться поддержкой Очувчи-бобо. На этом мазаре в роли посредника-медиума между паломником и Очувчи-бобо выступает фолбин Г., к ней, по совету знакомых, они и обратились за помощью в решении своих насущных проблем. За небольшое вознаграждение фолбин наделила их необходимыми инструкциями и религиозным заданием, учитывающим запрос к святому. Нужно зажечь лампадку, спалить немного хлопка, произнести суры Корана, совершить дуа и верить в поддержку святого Очувчи-бобо. Совершив обряд, женщины ожидают, что святой «откроет им дорогу» и сделает их новое предприятие успешным. В отношении Очувчи-бобо нам дал объяснение один из уважаемых жителей кишлака: «Его усыпальницы в окрестностях Бешмергена никогда не было, и такого помощника у Йусуфа Хамадани не существовало. Макбару Очувчи-бобо построила фолбин Г. в 2007 г., после того как стала работать на мазаре “помощников”, чтобы деньги зарабатывать» [Инф. 1]16. Действительно, как объясняет советский этнограф О. А. Сухарева, одним из путей возникновения «мнимых» могил являлись прорицания многочисленных гадалок, к которым, по обычаю, обращались при заболеваниях, чтобы узнать причину болезни: «...часто гадалка говорила, что могила святого, вызвавшего болезнь, до сих пор неизвестна, но духи указали ей, где она находится, и святой требует, чтобы это место стало мазаром. Тогда на указанном месте приносилась жертва и воздвигался шест, на который вешали лоскуток ткани. Если после совершения обряда больной выздоравливал, то вера в новый мазар укреплялась, к нему шли за исцелением и другие» (Сухарева 1960: 37). Дальнейшее развитие мазара чаще всего было связано с предпринимательской деятельностью кого-то из местных. «Нередко находился человек, который, смекнув, что из нового мазара можно извлечь выгоду, строил над воображаемой могилой небольшой навес или макбару, старательно поддерживал у окружающих веру в этот мазар и получал от него доход» (Там же). Интересно, что отсутствие действительной могилы вали никак не влияет веру в чудодейственную силу в святого и святое место. Нормальным считается также перенос мощей святого и воссоздание его мазара на новом месте. Так, на первом мазаре появилась макбара Дастарханчи-бобо, ее здесь раньше не было. Она находилась невдалеке от центрального входа на зийаратгох Йусуфа Хамадани. Оказывается, 57 Игорь Александрович Панков по преданиям, в советское время во время колхозов это место распахали под сельскохозяйственные культуры, но ничего не росло, кроме необычного вида камышей, поэтому сажать перестали. Затем Уразбай-шихом на деньги какой-то певицы (якобы, по утверждению местного аксакала, Анны Герман, она родом из Ургенча) была построена макба-ра Дастарханчи-бобо. Позже, рассказывают местные жители, останки («кто знает, чьи это кости?») с этого места были перенесены на мазар «помощников» [Инф. 1]. Рождение нового мазара, выбор святого, его функций и свод преданий о нем вполне согласуются с текущими потребностями клиентов фолбин, как правило женщин. Мужчины - редкие гости у фолбин, мужская религиозность чаще проявляется в рамках нормативных религиозных предписаний, включая регламентированные инструкциями ритуальные действия, совершаемые в мазарах святых. Поэтому выбор «открывателя дороги» Очувчи-бобо в данном случае оправдан прагматичными целями. Причин и поводов обратиться к фолбину предостаточно, особенно в наше время, которое принесло массу вызовов для привычного уклада хорезмского кишлака. Связаны они по большей части с трудовой миграцией в Россию. Муж пропадает годами на заработках, и у оставшейся дома жены нет привычной поддержки. Возникает тревога за семью, а в случае планируемой миграции женщин возникает неопределенность будущего и желание прибегнуть к чей-то помощи. Таким образом, рост социального неблагополучия, вызванного трудовой миграцией и особенно феминизацией трудовой миграции, побуждает женщин к обращению за помощью к фолбин. Столкнувшись с вызовами современной жизни, женщина призывает на помощь практики, концептуально связанные с прошлым, с торжеством традиции, стабильности и покоя. С фигурой фолбин связан комплекс народных религиозномагических практик, имеющих широкий спектр функционального значения - от целительства и гадания до оградительной и вредоносной магии. Более того, как бы объяснил советский этнограф, в этих обрядах ислам занимает далеко не главенствующую роль. Большинство культовых актов, входящих в обрядовые комплексы, предлагаемые к практике фолбин, соотносятся с домусульманскими культами и религиями, хотя сама фолбин представляет их исламскими. Деятельность религиозных специалистов начинает быть заметным явлением сразу после обретения суверенитета Узбекистаном в 1991 г. с принятием закона «О свободе совести и религиозных организациях», который легитимировал деятельность фолбин. По воспоминаниям местных жителей, в этот период различного рода колдуны, шаманы и знахари буквально окружали стены мазара [Инф. 2]17. Посвящение в фолбин Г. получила от двух туркменских шаманок, появившихся в ки-58 Хорезмские «тропики»: антропология мазара Уллу-пир шлаке в те времена, и начала свою деятельность. Постепенно власть начинает наводить порядок в структуре поля религии и ограничивает деятельность колдунов, экстрасенсов и фолбин. Так, в 1998 г. в закон18 вносятся поправки, существенно ограничивающие любую прозелити-ческую деятельность, что позволило значительно сократить конкурирующую с легитимной доктриной религиозную активность. С этих пор поле религии начинает выстраиваться в интересах государства, что постепенно отражается в доминировании официального исламского дискурса, который относил местные религиозные традиции к еретическим и стигматизировал их. Как следствие, на мазаре начинают говорить о фолбин, что «они (фолбин) идут дорогой шайтана», «что шайтан скажет, то они и будут делать», «они считают себя выше Аллаха и не думают про Аллаха» [Инф. 6]19. Изгнание духов/джиннов (экзорцизм) - еще один из популярных видов деятельности фолбин. Духи не случайно переехали сюда. В этой части мазара все располагает для их комфортной жизни: есть проводник-медиум в мир людей, уютный уголок на кладбище и удобное место для атаки на проходящих мимо паломников. И действительно, если вы пришли к Очувчи-бобо и внимательно осмотритесь по сторонам, то обнаружите некоторые специфические черты этого места. Во-первых, оно самое удаленное от входа, за стеной - кладбище, в тени ветвистых деревьев и рядом проходит ров с водой. Место тихое, в окружении небольшого лесного массива, дальше - фермерские угодья. Все признаки, подходящие для проведения ритуалов и коммуникации с духами. «Местами обитания джиннов считались заброшенные кишлаки и дома, разрушенные мечети, кладбища, высохшие русла каналов, чигирные ямы. Особенно много собирается джинов там, где лежит ишачий и конский навоз - здесь они “прямо копошатся”» (Снесарев 1969: 26). В завершении, в самом дальнем углу мазара, вы увидите дверь в стене. Если заглянуть, то за ней будет виден маленький участок за оградой кладбища с таким же маленьким подсобным помещением. В этом месте, со слов местных, закалывают жертвенных животных, петуха или курицу, принесенных клиентами. Однако расспросить фолбин про ритуал изгнания джиннов, его структуру и семантику мне не удалось. Работая в полулегальной части религиозного поля, она вынуждена скрывать от посторонних подробности обряда. Зато мне в этом помог другой народный целитель и специалист по экзорцизму М., назвавшая себя белым фолбин. «Когда человек придет, мои “дедушки” подсказывают, что внутри него плохой черный джинн. Если джинна нет, то я отправляю в больницу, мне дедушки так советуют. Но я и сама вижу джиннов. Они могут быть в виде черной змеи, волка, барана или коровы, но всегда черные. Вот когда человек приносит черную курицу, я прямо напротив него режу и даю съесть 59 Игорь Александрович Панков сердце, потом накрываю его белой простыней, капаю на нее кровь курицы и читаю Коран. Джинн тогда выселяется и уходит. А те фолбин, которые черные, читают черные книги. Они держат джинни на цепи в чилля-хона (узб. “келья для уединения”) и берут много денег. Плохо держать человека так долго на цепи, Аллах накажет за это» [Инф. 4]20. У В. Басилова мы находим все тот же способ изгнания зловредных джиннов: «...надо зарезать рядом с больной живую курицу и сразу же отнести ее на святое место. Кровь - лакомство духов. Они собираются к окровавленной курице и вместе с ней уходят от больного» (Басилов 1984: 206). Хорезмские фолбин демонстрируют не только разные приемы, но и средства культовой деятельности, о чем подробно пишет в ставшей хрестоматийной книге по шаманизму «Избранники духов» В.Н. Басилов: «У шаманов и шаманок разные духи-помощники, неодинаковые приемы гадания и лечения. Вместо бубна, а то и наряду с ним употребляются ритуальные предметы: плеть, сито, деревянная разливательная ложка, посох, зеркало, чаша с водой» (Басилов 1984: 206)21. Тем не менее при всем многообразии артефактов, применяемых в обрядах экзорцизма, постоянными атрибутами хорезмских экзорцистов остаются 22 книга и жертвоприношение . Фолбин М. довольно часто ездит на мазар Йусуфа Хамадани и другие святые места. Потребность в поддержке своего целительского дара со стороны святых и духов зовет ее в паломничество. Одно из таких мест ее особенно привлекает. На этом мазаре вдалеке от шумных туристических троп вот уже около ста лет живут пери23 Старой Хивы, покинувшие город с наступлением советской власти. Она хотя бы раз в год ездит к ним и пообещала меня в следующий раз отвезти к своим покровителям. Если джинны считаются причиной болезней и прочих несчастий, то пари ничуть на них не похожи. Пари не только нейтральны, но скорее даже благожелательны по отношению к людям. Они вступают с людьми в близкие, иногда даже интимные отношения (Снесарев 1972). Паломничество на первый мазар к пирам-помощникам и получение «продуктов спасения» у фолбин и ее «коллег» подошли к концу. Следуя за паломниками, мы перемещаемся на центральную часть сакрального комплекса - источник благодати (бараки) и исцеления (шифа ‘) - мазар Йусуфа Хамадани. •к к к Объехав комплекс вдоль внушительной стены, воздвигнутой по границам кладбища (кабрстана), вы окажетесь у другого входного портала (айвана) зийаратгох Йусуфа Хамадани. Около него организована 60 Хорезмские «тропики»: антропология мазара Уллу-пир парковка, где можно оставить машину. Перед входом справа вы увидите обязательное для посещения паломниками место для ритуального омовения (тахоратхона). В айван встроены несколько помещений для администрации мазара. При входе на территорию, так же как и на первом мазаре, паломников встречает мулла. Зийарат начинается с чтения сур священного Корана и дуа. Мулла обращается к Аллаху с просьбой принять ваш зийарат, а вы, по желанию, должны сделать небольшое пожертвование. Далее вы пройдете к колодцу со святой водой, сидящий здесь мулла расскажет вам, что источник имеет непосредственную связь с мекканским зам-зам (источник на территории мечети ал-харам), не забыв при этом предложить почитать Коран и сделать дуа, а с вас получить пожертвование. И вот вы уже напротив мавзолея (макбары) святых мазара, центральных фигур в истории исламского мистицизма: Йусуфа Хамадани (1048-1149), Абд ал-Кадира Гилани (1078-1166) и Сайида Али Хамадани (1314-1384), загадочным образом вместе оказавшихся в этих краях. Сняв обувь перед входом и наклонившись, вы вступаете в святая святых сакрального комплекса - макбару главных святых мазара. Внутри вас встречает мулла. В один из первых своих визитов я застал здесь служащим муллой главу рода бешмергенских шихов Урузбай-шиха, самого известного в округе целителя и гонителя джиннов. Исцеление (шифа‘) на мазаре Уллу-пир Если вы не обычный паломник, а приехали на лечение, например вы - буйный, одержимый (джинни/джилли), или, как здесь говорят, джинникакты («ударенный джинном»), то вас скорее всего сопровождает кто-то из родственников, возможно не один. Скорее всего, ваши родные уже договорились с кем-то из местных о помощи с организацией кельи для лечения (чилля-хана). Вероятнее всего, они связались напрямую с Хамра-шихом, сыном Урузбай-шиха, который наследует от отца эту функцию. Он вам даст все необходимые инструкции, хотя во-обще-то здесь, на пире, и в кишлаке с этим нет никаких проблем. Любой, начиная от муллы на мазаре и заканчивая местным кишлачником, сможет вам объяснить, что делать. Невзирая на частую смену отношения власти к народным способам лечения душевных болезней, доходящих в некоторые периоды до полного запрета и репрессий, вам всегда помогут найти место для «восстановления душевного здоровья» за небольшую арендную плату. Со слов аксакала махали Бешмергена, шихи всегда сидели на мазаре. Покровительствовавший мазару хивинский хан легитимировал деятельность шихов, выдав каждому из пяти разрешение служить шихом на Уллу-пир. Среди них был предок дед Уразбай-шиха - Пирджан-ших, 61 Игорь Александрович Панков других звали Малля-ших, Аваз-ших, Каландар-ших, Ходжанияз-ших. Все пять шихов по очереди работали на мазаре, поддерживали порядок, требовали соблюдения правил поведения и инструктировали паломников по части ритуальной практики. Когда люди приезжали делать сада-ка, то они руководили процессом. В их обязанности входила также организация всех необходимых для исцеления процедур: они выдавали и надевали одержимым кандалы, указывали, где рыть чилля-хона или, если состояние психического больного было спокойным, у кого в доме можно было бы остановиться на период лечения [Инф. 1]. С приходом советской власти шихи вынуждены были начать работать в колхозе. С этого момента деятельность шиха стала незаконной. Хотя они и продолжали выполнять свои функции, но это делалось негласно. Во времена политических репрессий в 1930-х гг. большинство шихов были подвергнуты гонениям и репрессиям. Только сын Пир-джан-шиха Рахим-ших, отец Урузбай-шиха, с риском для жизни продолжал заботиться о мазаре. Он и остался единственным наследником некогда богатой династийной традиции шихов. В настоящее время практика лечения душевных болезней в целом сводится к нахождению больного на святом месте, но сначала надо определиться с местом, где вы будете проходить лечение. Раньше, в советское время, всех отправляли рыть землянку на поле рядом с маза-ром либо «поселяли» дома у кого-то из местных, у тех, кто поближе к пиру. Многие специально для этих нужд имели небольшую келью в своем доме. Позднее, уже в конце 1990-х гг. в ста метрах от святого, за оградой кладбища построили специальное здание, примерно с десятью кельями размером не более 8 м2, разделенными на две части: в одну, дальнюю от входа, сажают больного, а в другой проживает тот, кто присматривает за ним и заботится. В случае острой формы одержимости - это когда вы опасны для окружающих, на вас надевают кандалы; вы будете прикованы цепью с одной стороны к стене, а с другой - к железному браслету у вас на ноге, что ограничит ваше перемещение размерами кельи и длиной цепи. Вас помещают в чилля на сорок дней, и все что вам надо делать - это ждать помощи от святого Йусуфа Ха-мадани. Лечение заканчивается тогда, когда кандалы спадают. Это значит, что святой пришел и исцелил вас. В другом случае вас оставляют еще на сорок дней. Со слов собеседников Г.П. Снесарева, проводившего полевые исследования на мазаре в середине ХХ в., лечение на мазаре заключалось в следующем: «Когда привозят к Йусуфу Хамадани джинни, ших маза-ра умеет подойти к таким больным, на буйных он накладывает цепи. Некоторые джинни сразу уже уходят: это значит, что святой не пожелал оказать им помощь, а кого он хочет вылечить, те остаются. С них цепи на сороковой день спадают сами; такой джинни после навещает 62 Хорезмские «тропики»: антропология мазара Уллу-пир мазар уже по собственной воле. Возле больных никто не читает молитвы; вообще в таких случаях не молятся. Шифа ‘ приходит от пребывания на мазаре. Больные сидят на земле, им дают пищу и воду, есл
Zarcone T., Hobart A. Shamanism and Islam. Sufism, Healing Rituals and Spirits in the Muslim World. London; New York: I.B. Tauris, 2017
Kehl-Bodrogi K. Who owns the shrine? Competing meanings and authorities at a pilgrimage site in Khorezm // Central Asian Survey. 2006. № 25 (3). P. 235-250
Kehl-Bodrogi К. Religion is Not So Strong Here: Muslim Religious in Khorezm After Socializm. Lit, 2008
Maarouf M. Jinn Eviction as a Discourse of Power. London; Boston: Brill, 2007
Узбекистан 2014. Узбекистан: обитель спасения и утешения // Pearl of East: Your travel guide in Uzbekistan. URL: http://pearlofeast.com/post.php?id=226&news_page=1 (дата обращения: 10.03.2022)
Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. Ташкент: Издательство Академии наук УССР, 1960
Толстов С.П. Древний Хорезм. М.: МГУ, 1948
Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. М.: Наука, 1983
Снесарев Г.П. Под небом Хорезма (этнографические очерки). М.: Мысль, 1972
Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.: Наука, 1969
Селезнев А.Г., Селезнева И.А. Общение во сне: смотрители за священными могилами в сибирском исламе // Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий / Сибирский сборник. Кн. 1 / отв. ред. Л. Р. Павлинская. СПб.: МАЭ РАН, 2009. С. 39-49
Панков И.А. Культ святых в центральноазиатском исламе как социокультурный феномен: дис. магистерская. 46.04.03. М., 2015
Панков И.А. Культ святых в исламе: социальное пространство мазара // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2018. № 9 (42). С. 139-154
Опарин Д. Одержимость и экзорцизм в миграционном мусульманском контексте // Неприкосновенный запас. 2021. № 4 (138). С. 169-195
Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Истина о сути гадания, колдовства, изгнания джиннов и нетрадиционных методов лечения. Ташкент: Hilol-Nashr, 2019
Негря Л.В. Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991
Литвинов В.П. Хранители «святых мест» в Средней Азии и Российское государство (1865-1917 гг.) // Вестник РУДН. Серия: История России. 2020. № 19 (4). С. 781-792
Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М.: Индрик, 2006
Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет. СПб.: Европейский дом, 2002
Леви-Стросс К. Печальные тропики. Львов: Инициатива; Москва: АСТ, 1999
Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020
Демидов С.М. Туркменские овляды. Ашхабад: Ылым, 1976
Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2006
Де Кастру Э.В. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017
Вахштайн В. Возвращение материального. «Пространства», «сети», «потоки» в акторно-сетевой теории // Социологическое обозрение. 2005. Т. 4, № 1. С. 94-115
Бурдье П. Генезис и структура поля религии // Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2007
Басилов В.Н. Культ святых в исламе. М.: Мысль, 1970
Басилов В.Н. Избранники духов. М.: Издательство политической литературы, 1984
Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1992
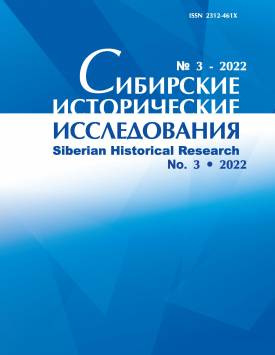

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью