Экстраверсия и доминирование: реализация индивидуальных качеств в трех культурах России: тувинцы, коми, русские
Настоящая работа посвящена исследованию феноменов доминирования и экстраверсии в трех контрастных культурах: у русских, коми и тувинцев. Основной целью исследования было выявить особенности проявления экстраверсии и социального доминирования в социокультурных контактах исследуемых культур. Общую выборку составили 342 человека в возрасте от 18 до 45 лет, проживающие на территории России: русские (70 мужчин и 64 женщины, 19 ± 1,3 года), коми-зыряне (85 женщин и 54 мужчины, 33 ± 7,1 год) и тувинцы (32 мужчины и 47 женщин, 27 ± 4,5 года). Все участники исследования заполняли бланк, где им было предложено оценить, насколько точно каждое из предъявляемых качеств личности характеризует его самого. При необходимости заполнение бланков сопровождалось переводом на родной язык респондента. Далее нами была проведена факторизация полученного эмпирического материала, позволившая выделить два фактора - два обобщенных качества личности: экстраверсия-интроверсия и доминирование. Помимо оценочных психологических характеристик, для каждого участника исследования были собраны сведения о его антропометрических характеристиках: возраст, индекс массы тела и показатели физической силы. Результаты исследования выявили следующее. Уровень экстраверсии не различается во всех трех культурах и не зависит от этнической принадлежности человека. Однако в каждой из культур именно мужчины были более экстровертированными, а не женщины. Уровень экстраверсии значимо определяется индивидуальными биологическими параметрами участников: их возрастом и физическим развитием (сила кисти). Во всех трёх популяциях юные мужчины были активнее и более экстровертированными, чем взрослые, также во всех трех популяциях сильные индивиды были экстравертами, а слабые - интровертами, вне зависимости от пола. Наши результаты опровергают устоявшееся представление о том, что мужчины более ориентированы на социальное доминирование, нежели женщины. В каждой из культур мужчины и женщины не отличались по уровню доминирования. Более того, все три популяции значимо не различались по уровню доминирования между собой. Детальный анализ индивидуальных качеств, определяющих уровень доминирования показал, что отличия в уровне доминирования объяснялись полом и массой тела участников исследования. Однако предполагая сложную природу формирования доминантного поведения и возможный вклад культурной специфики в его проявления, мы рассмотрели каждую популяцию отдельно. Выяснилось, что уровень доминантности зависит от половозрастных характеристик у тувинцев и у коми. Так, у коми доминантность в поведении демонстрируют молодые женщины, а представительницы среднего возраста, наоборот, ведут себя конформно. В выборке тувинцев мужчины среднего возраста ведут себя доминантно, в то время как юноши демонстрируют поведение подчинения. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The Manifestation of Extraversion and Dominance: Evidence of Three Different Russian Cultures (Tuvans, Komi, Russians).pdf Введение Базовые личностные черты, такие как экстраверсия и склонность к доминированию, являются предметом рассмотрения в большом числе современных антропологических и психологических публикаций. В общем виде экстраверсию характеризует стремление к общению «со всеми и всегда». Экстраверсия может проявляется в активности, 129 Анна Александровна Мезенцева и др. напористости, общем оптимистичном настрое личности. Противоположный полюс данной черты - интроверсия - напротив, определяется инертностью и сдержанностью (DeYoung and Gray 2009; Бутовская и др. 2012). Целым рядом исследований показано, что экстравертное поведение более характерно для мужчин, чем для женщин (Terracciano et al. 2001; Nahyun, Hana 2011; Vianello et al. 2013), и также чаще проявляется у более мужественных и маскулинных индивидов в пределах того же пола. Ярким примером тому служат представители профессиональной когорты спортсменов, как мужчины (Бутовская, Веселовская, Прудникова 2010; Бутовская и др. 2011), так и женщины (Бутовская и др. 2012). Отдельно стоит отметить данные, полученные на выборке мужчин из высоко рисковых групп, (Апалькова, Бронникова, Бутовская 2018), в частности их экстравертность и физическую мускульность. Для выборки мужчин из группы спецназа, по сравнению с контрольной, физическая сила, при невысоком индексе массы тела, сопровождалась целым рядом социально-позитивных психологических качеств: экстраверсией, большей уравновешенностью и добросовестностью, установкой на эмпатию и взаимопомощью (морфопсихотип «воина») (Бутовская, Апалькова, Феденок 2020). Кроме того, они лучше контролировали гнев и враждебность (Апалькова, Бронникова, Бутовская 2018). Морфопсихотип воина формировался на протяжении сотен лет человеческой истории (Бутовская 2016), в мужских коллективах, наряду с межгрупповой агрессией, экстраверсия проявлялась в способности к кооперации и была связана с институтом лидерства (Ростовцева, Бутовская 2018; Rostovtseva et al. 2020). Иначе обстоят дела с вопросом о половых различиях в социальном доминировании. Мужчины, более развитые физически априори, сильнее женщин (Miller et al. 1993). С эволюционной точки зрения, именно физическая сила выступала потенциальным ресурсом для успешной конкуренции и определяла готовность мужчин к схватке с соперником (Butovskaya et al. 2018). Эмпирические исследования также указывают на связь физической силы с агрессивным поведением и социальным доминированием, которая четче просматривается у мужчин (Gallup et al. 2010; Gallup, Fink 2018). Неудивительно, что в работах эволюционных антропологов (Windhager, Schaefer, Fink 2011) была показана тенденция к восприятию именно физически сильных мужчин как доминантных. Однако устоявшееся представление о существующих половых различиях, когда представители сильного пола определяются как более ориентированные на социальное доминирование, нежели женщины, активно опровергается в последние десятилетия социальными психологами, феминистски настроенными социальными антропологами и борцами за гендерное равенство. При таком подходе, под сомнение ставится сама идея определяющей роли пола в склонности к доминированию. К примеру, приведем исследования социальных психоло-130 Экстраверсия и доминирование: реализация индивидуальных качеств гов, которые рассматривали половые отличия в склонности к доминированию на трех объединенных разными контекстами выборках: одна идеология, одна культура и одинаковый статус. Результаты исследования выявили отсутствие половых отличий в уровне доминирования, даже с учетом социального контекста (Batalha, Reynolds, Newbigin 2011). Однако при более детальном рассмотрении, учитывающем возраст и уровень образования респондентов, половые различия в доминировании все же обнаруживаются, хотя часто в инвертированном, нехарактерном варианте. Так, в серии исследований половозрастных особенностей социального доминирования у европейцев (три немецкие выборки, более 2 300 человек каждая) была продемонстрирована обратная тенденция - именно женщины показали более высокие значения в ориентации на социальное доминирование. Более высокие показатели получен были для пожилых, обеспеченных респонденток, а также для мужчин, являвшихся консервативными, менее образованными и считавших себя получившими от жизни то, чего они достойны (Batalha, Reynolds, Newbigin 2011). Напротив, иные половые различия были обнаружены для стремления к доминированию у мужчин - если это молодые и образованные мужчины из студенческой среды (Sidanius, Sinclair, Pratto 2006; Batalha, Reynolds, Newbigin 2011). Такое положение дел авторы объясняют ролью собственного социального статуса и перспективами его повышения, которые и определяют склонность к доминантному поведению. В культурном контексте тема экстраверсии и доминирования определяется традиционными представлениями о мужском и женском, обычно поощряемыми социумом, специализацией труда и обрядами. Гендерные различия наблюдаются повсеместно в культурах Евразии, в европейских и азиатских популяциях. Для народов, существенно отличающихся по типу хозяйствования и происхождению, все же обнаруживаются сходные установки к проявлению доминирования и экстраверсии. Например, финно-угорский земледельческий народ европеоидного происхождения - коми-зыряне и тюркоязычный народ, монголоиды Южной Сибири, традиционно занимающиеся скотоводством, - ту-винцы-эрзинцы. Отметим, что тувинцы Южной Тувы (Эрзинский район) «обнаруживают сходство с монголами, территориально и в родственном отношении к ним близкими» (Алексеева 1984). В коми-культуре традиции воспитания характеризуются относительной мягкостью: возраст и статус ребенка определяются не по количеству лет, а по его реальной физической и социальной зрелости, поощряется самостоятельность и самоорганизация в трудовой и досуговой сферах жизни детей, запреты выносятся за пределы межличностных отношений (Слепчина 2006). Вместе с тем культурные устои общества подразумевают иерархию - социальное неравенство статусов 131 Анна Александровна Мезенцева и др. мужчины и женщины. Такое неравенство отражается, в частности, в мифологических сюжетах: женские образы часто были страдательными (женщина - носитель вредоносной субстанции пеж), а мужские образы представлены могучими колдунами. Мужское доминирование прослеживается и на уровне полоролевой структуры семьи: хозяином обычно был мужчина, и крайне редко, только когда в семье совсем не было (Конаков, Шабаев 2010). В последнем случае, однако, женщину не допускали к участию в общинных делах. В разделении труда среди мужчин практиковались отхожие промыслы, в особенности охота, в которой мальчики участвовали с детства. Мужчины охотились группами, преимущественно в дальних угодьях, уходя в конце лета и возвращаясь домой с добычей только к началу декабря. Длительное прибывание в дали от дома в условиях Севера способствовало развитию неписанного кодекса охотника, согласно которому ценным качеством для мужчины считалась способность к взаимовыручке (Конаков 1983). Традиционная культура тувинцев всегда была довольно военизированной (как и исконная монгольская культура). Одной из характерных особенностей культуры тувинцев являлась традиция коллективной охоты, которую практиковали мужчины. Все приемы традиционной охоты применяли в бою, поэтому нетрудно догадаться, что для мальчиков участие в коллективной охоте являлось частью обучения воинскому делу. У эрзинских тувинцев - это конная охота, которая давала преимущество над зверем в степи (Даржа 2009). В тувинских семьях дети рано начинали помогать родителям по хозяйству. Девочки должны были овладеть опытом ведения домашних дел, а мальчики - подготовиться к роли главы семьи: научиться традиционным мужским занятиям (Казырыкпай 2003) и быть готовыми нести ответственность не только за свою семью, но за весь род (Вайнштейн 1991). Кроме того, многие мальчики занимались традиционной тувинской борьбой Хүреш, которая культивировала напористость, закаляла характер и знакомила юных борцов с иерархией мужского коллектива (тренеры, старшие и младшие борцы) (Ондар 2014). В рамках данного исследования мы рассматриваем экстравертность и доминирование как два поведенческих комплекса, в реализацию которых заложены социокультурные установки конкретной группы. Для выявление специфических установок к доминированию и экстраверсии мы провели сравнительный анализ трех выборок: двух традиционных групп - тувинцев-эрзинцев, коми-зырян, а также для сравнения была взята группа русских студентов. Исходя из социокультурных особенностей выборок, основной гипотезой нашего исследования являлось предположение, что проявление личностных качеств человека, таких как экстравертность и доминирование, будет сильно варьировать по степени выраженности и отличаться по набору индивидуальных фи-132 Экстраверсия и доминирование: реализация индивидуальных качеств зиологических характеристик, в комплексе сопутствующих моделям доминантного и экстравертного поведения. Материалы исследования В исследовании приняли участие представители трех культур в возрасте от 18 до 45 лет. Среди них 139 человек (85 женщин и 54 мужчины, средний возраст 33 ± 7,1 года) коми-зыряне, постоянно проживающие в п. Пезмог, г. Сыктывакар., г. Сторожевск Республики Коми и 134 человека (70 мужчин и 64 женщины, средний возраст 19 ± 1,3 года) -русские, постоянно проживающие в г. Тула, а также 69 представителей тувинской этнической группы, постоянно проживающих в п. Эрзин Республики Тыва, среди которых 32 мужчины и 47 женщин (средний возраст 27 ± 4,5 года). Личностные черты участников определялись с помощью частного варианта семантического дифференциала - методики «Личностный дифференциал» (вариант Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, 1992). Каждому респонденту было предложено оценить, насколько каждое из предложенных биполярных качеств характеризует его самого. Бланк методики включал 21 пару полярных качеств, оценить выраженность которых предлагалось по семибалльной лайкертовой шкале. При необходимости заполнение бланков сопровождалось переводом указанных на бланке личностных качеств на родной язык респондента. В соответствии с ключом, предложенным авторами методики (см.: Карелин 2000) были определены обобщенные личностные характеристики: фактор «сила» (уровень доминантности-тревожности) и фактор «активность» (уровень экстраверсии-интроверсии). Итоговые индивидуальные значения нормировались при помощи индивидуальной Z-стандартизации. Антропометрическая программа исследования включала измерение роста (см), веса (кг), силы кисти (кг). Индекс массы тела рассчитывался как отношение веса (кг) к росту в квадрате (м2). Физическая сила измерялась с помощью портативного динамометра (ДМЕР-120, Тулинов-ские инструменты, Россия). Участников просили сжать ручку динамометра максимально сильно поочередно правой и левой руками. Сила каждой руки была измерена дважды, регистрировалось максимально высокое значение, за итоговое значение силы кисти принималось среднее арифметическое между значениями правой и левой рук. Статистический анализ параметров личности в трех популяциях. Для того чтобы количественно оценить связь каждого фактора с этнической принадлежностью, полом, антропометрическими параметрами участников, мы использовали линейный дисперсионный анализа 133 Анна Александровна Мезенцева и др. (ANOVA). В статистической модели в качестве зависимой переменной поочередно выступили два личностных фактора («активность», «сила»), в качестве предикторов - этническая принадлежность, пол, возраст и индекс массы тела участников и взаимодействия между полом и возрастом, полом и индексом массы тела, возрастом и силой кисти. Мерой величины эффекта каждого из предикторов выступил частичный Eta-квадрат (п2). Детальный анализ зависимости трех личностных факторов от биологических параметров, пола, этнической группы участников исследования, а также определение направленности взаимосвязи проводились методом линейного регрессионного анализа. Статистический анализ выполнен в программе SPSS версии 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Статистическая связь считалась значимой при 0,05. Результаты исследования Влияние культурной группы, пола и биологических характеристик на личностные факторы участников тестировалось на общей выборке в 342 человека, представленной мужчинами и женщинами, в возрасте от 18 до 45 лет. Для описания существующих в изучаемых культурах популяционных и половых особенностей мы сравнили средние значения уровня выраженности оценок экстраверсии, доминантности, а также средние значения по возрасту, физической силе и массе тела у мужчин и женщин из каждой популяции. Поскольку распределение исследуемых параметров было близким к нормальному, анализ осуществлялся с помощью Т-критерия Стьюдента и одномерного дисперсионного анализа ANOVA. Результаты анализа популяционных психологических и физиологических особенностей русских, коми и тувинцев представлены в табл. 1. Согласно результатам, отличия между тремя культурными группами не достигали статистической значимости в уровне экстраверсии. Также, не были обнаружены значимые культурные отличия в уровне доминирования. В блоке физиологических особенностей, не обнаружено свидетельств популяционных отличий в физической силе. Однако группы значимо отличаются между собой по возрасту (самая молодая группа -русские, самая взрослая - коми) и индексу массы тела между группами коми и русских. Результаты анализа половых различий по психологическим и физиологическим параметрам русских, тувинцев и коми представлены в табл. 2. По итогам, во всех трех выборках мужчины значимо выделялись высокими значениями экстраверсии и физической силой, тогда как женщины были слабее и демонстрировали склонность и интровер-сии. Мы не обнаружили значимых половых различий в уровне доминантности как в двух европейских, так и в азиатской культуре. Также, 134 Экстраверсия и доминирование: реализация индивидуальных качеств во всех выборках мужчины и женщины не отличались между собой по возрасту и массе тела. Поиск культурного влияния и биологических эффектов на качества личности проводили с помощью линейного дисперсионного анализа (ANOVA), где поочередно уровень экстраверсии и доминантности предсказывался статистической моделью с этносом, полом, возрастом, физической силой и индексом массы тела участников в роли предикторов. Психологические и физиологические популяционные особенности русских, коми и тувинцев Таблица 1 Признак Этос N M SD Сравниваемая группа Р Экстравер сия Русские 131 -2,79 3,35 Коми 0,145 Тувинцы 0,083f Коми 135 -3,43 2,3 Русские 0,145 Тувинцы 1,000 Тувинцы 77 -3,62 1,59 Русские 0,083f Коми 1,000 Доминант ность Русские 124 -3,29 2,26 Коми 1,000 Тувинцы 0,077f Коми 128 -3,42 1,98 Русские 1,000 Тувинцы 0,217 Тувинцы 76 -3,96 1,72 Русские 0,077f Коми 0,217 Возраст Русские 134 19 1,36 Коми
Ключевые слова
русские,
коми,
тувинцы,
физическая сила,
доминирование,
экстраверсияАвторы
| Мезенцева Анна Александровна | Институт этнологии и антропологии РАН | стажёр-исследователь Центра кросскультурной психологии и этологии человека | a.mezentseva@iea.ras.ru |
| Бутовская Марина Львовна | Институт этнологии и антропологии РАН; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Российский государственный гуманитарный университет | член-кор. РАН, доктор исторических наук, заведующая Центром кросс-культурной психологии и этологии человека; главный научный сотрудник, профессор; ведущий научный сотрудник Центра социальной антропологии | marina.butovskaya@gmail.com |
| Ростовцева Виктория Викторовна | Институт этнологии и антропологии РАН | кандидат биологических наук, младший научный сотрудник Центра кросс-культурной психологии и этологии человека | victoria.v.rostovtseva@gmail.com |
| Ананьева Кристина Игоревна | Институт психологии РАН | кандидат психологических наук, доцент, научный сотрудник лаборатории психологии познавательных процессов и математической психологии | ananyevaki@ipran.ru |
| Демидов Александр Александрович | Московский институт психоанализа | кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии | demidov@inpsycho.ru |
Всего: 5
Ссылки
Vianello M. et al. Gender differences in implicit and explicit personality traits // Personality and individual differences. 2013. Vol. 55, No. 8. P. 994-999. DOI: 10.2139/ssrn.2249080
Windhager S., Schaefer K., Fink B. Geometric morphometrics of male facial shape in relation to physical strength and perceived attractiveness, dominance, and masculinity // American journal of human biology: the official journal of the Human Biology Council. 2011. Vol. 23, No. 6. P. 805-814. https://doi.org/10.1002/ajhb.21219
Soto C.J., John O.P., Gosling S.D., Potter J. Age differences in personality traits from 10 to 65: Big Five domains and facets in a large cross-sectional sample // Journal of personality and social psychology. 2011. Vol. 100, No. 2. P. 330-348. https://doi.org/10.1037/a0021717
Terracciano A. et al. Gender differences in personality traits across cultures: Robust and surprising findings // Journal of personality and social psychology. 2001. Vol. 81, No. 2. P. 322-331. https://doi.org/10.1037/0022-3514.8L2.322
Sidanius J., Sinclair S., Pratto F. Social Dominance Orientation, Gender, and Increasing Educational Exposure // Journal of Applied Social Psychology. 2006. Vol. 36, No. 7. P. 16401653. https://doi.org/10.1111/j.0021-9029.2006.00074.x
Nahyun K., Hana S. Personality, traits, gender and information competency among college students // Malaysian Journal of Library & Information Science. 2011. Vol. 16, No. 1. P. 87-107
Rostovtseva V.V. et al. Sex differences in cooperativeness - An experiment with Buryats in Southern Siberia // Plos one. 2020. Vol. 15, No. 9. P. e0239129. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239129
Gallup A.C., O'Brien D.T., White D.D., Wilson D.S. Handgrip strength and socially dominant behavior in male adolescents // Evolutionary Psychology. 2010. Vol. 8, No. 2. P. 147470491000800207. https://doi.org/10.1177/147470491000800207
Miller A.E.J. et al. Gender differences in strength and muscle fiber characteristics // European journal of applied physiology and occupational physiology. 1993. Vol. 66, No. 3. P. 254262. https://doi.org/10.1007/BF00235103
DeYoung C.G., Gray J.R. Personality neuroscience: Explaining individual differences in affect, behaviour and cognition // The Cambridge Handbook of Personality Psychology / eds. by P.J. Corr, G. Matthews. New York: Cambridge University Press, 2009. P. 323346. DOI: 10.1017/CBO9780511596544.023
Gallup A.C., Fink B. Handgrip strength as a Darwinian fitness indicator in men // Frontiers in psychology. 2018. Vol 439, No. 6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00439
Butovskaya M.L. et al. Associations of physical strength with facial shape in an African pastoralist society, the Maasai of Northern Tanzania // Plos one. 2018. Vol. 13, No. 5. P. e0197738
Batalha L., Reynolds K.J., Newbigin C.A. All else being equal: Are men always higher in social dominance orientation than women? // European Journal of Social Psychology. 2011. Vol. 41, No. 6. P. 796-806. DOI: 10.1002/ejsp.829
Слепчина Н.Е. Традиционное воспитание детей в коми культуре второй половины XIX-первой трети XX веков : дис. ... канд. ист. наук. Сыктывкар, 2006
Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М.: Изд-во МГУ, 1988
Ростовцева В.В., Бутовская М.Л. Социальное доминирование, агрессия и пальцевой индекс (2D: 4D) в кооперативном поведении молодых мужчин // Вопросы психологии. 2018. № 4. С. 65-80. URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/51944330
Ондар О. Ч. Борьба Хуреш. История, современность, будущее. Кызыл, 2014
Конаков Н.Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX - начале XX в. М.: Наука, 1983
Конаков Н.Д., Шабаев Ю.П. Рец. на: Уляшев О.И., Ильина И.В. Мужчина и женщина в традиционной культуре коми // Антропологический форум. 2010. № 13. С. 442-448
Казырыкпай Б.О. Мужской путь. Кызыл, 2003
Карелин А.А. Психология изменений. M. : КСП, 2000. С. 352
Даржа В.К. Традиционные мужские занятия тувинцев. Кызыл: Тувин. кн. изд-во, 2009
Вайнштейн С.И. Мир кочевников центра Азии. М.: Наука, 1991
Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Прудникова А.С. Модели биосоциальной адаптации человека и их реализация в условиях индустриального общества // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. Т. 4, № 44. С. 143-154
Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Година Е.З. Анисимова (Третьяк) А.В., Силаева Л.В. Морфофункциональные и личностные характеристики мужчин-спортсменов как модель адаптивных комплексов в палеореконструкциях // Вестник Московского университета. Сер. XXIII: Антропология. 2011. № 2. С. 4-15.
Бутовская М.Л., Апалькова Ю.И., Феденок Ю.Н. Эмпатия и кооперация как составляющие морфопсихотипа «воина» у человека: сравнительный анализ группы военных и контроля // Вестник Московского университета. Серия 23. Антропология. 2020. № 1. С. 58-71. DOI: 10.32521/2074-8132.2020.1.058-071
Бутовская М.Л., Апалькова Ю.И., Феденок Ю.Н. 2D: 4D, самооценки по агрессии, склонности к риску и чертам личности у парашютистов // Вестник Московского университета. Серия XXIII: Антропология. 2017. № 2
Бутовская М.Л. Универсальные морфо-психотипы человека: адаптация к условиям среды и оптимизация репродуктивного успеха // Вестник РФФИ. Естественнонаучные и математические методы в гуманитарных исследованиях. 2016. T. 91, № 3. С. 92-99. DOI: 10.22204/2410-4639-2016-091-03-92-99
Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Кондратьева А.В., Просикова Е.А. Морфопсихологические комплексы как индикаторы успешности в спорте: женщины // Вестник Московского университета. Серия 23. Антропология. 2012. № 2. С. 30-34. URL: https://rucont.ru/efd/480105
Апалькова Ю.И., Бронникова Н.К., Бутовская М.Л. Устойчивые сочетания морфофункциональных и личностных характеристик у мужчин высокорисковых профессий // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. 2018. № 4. DOI: 10.32521/2074-8132.2018.4.067-076
Алексеева Т.И. Антропоэкология Центральной Азии. М.: Научный мир, 2005
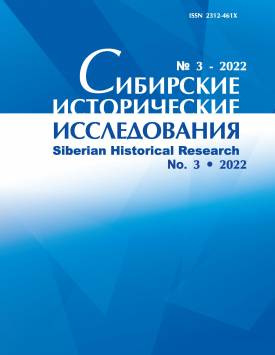

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью