Образы Великобритании и Франции в политических дискурсах антибольшевистского движения на востоке России в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.)
Выявляются особенности влияния образов Великобритании и Франции на процесс формирования ключевых идеологем антибольшевистского движения на востоке России. Автор приходит к выводу о том, что актуализация образов англичан и французов в качестве «значимого Другого», образца для подражания, стала отражением активных попыток формирования идентичности антибольшевистского движения, основными компонентами которой выступали идеи национального и гражданского единства и возрождения государственности России.
Images of Britain and France in the Political Discourses of the Anti-Bolshevik Movement in Eastern Russia during the Civ.pdf Гражданская война, ставшая переломным событием в истории России, явила собой пример крайне сложного противостояния, втянувшего в свою орбиту все группы и слои общества бывшей империи. Специфика данного конфликта, рассматриваемого некоторыми исследователями в качестве целого комплекса параллельных войн [1], обусловлена также тем, что развивался он как часть и во многом как следствие Первой мировой войны. Именно контекст мировой войны способствовал вмешательству иностранцев во внутрироссийские события. Интервенция центральных держав и стран Антанты послужила катализатором военных действий во многих регионах страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Стремление антибольшевистских сил на востоке России заручиться поддержкой извне являлось причиной интереса к союзникам со стороны политиков, военных и средств массовой информации. Образ иностранных союзников был неотъемлемой частью пропагандисткой риторики небольшевистских правительств - Временного Сибирского правительства, Временного Всероссийского правительства и Российского правительства А.В. Колчака, влияя при этом на содержание ряда других образов и идеологем. К настоящему времени реконструкции и анализу образов «Других» (врагов и союзников) в пропаганде и массовых представлениях посвящено значительное количество исследований. Так, следует отметить целый ряд статей и монографии А.В. Голубева [2-5], О.С. Поршневой [2, 6, 7], А.С. Сенявской [8], Е.Ю. Сергеева [9]. Проблеме взаимовосприятия русских иностранцев посвящены публикации Центра по изучению отечественной культуры, созданного на базе ИРИ РАН [10]. В контексте исследований Гражданской войны в России данной проблематики касались в своих работах Н. А. Глущенко [11], М.М. Стельмак [12], Д. Ирвин и Е.В. Волков [13, 14]. Обращаясь к изучению «Других», исследователи, работающие в рамках такого направления, как имаго-логия, особое внимание уделяют стереотипам -«упрощенным, весьма жестким, устойчивым представлениям, возникающим у человека - как социального существа - под влиянием культурного окружения» [15. С. 57]. Формируясь в той или иной социально-исторической среде, стереотипы носят эмоциональный и образный характер. В силу этого имаголо-гия в связи с процессам восприятия и оценки тех или иных образов, «.характеризует и сам воспринимающий субъект, то есть отражает национальное самосознание и собственную систему ценностей» [16. C. 31]. Политическая устойчивость и военные успехи антисоветских правительств в период Гражданской войны в немалой степени зависели от способности антибольшевистских лидеров и идеологов предложить обществу альтернативу лозунгам их противников. Идеологемы и ценностные установки, формировавшиеся участниками неоднородного по своему составу антибольшевистского движения и транслируемые с помощью периодической печати, призваны были выступать основой для конструирования коллективной идентичности, противопоставленной большевизму. По словам И. Нойманна, «отграничение “Я” от “Другого” является активной (курсив автора. - К. К.) и продолжающейся частью формирования идентичности» [17. С. 68]. Образ Другого, в данном случае иностранных союзников, как олицетворение определенных идей и ценностей, следует рассматривать в качестве важного фактора, влиявшего на процесс самоидентификации антибольшевистского движения. Как отмечает в связи с этим Л.П. Репина, «...изучение индивидуальных и коллективных представлений о других народах (оставляя в стороне вопрос об их соответствии реальности или ее искажении) открывает путь к проникновению в духовную жизнь того общества, в котором эти представления складываются и функционируют» [18. С. 13]. В связи с этим цель данной работы - выявление особенностей влияния национальных и политических стереотипов в образах Великобритании и Франции на процесс формирования некоторых ключевых идеологем антибольшевистского движения на востоке России. Выбор данных стран обусловлен несколькими причинами. Обе европейские державы являлись ключевыми силами в Антанте. История взаимоотношений Франции, Великобритании и России на тот момент насчитывала не одну сотню лет и изобиловала множеством ярких эпизодов, неоднозначно воспринимавшихся русским обществом, обе страны играли важную роль в российской культуре. Наконец, как отмечает М.М. Стельмак, антибольшевистская правительственная печать упоминала британских и французских союзников чаще, чем США, Японию или чехословаков, о чем свидетельствуют подсчеты исследователя [12. C. 316-321]. Источниками для исследования выступили периодические издания, выпускавшиеся на востоке России с середины 1918 г. по конец 1919 г. - официальные газеты антибольшевистских режимов, кадетские, эсеровские и меньшевистские издания. Необходимо отметить, что союзники в небольшевистской печати востока России представали в двух образах - в качестве друзей и помощников, а также в роли «значимого Другого»1 - своеобразного «зеркала», к которому представители антибольшевистских сил обращались порой в весьма неожиданных контекстах. Позиционирование союзников в качестве «спасителей» России отражало ожидания и надежды части антибольшевистских сил на иностранную помощь, а также выступало средством легитимации антибольшевистских политических режимов. Другая ипостась союзников - позитивный или отрицательный пример. Основой для формирования образа в данном случае выступали стереотипы о странах Запада, бытовавшие в среде отечественной интеллигенции на рубеже XIX-XX вв., нередко переплетавшиеся с целым рядом автостереотипов. Представления об особенностях общественного и политического устройства Франции и Британии, этнические и внешнеполитические стереотипы в сочетании с пропагандистскими и журналистскими штампами актуализировались в ходе коммуникативных актов, участниками которых являлись правительственные, партийные и общественные институты. С одной стороны, к этому побуждала необходимость конструирования ряда идеологем, использовавшихся правительственными структурами в пропаганде. С другой - политическая борьба между различными группировками внутри антибольшевистского лагеря, частью которой являлись дискуссии на страницах партийной периодической печати. При этом одни и те же образы могли быть использованы ситуативно, в зависимости от специфики, задач и условий, в которых происходила коммуникация. Рассмотрим ключевые, на наш взгляд, идеи, при формировании которых происходила актуализация образов Великобритании и Франции. Идея «возрождения государственности» являлась лозунгом всех сменявшихся на востоке страны правительств. Временное Сибирское правительство заявляло об «укреплении Русской революции», защите «свободы и независимости» России [20. С. 45] и «восстановлении народовластия» [21], а Временное Всероссийское правительство в своей риторике подчеркивало необходимость установления твердой власти и единства государства [22]. А.В. Колчак, как известно, одну из своих задач видел в «установлении законности и порядка» [23]. Как отмечает В. Г. Хандорин, стержнем Белой идеи, названной им «либеральным консерватизмом», являлось стремление сочетать достижения революции (ликвидация пережитков сословного строя, решение земельного и рабочего вопросов) с национальной спецификой, требовавшей учета авторитарной ментальности народа, религиозных корней и баланса интересов всех классов российского общества [24. С. 470]. Основополагающими ценностями при этом провозглашались государство и нация. В программной статье екатеринбургских «Отечественных ведомостей», в частности, подчеркивалось: «_мы ставим своей целью внедрить в общественное сознание “забытые слова”: Родина, Нация, Государство, и принять участие в переработке государственной программы на основе общенациональных и государственных интересов» [25]. Рассуждения о возрождении государства затрагивали проблему соблюдения правопорядка. Неизбежны при этом были ссылки на опыт «просвещенного Запада», в контексте которых Россия сравнивалась с европейскими державами. Приветствуя осенью 1918 г. введение Высшего суда, как верховного кассационного суда на территории Сибирского правительства, кадет Н. Лавров отмечал, что идея кассационных судов была перенята во Франции во время судебных реформ 1864 г., благодаря обращению «к опыту более культурных народов». Судебный устав Александра II сравнивался автором с британской Хартией вольностей, с той лишь разницей, что он появился как «экзотическое растение, вне всякой связи с остальными сторонами нашей жизни» [26]. Для социалистов тема законности и прав граждан также являлась важной в связи с критикой правительственных методов поддержания порядка. Европейское право в данном случае выступало в качестве незыблемого образца. Автор публикации в «Дальневосточном обозрении», указывая на противоречие между выдвигаемыми «государственно-мыслящими» кругами лозунгами и «правдой нашего бытия», заострял внимание читателя на проблеме равенства граждан перед законом. Напоминая о существовании английского «Habeas corpus act» и французского «droit de l'homm», автор подчеркивал - «гарантия прав и свободы личности являются основой всякого государственного, граждански-правового порядка» [27]. Некоторое время спустя газета вернулась к данной проблематике. Откликаясь на введение закона о предварительном внесудебном аресте, редакция издания характеризовала подобную практику как «государственную ненормальность». Вновь при этом был актуализирован образ Англии. «Такая культурная страна как Англия, знает Habeas corpus, но не знает его противоположности», - отмечал автор, полагая вместе с тем, что использование внесудебных арестов «служит указанием на то, что государственность еще не покоится на прочном мировом фундаменте» [28]. Примечательно, что сибирские кадеты, сами активно апеллировавшие к образу Великобритании, в ходе дискуссий со своими оппонентами могли призывать к критическому отношению к политическому опыту «Туманного Альбиона». Размышляя о вариантах будущего территориального устройства России, иркутские кадеты критиковали сторонников децентрализации за увлечение английским примером. Соглашаясь с тем, что Англия в ряде случаев, несомненно, достойный для подражания образец, редакция газеты «Свободный край» также отмечала, что копировать ее в отношении организации местной власти не следует в силу специфики британских условий [29]. С проблемами законности и государственного строительства тесно переплеталась тема демократии. В марте 1919 г. посол в Париже В.А. Маклаков телеграфировал в Омск: «... возможность помощи нашим национальным армиям в борьбе с большевиками измеряется степенью демократичности наших правительств и политического с этой точки зрения доверия и симпатии, которые внушают они» [30. Л. 26]. Омские политики, получавшие сведения о росте демократических настроений на Западе от российских представителей за границей, не могли не учитывать влияния данного фактора на оказание внешней поддержки. В риторике антибольшевистских правительств и партийных идеологов упоминания о народовластии были общим местом. Однако детальных характеристик этому понятию авторы зачастую не давали, ограничиваясь общими рассуждениями [31. С. 95], что, впрочем, не мешало обращаться к образам зарубежных стран. Победа союзников в мировой войне демонстрировала, по мнению антибольшевистских политиков, превосходство демократических, свободолюбивых стран Антанты над милитаристскими и авторитарными государствами Германской коалиции. Г.К. Гинс в речи по случаю окончания войны, отдавая должное «культурной демократии» союзников, полагал, что «победа над Германией и русская революция окончательно сломили последние устои реакции» [32]. Откликаясь на известия из Европы, новониколаевские кадеты полагали, что победа союзников «сулит миру торжество демократической государственности, ставящей своей главной целью всестороннее развитие свободной человеческой личности внутри свободных наций». Принцип свободы при этом расценивался как «великий дар англосаксонской расы», долженствующий торжествовать в жизни государств [33]. Дрейф сибирских кадетов «вправо», следствием которого стала поддержка ими единоличной диктатуры, обусловил стремление найти аргументы в пользу идеи сильной государственной власти в образах стран Запада. Параллельно подвергались критике действия и слова эсеров и меньшевиков, на страницах своих изданий выступавших в поддержку народовластия [34]. Как своеобразный прецедент либералами были использованы речи англичан - полковника Дж. Уорда, возглавлявшего британский экспедиционный отряд, или профессора Перса, посетившего ряд городов Сибири. Приводя в пример британцев, как искренних патриотов, бодрых, стойких людей, умеющих отбросить партийную рознь ради интересов государства, иркутские и красноярские кадеты сравнивали их с представителями «революционной демократии». Разумеется, не в пользу последних. «При всем своём убогом невежестве наша “революционная демократия” воображает, что она политически более развита, чем англичане, те самые англичане, которые, можно сказать, и были главными виновниками появления на свет Божий конституционализма, парламентаризма и всех связанных с ними благ политической свободы», - полагал кадет Н. Лавров [35]. В связи с обсуждением политического строя Великобритании предметом обсуждения становился и вопрос о конституционной монархии. В ответной статье эсер И. Казанцев раскритиковал кадетов за травлю демократии и стремления к реставрации монархии, подчеркнув, что «русский народ, русская демократия имеют многовековой опыт, чтобы знать, что такое царизм» [36]. Алтайские социалисты указывали на то, что британская конституционная монархия слишком специфична и ее опыт неприменим в России. В передовой статье газеты «Новый алтайский луч» отмечалось, что «российские условия совершенно отличны о тех, которые взрастили веками английскую конституцию». При этом автор публикации намекал на реакционность кадетов, утверждая, что «демократия борется за полное народовластие и в этом ее основное отличие от тех политических группировок, которые за него не борются, а борются с ним во имя “права, закона и порядка”» [37]. Социалисты возлагали надежды на поддержку русской «демократии» представителями западного рабочего движения. «В союзных государствах под общественным мнением понимают мнения всех более или менее значительных и влиятельных групп населения, а не только одних привилегированных классов, почему-либо присваивающих монополию на звание “государственных”», - полагал редактор томской «Народной газеты» Д. Розенберг. Считая, что важную роль на Западе играли «настоящие социалисты», автор утверждал, что «только настоящая демократическая политика русской государственной власти встретит всеобщую поддержку со стороны народов Зап. Европы и Америки» [38], призывая, таким образом, к проведению соответствующей политики и ориентации на определенные круги в союзных странах. Другой важной темой, затрагиваемой в контексте рассуждений о возрождении государственности, была революция. Оценки происходящих событий подталкивали к проведению параллелей с европейскими и в первую очередь французскими революциями. «Французская революция, на которой мы можем проследить законченный революционный процесс, дала примеры всех эксцессов, переживаемых нами ныне», - отмечалось в годовщину Февраля в владивостокской газете [39]. Сравнения России и Франции в этом случае могли осуществляться как ситуативно, так и в контексте широких обобщений. Упрекая кадетов в прогерманской ориентации, алтайские социалисты вспоминали события 1871 г., когда «французская буржуазия» не постеснялась заключить «похабный мир с Германией», пойдя на ряд уступок ради подавления коммунаров [40]. Иркутская газета «Мысль», ссылаясь на письмо социал-демократа П. Аксельрода, приводила сравнение якобинцев и большевиков, исходя из которого последние характеризовались как «имитация», «рискованная и трагическая пародия» на диктатуру «Montagne» [41]. По мнению Д. Розенберга, французы в конце XVIII в. боролись как за внутреннее объединение, так и против внешних противников, в силу чего французские революционеры «проявили беспримерный патриотизм и национализм». Россия, как полагал автор, «объединенная механически», «полицейским кулаком», страдала от противоречий «между внешним могуществом и внутренним бессилием». А посему «оппозиционная и прогрессивная мысль» приобрела характер социалистической, поскольку ее заботило не величие или безопасность государства, а забота о «трудовом народе» [42]. Так, путем сравнения текущих событий и явлений с европейской историей формировались их оценочные, ценностно-нагруженные образы. Для либералов Французская революция являлась моментом патриотического подъема и консолидации нации, что способствовало актуализации данного примера в контексте призывов и обращений прессы к обществу. В новониколаевской «Русской речи», например, отмечалось, что отличительной чертой Французской революции было то, что французы во всех бедствиях не теряли своего «национального достоинства». «Отсутствие этих достоинств и есть отличительная черта русской революции», - подчеркивал автор, считая, что «мы не умеем гордиться своей родиной, и наша любовь не горит, но чуть-чуть тлеет» [43]. В качестве альтернативы революционным потрясениям представители антибольшевистских сил приводили доводы в пользу социальных реформ и эволюционного пути развития государственности, все также обращаясь к образам союзных держав. «Как показал опыт величайшей старинной демократии Англии, не социальная революция, а социальные реформы разрешат проклятые вопросы, выдвинутые современным капиталистическим хозяйством», - утверждал представитель казачества И.Н. Шендриков [44]. Политический строй союзных держав, по мнению антибольшевистских идеологов, исключал возможность появления большевизма на Западе. По словам публициста Л. Арнольдова, «выдержка и врожденная лояльность английского народа, с одной стороны, и искусство администрировать у тамошних властей, с другой - позволяют думать, что Англия гарантирована от заражения большевизмом». Цитируя одного из наблюдателей британской политической жизни, он отмечал, что «в Англии постоянно происходит бескровная революция», приводя примеры решения социальных и политических конфликтов путем компромисса между властями и рабочими [45. C. 18]. Таким образом, как для кадетов, так и для социалистов элементы образов Британии и Франции могли являться подтверждающими или опровергающими доводами в ходе конструирования тех или иных представлений о том, как должен происходить процесс «возрождения государственности». Поскольку симпатии к Англии были сильны в либеральных кругах, усилившись в период мировой войны [46. С. 55], а также среди лидеров партии народной свободы [47. С. 37-39], сибирские кадеты продолжали уделять особое внимание «британской теме». В образе Франции важным компонентом являлась тема революции, актуализация которой была обусловлена переживаемыми событиями. Идея гражданской нации и патриотизма. Необходимо отметить, что при актуализации национальной темы антибольшевистскими авторами в идеологическом контексте нация рассматривалась в первую очередь как сообщество граждан-патриотов, для которых интересы государства и общества в кризисных и переломных исторических моментах становились выше личных. Осенью 1918 г. на фоне появления союзников на востоке России в ряде небольшевистских изданий была затронута тема национальной гордости россиян, вынужденных наблюдать присутствие вооруженных сил иностранных, хотя и дружественных, держав на своей территории. Подобный ход можно рассматривать как попытку воздействия на общество с целью пробуждения патриотизма сибиряков. «Мы проявили слишком незначительную сопротивляемость стихии. Мы сразу почему-то стали рассчитывать на стороннюю помощь как бы бессознательно понимая, что не в характере русского человека опираться на самих себя», - рассуждал по этому поводу на страницах правительственной газеты В. Кудрявцев, выражавший надежду на скорое окончание «безгосударья» [48]. Отмечая, что «мы часто стеснялись своего национального происхождения», автор передовой статьи новониколаевских «Военных ведомостей» приводил в пример иностранцев - «мы никогда не могли с уверенностью и гордо назвать себя русскими, как это может сделать англичанин, немец и др.». Причиной этого, как ни парадоксально, называлось «исторически развиваемое преклонение перед всем чужеземным», которое «чрезвычайно расслабило в нас чувство собственного достоинства» [49]. Несмотря на подобные высказывания, британцы и французы зачастую выступали в качестве образцовых граждан и патриотов, на которых следует равняться русским. Противопоставляя интернационализму большевиков национальную идею, публицисты опирались на примеры достижений союзных стран, подкрепляя их характеристиками национального характера англичан или французов. Зримым воплощением патриотизма представителей союзных наций служили их действия в ходе мировой войны. Так, народ Франции, вынесший тяжесть четырехлетних боев на своей территории, выступал олицетворением стойкости. Сообщения о храбрости французских солдат на фронте [50], серьезных людских потерях [51] и разорении ряда регионов «прекрасной Франции» [52] подчеркивали весомый вклад республики в победу Антанты и свидетельствовали о непоколебимой силе духа французов. При этом отмечался «всенародный» характер сопротивления германцам. В уральской правительственной газете подчеркивалось: «когда Франция обливалась кровью - она не рассуждала, что в стране есть “буржуи” и капиталисты. Она обливалась кровью только для своей Франции, для своей бессмертной Родины и она победила» [53]. «Редкий в истории человечества случай, когда доблесть, высшее напряжение лучших сторон человеческого духа и стойкое благородство оказались демократизированы», - писал по этому же поводу В.А. Жардецкий, считавший, что «аристократические качества немногих, стали уделом всех» [54]. Отчаянное сопротивление французов, о котором писали сибирские журналисты, подкрепляло простую мысль - «французы умеют любить свою родину...» [55]. Это позволяло формировать образ не сломленной «прекрасной Франции» - пример, который, по мнению антибольшевистских идеологов, был, разумеется, достоин подражания. В качестве одной из основных причин стойкости и сплоченности союзных наций называлось классовое единство, а социальные противоречия рассматривались в качестве источника прогресса. По мнению редакции «Вестника Временного Всероссийского правительства», классовая борьба велась на Западе «. много дольше и упорнее, чем у нас, - и все же страны запада не распадались, а преуспевали, и классовая борьба составляла естественный элемент этого развития, будя энергию и возбуждая инициативу». «Вековая спячка, или слепой бунт души, часто бесплодные, хотя и прекрасные порывы совести и духа -вот основные тона истории русской общественности», - отмечалось в газете. В силу чего русский народ, напротив, характеризовался лишь как конгломерат классов и культур, связанных внешней силой государства [56]. Неизменно при этом подчеркивалось превосходство представителей того или иного класса французского или британского общества перед русскими. Усматривая корни большевизма в примитивности существовавшего в России капитализма, юрист М.Р. Бейлин в томской «Сибирской жизни» отмечал, что «дисциплинированные, обеспеченные колоссальными забастовочными фондами английские рабочие отличаются завидной выдержкой». Поведение же российских рабочих характеризовалось им как «истерическое». Отмечалось вместе с тем, что и «. русская буржуазия не чета английской» [57]. Примечательно, что критика отечественной буржуазии, обвинения в спекуляции и отсутствии сознательности со ссылками на пример английских или французских коммерсантов и промышленников появлялась как на страницах кадетских, так и социалистических газет. Если для либералов это являлось попыткой «перевоспитания» буржуазии и наставления ее на путь патриотизма [58], то для социалистов - частью борьбы с политическим противником. Орган сибирских эсеров, выражая на своих страницах мысль о том, что «демократия» (т.е. социалисты и рабочее движение) должна играть ключевую роль в возрождении страны, писал: «нужно сознаться, что судили мы о представителях нашей буржуазии по их заграничным г. учителям и, как видно, напрасно. У нас они оказываются в массе троглодитами, неспособными подняться выше своих поскотиных интересов» [59]. Аналогично высказывались и другие издания, характеризуя российский торгово-промышленный класс: «. у них оказалось и мало классового сознания, еще меньше классовых традиций и почти ничего из той гордости и любви хозяина к руководимому им предприятию, которая так заметна у западноевропейских торгово-промышленников» [60]. Практические вопросы, связанные с урегулированием взаимоотношений пролетариата и буржуазии, будучи актуальными для представителей революционной демократии, являлись контекстом, в рамках которого они обращались к зарубежным прецедентам. Так, высказываясь о реформе профсоюзов, эсеры подчеркивали необходимость обеспечения их независимости от государства, для чего ссылались на опыт британских тред-юнионов, которые вели борьбу даже с государственным финансированием страхования, стремясь «. ни в чем не зависеть от правительства» [61]. Сопоставлялись с британским или французским эталоном и другие социальные слои русского общества. Отечественная интеллигенция обвинялась в мягкотелости и нерешительности в отличие от европейцев. Л. Арнольдов упрекал соотечественников за склонность к апатии, неуверенность, праздность и карьеризм, указывая на англичан, которые «. при неудаче стискивают зубы и, без лишних слов, - удваивают свою энергию» [62]. Истоки многих позитивных качеств британцев и французов виделись не только в умении использовать социальную конкуренцию во благо, но и в культуре и истории этих народов. Омские кадеты, полагая, что от развития национального начала зависит будущее России, указывали на важность воспитания подрастающего поколения «в строго национальном духе». «Возьмите любую страну в Европе, хотя бы республиканскую Францию - там “темной старины заветные преданья” являются предметом особого любовного изучения и распространения, независимо от злободневных политических споров», - подчеркивал некто Н-н [63]. Национальная культура провозглашалась куда более мощной силой, нежели материальные ценности или сила оружия. Так, Эльзас и Лотарингия служили примером непоколебимости французского патриотизма и духа. Как отмечалось в омском журнале «Отечество», немцы стремились «облагодетельствовать» захваченные в 1871 г. территории, «немецкое государство пустило в ход все обаяние своей государственной культуры, но более интимная племенная культура оказалась сильнее ее», в итоге «французы остались французами» [64. С. 17]. По мнению сибирских публицистов, русским недоставало верности традициям, а влияние большевизма расшатало устои общества. Скрывшийся под инициалами Н.В.Н. журналист «Военных ведомостей», по мнению которого народ страдал «болезнью моральных чувств» отмечал, что «мы и так всегда были полной противоположностью английскому обществу: всегда отличались полным отсутствием всяких традиций, даже семейных; каждое пятилетие, если не чаще, у нас менялись моды: философские, политические, социологические, литературные, даже торговые, индустриальные и т.д. и т.п.; мы как маленькие дети бросались от одной игрушки к другой, сейчас же совершенно забывая первую» [65]. Стереотипные представления о британцах и французах, как законопослушных, деятельных, верных собственным традициям и культуре патриотах, отражали не только особенности восприятия и презентации иностранцев сибирскими и дальневосточными политиками и журналистами. Будучи проекциями политических предпочтений части отечественной интеллигенции, образы союзников косвенно отражали содержание рефлексии относительно причин революционных событий и дальнейших судеб российского общества. Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Образ союзников как «Другого» являлся частью образа внешнего мира, который представлял собой «темную» или «серую» зону, непредсказуемую и потенциально опасную [2. С. 11]. Страны Антанты, будучи неотъемлемой частью внешнего окружения, также воспринимались двояко - с надеждой и опасениями. Стремление избежать данной двойственности подталкивало антибольшевистских идеологов к формированию бинарной оппозиции «свои-чужие», в которой антибольшевистские силы и дружественные им страны Антанты противопоставлялись Германской коалиции и большевикам. В рамках данной дихотомии конструирование позитивных образов союзников с опорой на политические и национальные стереотипы позволяло идеологам и журналистам Белой Сибири актуализировать ряд важных для антибольшевистского движения идей. Ключевыми являлись тесно переплетавшиеся друг с другом идеи нации и государства. Именно они выступали базовыми элементами идентичностей, которые стремились выстроить как правительственные и кадетские, так и социалистические идеологи. Однако интерпретации их существенно различались. Транслируя населению идею единства нации, официальная и проправительственная пресса формировала образ идеального гражданина - патриота, сознательного и готового на жертвы ради сохранения и процветания государства. Для наполнения образа использовались актуализируемые в том или ином контексте позитивные характеристики британцев и французов, служивших своего рода эталонами. Российский гражданин-патриот позиционировался соответственно как европеец, не чуждый соответствующим ценностям, вынужденный с силу отсталости учиться у представителей «просвещенного Запада». Подобная риторика была присуща и социалистам, которые, будучи в оппозиции правительству А. В. Колчака, также активно спорили и с кадетами, а потому использовали представления о союзниках в рамках политической борьбы. Идея возрождения государственности, красной нитью проходившая через лозунги и тексты официальных и партийных антибольшевистских изданий, понималась и интерпретировалась различными антибольшевистскими группировками по-разному. В то время как «государственно-мыслящие» авторы и идеологи искали в образах союзников подтверждения тезису о необходимост и укрепления диктатуры во имя законности, сплочения общества и государства ради победы, «революционная демократия» обращалась к теме важности сохранения народовластия и солидарности социалистического движения России и Запада. Актуализация образов англичан и французов - основных союзников России по мировой войне - в качестве «значимого Другого», образца и эталона, стала отражением активных попыток формирования идентичности антибольшевистского движения, альтернативы тому, что предлагали населению красные. Несмотря на незавершенность и схематичность, а также ряд противоречий, вызванных неоднородностью самого антибольшевистского движения, ей была присуща базовая и разделяемая большинством его участников характеристика. А именно западнический взгляд на дальнейшие пути развития России, которая признавалась хотя и отстававшей, но неотъемлемой частью Европы и Западной цивилизации в целом. Так, идея ученичества России, возникшая еще в XVIII в. [17. С. 112], вновь оказалась востребована в контексте борьбы с другой моделью развития страны, предлагаемой большевиками, впрочем, также являвшейся западнической. Представляется, что избранная антибольшевистскими силами стратегия аргументации оказалась малоуспешной в силу того, что призывы к возрождению государственности и рассуждения о национальном самосознании не были нацелены на четко очерченную целевую аудиторию. Большинство населения востока страны, занятое выживанием в катастрофических условиях Гражданской войны, было далеко от рефлексии, сложных рассуждений публицистов и лозунгов омских политиков. Обращение к идеализированным образам союзников на фоне двойственной и непоследовательной политики стран Антанты и злоупотреблений интервентов в самой России лишь негативно сказывалось на стабильности антибольшевистских политических режимов.
Ключевые слова
интервенция,
Российское правительство А.В. Колчака,
Временное Всероссийское правительство,
Временное Сибирское правительство,
образ Другого,
Франция,
ВеликобританияАвторы
| Конев Кирилл Александрович | Томский государственный университет | канд. ист. наук, ассистент кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории; зав. отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки | konev-k-92@rambler.ru |
Всего: 1
Ссылки
Н.В.Н. Вчера, сегодня, завтра (немножко философии) // Военные ведомости. Новониколаевск. 1918. 29 ноября.
Н-н. Заметки о национальном начале // Сибирская речь. Омск. 1918. 4 сент.
Нагорский Н. К нашему национальному возрождению // Отечество. Омск. 1919. № 7-8. С. 16-19.
Арнольдов Л. Стыдно! // Амурская жизнь. Благовещенск. 1919. 19 (6) июл.
Добрейр. К реформе профессиональных союзов // Голос народа. Томск. 1918. 7 авг.
Политика и карманы // Дальневосточное обозрение. Владивосток. 1919. 26 марта.
Леутов Дм. Возрождение России - дело демократии // Голос народа. Томск. 1918. 6 авг.
Омск, 12 ноября // Вестник Временного Сибирского Правительства. Омск 1918. 12 нояб.
Бейлин М. Р. Дневник // Сибирская жизнь. Томск. 1919. 5 марта.
Иркутск, 28 марта // Свободный край. Иркутск. 1919. 28 марта.
Жардецкий В.А. Аристократическая демократия // Сибирская речь. Омск. 1919. 21 (3) февр.
Война. На западноевропейском театре войны // Народное дело. Красноярск. 1918. № 14. 14 (1) апр.
Сверженский С. Французские настроения // Правительственный вестник. Омск. 1919. 15 марта.
Тем, кто за родину // Уральский маяк. Верхнеуральск. 1919. 26 февр.
Кровавые итоги войны // Вестник Томской губернии. Томск. 1919. 3 февр.
Германское наступление на французском фронте // Сибирская жизнь. Томск. 1918. 15 июн.
Кудрявцев В. Политические заметки // Сибирский вестник. Омск. 1918. 3 нояб.
Новониколаевск, 30 ноября // Военные ведомости. Новониколаевск. 1918. 30 нояб.
Кривоногова С.А. П.Н. Милюков об Англии, англичанах и их политике // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2013. Т. 13. № 2. С. 37-39.
Арнольдов Л. Иностранное обозрение. В Англии // Единая Россия. Омск. 1919. № 2. С. 18-19.
Оболонкова М. А. Репрезентация образа англичан в сознании российских интеллектуалов и Первая мировая война // Вестник Пермского университета. История. 2017. Вып. 3 (38). С. 48-55.
Ясенев Вл. Беспочвенность партийности // Русская речь. Новониколаевск. 1918. 19 окт.
Шендриков И. К моменту // Военные ведомости. Новониколаевск. 1918. 24 нояб.
Розенберг Д. На ту же тему. Прежде и теперь // Народная газета. Томск. 1919. 9 февр.
Тетерин Н. Побольше откровенности // Новый луч. Барнаул. 1918. 25 авг.
Иркутск, 15 марта // Мысль. Иркутск. 1919. 15 марта.
Итоги и перспективы // Дальневосточное обозрение. Владивосток. 1919. 12 марта.
Дарский. В чем разница // Новый алтайский луч. Барнаул. 1919. 8 марта.
Розенберг Д. Мирная конференция и русский вопрос // Народная газета. Томск. 1919. 28 янв.
Лавров Н. По поводу одной речи // Свободная Сибирь. Красноярск. 1918. 24 (11) окт.
Казанцев И. Чего они хотят? // Знамя труда. Красноярск. 1918. 11 нояб.
Иркутск, 8 ноября // Свободный край. Иркутск. 1918. 8 нояб.
Е.Р. К победе союзников // Русская речь. Новониколаевск. 1918. 22 нояб.
Гинс Г.К. Россия во время и после войны // Правительственный вестник. Омск. 1918. 29 нояб.
Зимина В.Д. Белое дело взбунтовавшейся России. М. : РГГУ, 2006. 472 с.
Иркутск, 26 сентября // Свободный край. Иркутск. 1918. 26 сент.
Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р200. Оп. 1. Д. 115.
Неверов Д. Устои правового порядка // Дальневосточное обозрение. Владивосток. 1919. 20 марта.
Тени прошлого // Дальневосточное обозрение. Владивосток. 1919. 13 апр.
Наше исповедание веры // Отечественные ведомости. Екатеринбург. 1918. 8 окт. (25 сент.).
Лавров Н. Всероссийский Правительствующий Сенат и Сибирский Высший Суд // Свободная Сибирь. Красноярск. 1918. 9 окт. (26 сент.).
К населению // Правительственный вестник. Омск. 1918. 20 нояб.
Хандорин В.Г. Национальная идея и адмирал Колчак. М. : Русский Фонд содействия образованию и науке, 2017. 624 с.
Беседа с Н.Р. Авксентьевым // Сибирский вестник. Омск. 1918. 17 авг.
Грамата Временного Всероссийского правительства ко всем Областным Правительствам и ко всем гражданам Государства Российского // Вестник Временного Всероссийского Правительства. Омск. 1918. 6 нояб.
Временное Сибирское правительство (26 мая - 3 ноября 1918 г.) : сб. док. и материалов / сост. и науч. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск : ИД «Сова», 2007. 818 с.
Психология общения: энциклопедический словарь / под общ. ред. А.А. Бодалева. 2-е изд., испр. и доп. М. : Когито-Центр, 2015. 671 с.
Репина Л.П. «Национальный характер» и «образ другого» // Диалог со временем. 2012. Вып. 39. С. 9-19.
Нойманн И.Б. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М. : Новое издательство, 2004. 336 с.
Папилова Е.В. Имагология как гуманитарная дисциплина // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Филологические науки. 2011. № 4. С. 31-40.
Сенявский А.С., Сенявская Е.С. Историческая имагология и проблема формирования образа врага (на материалах российской истории ХХ в.) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2006. № 2 (6). С. 54-72.
Волков Е.В., Ирвин Д. «Русский Вашингтон» или сибирский диктатор? Образы и оценки А.В. Колчака как Верховного правителя в американской прессе (1918-1920) // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2016. № 4. С. 104-123.
Волков Е.В., Ирвин Д.А. В. Колчак как политик: образы и оценки Верховного правителя в британской прессе (1918-1920 годы) // Новый исторический вестник. 2016. № 47. С. 87-100.
Стельмак М. М. Образ иностранных союзников антибольшевистского движения в периодической печати Западной Сибири (май 1918 -декабрь 1919 гг.) : дис.. канд. ист. наук. Омск, 2016. 326 с.
Глущенко Н.А. Гражданская война и интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке в оценках американской периодической печати (конец 1917 - апрель 1920 гг.): по материалам газеты «The New York Times» : автореф дис.. канд. ист. наук. Томск, 2014. 24 с.
Издания междисциплинарного научного семинара по истории взаимовосприятия культур «Россия и мир». URL: http://rosmir.iriran.ru/publication.php (дата обращения: 15.11.2020).
Сергеев Е.Ю. Большевики и англичане. Советско-британские отношения, 1918-1924 гг. От интервенции к признанию. СПб. : Наука, 2019. 832 с.
Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М. : РОССПЭН, 2006. 288 с.
Поршнева О.С. Эволюция представлений о союзниках в массовом сознании революционной России 1917 // Уральский исторический вестник. 2014. № 1 (42). С. 43-52.
Поршнева О.С. Этнические и внешнеполитические стереотипы в формировании мифологии союзничества в годы Первой мировой войны (1914-1916) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2011. № 3. С. 62-76.
«Свои» и «Другие»: взаимодействие и восприятие культур Запада и России (К юбилею Виктора Леонидовича Малькова) / отв. ред. Т.Л. Лабутина. СПб. : Алетейя, 2020. 468 с.
Голубев А.В. «Подлинный лик заграницы»: образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922-1941 гг. М. : Ин-т Рос. ист. РАН, 2018. 282 с.
Голубев А.В., Невежин В.А. Формирование образа советской России в окружающем мире средствами культурной дипломатии, 1920-е первая половина 1940-х гг. М. : Ин-т Рос. ист. РАН, 2016. 238 с.
Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М. : Новый хронограф, 2011. 392 с.
Smele J.D. The «Russian» Civil Wars, 1916-1926: Ten Years that Shook the World. London, 2015. 480 p.
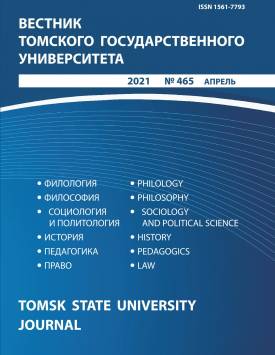

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью