Рассмотрено восприятие старообрядцами сущности книги и ее роли в сохранении и передаче накопленного духовного опыта. Особое внимание уделено отношению староверов к книге как священному предмету и носителю божественной истины. На основе неопубликованных источников, извлеченных из фондов центральных (ГАРФ, РГИА) и региональных (ЦГАКО, ЦГАУР) архивов, проанализирована политика властей по отношению к старообрядческой книжности и рассмотрена ее реализация в Вятской губернии.
The Confessional Policy of the Russian Authorities in Relation to the Old Believer Books in the Second Half of the 19th .pdf Отношение старообрядцев к культурному наследию определялось следующим принципом: «Культура есть память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества» [1. С. 8]. Старообрядцы считали своим долгом сохранение накопленного духовного опыта и его передачу следующим поколениям. Именно «ревнителям древнего благочестия» мы обязаны сохранением памятников древнерусской книжности и иконописания. Книжная культура - неотъемлемый и богатейший пласт мировой культуры в целом. С особым благоговением и почитанием старообрядцы относились к древним книгам дониконовского письма, рассматривая их как источник непререкаемой истины. Правка книг по «греческим новопечатным» образцам и изменения в обрядовой стороне религии, осуществленные в ходе реформ патриарха Никона, стали важнейшей причиной раскола в Русской православной церкви. При этом особое внимание исследователи обращают на исправление богослужебных текстов, что для старообрядцев означало «искажение богооткровенной истины» [2. С. 83]. В частности, Н.Н. Покровский подчеркивал, что особую значимость старообрядчеству придавало его возникновение «в форме протеста против никоновского исправления старых книг» [3. С. 19]. Мировоззрение, психология русского человека не допускали возможность принять мысль о том, что русские обряды и книги являются неверными по сравнению с греческими. Православные верующие на Руси были убеждены: именно Москва как Третий Рим сохранила «праведную», подлинную православную веру. Следовательно, даже если и были выявлены какие-то неточности, ошибки, обусловившие разницу между русскими и греческими книгами и обрядами, то, в соответствии с рассуждениями русского христианина, виноваты в этом греки. Более того, торопливость, с которой осуществлялась правка книг, и насильственное введение новопечатных книг были восприняты старообрядцами как знак наступления царства антихриста. Антихрист трактовался старообрядцами по-разному. Одни видели его воплотившимся в патриархе Никоне - виновнике раскола, другие -в царе Алексее Михайловиче, поддержавшем его, и наконец, третье объяснение образа антихриста предполагало его восприятие как совокупного зла, накопившегося в мире в связи с проведением реформ в Русской православной церкви. По мысли А. В. Карташева, «нетактично вводимая Никоном правка книг по темпу, по широте охвата, по чуждости своего источника и по обидности ее для... подлинного православного самосознания русских людей» привела к волне всеобщего протеста [4. С. 170]. В 1724 г. в Тюменском уезде добровольно лишили себя жизни через самосожжение местные старообрядцы. Перед смертью они изложили причины своего самоубийства митрополиту Антонию: «Сего ради оставляем домы, и все имение свое, и идем на вольную смерть: за старопечатные седми соборов книги, как святые нас учили» [3. С. 29]. Книга была настолько нужна и близка душе старовера, что «даже говоря о важнейшем», он помнил о ней [5. С. 102]. Одна из главных черт старообрядческой книжности (как и всей традиционной книжной культуры) - преемственность. Через книгу осуществляется процесс накопления и передачи духовного опыта человечества. Для старообрядцев это, прежде всего, христианская вера, религиозные обряды и обычаи. Книга рассматривалась ими как носитель святости и незыблемых традиций. Этим обусловлено особое обращение с книгой - уважительное, бережное, трепетное. Так, И.А. Мельников в своем исследовании приводит быличку, записанную в Новгороде Великом: «Одна из книжниц по ошибке поставила на полку книгу в перевернутом виде. После этого ей стало казаться, что книгу шатают «беси», которые радовались небрежному обращению со священным предметом. Тогда книжница с Исусовой молитвой переставила книгу, как подобает, и видение исчезло». Значимым представляется и второй упомянутый автором сюжет: «Христианин, сидя дома и читая Писание, не проявлял должного уважения к книге: сидел, не подпоясавшись, и барабанил пальцами по столу. В наказание за это Богородица отвернула от него лик, а в углу стали плясать “шишки”, т.е. бесы» [6. С. 127-128]. В связи с тем, что на протяжении длительного периода старообрядцы подвергались гонениям со стороны властей и не имели права совершать общественное богослужение, особое значение в их среде приобрели домашние моления, а это, в свою очередь, обусловило необходимость наличия богослужебных книг в личном пользовании. Отсутствие таковых «ставило старообрядца в трудное положение, без них он лишался возможности необходимого общения с Богом, что было недопустимо для верующего человека» [7. С. 539]. Однако книги могли принадлежать не только отдельным людям. Во многих старообрядческих общинах имелось достаточно большие библиотеки (100 и более книг). Такие книги, принадлежавшие всей общине, назывались «соборными». Мотивация практики коллективного владения книжным собранием точно определена Е.Е. Дутчак: «... книга является символической основой внутригрупповой консолидации. Закрепление за старинной книгой задачи сбережения “знания о спасении избранных” не позволяло считать её собственностью одного человека: истиной должен обладать каждый из “остальцев”» [8. С. 158]. Учитывая подобное отношение к книге, становятся понятны записи на полях некоторых старообрядческих рукописей и изданий, приводимые И. В. Поздее-вой: «Сия книга куплена за церковные деньги за 50 рублей. Не твоя и не моя», «Книга всеопщая» [9. С. 134]. Книга в такой ситуации играла роль цементирующего стержня: «ею могли пользоваться все без исключения члены общины, даже если они были расселены на большой территории» [2. С. 87]. При этом большое внимание старообрядцы уделяли использованию книги, ее функционированию в среде «ревнителей древнего благочестия». Книга «. должна постоянно читаться - ведь наставник и даже простой грамотей-старообрядец прекрасно сознают, что при помощи книги они воспитывают единомышленников» [10. С. 127]. Грамотные старообрядцы - знатоки религиозной литературы - пользовались особым уважением своих единоверцев. Чтение являлось обязательным для душевного здоровья, оно воспринималось как душеспасительный процесс, имеющий сакральное значение. Большую часть литературы, хранившейся в домах старообрядцев и их общественных молельнях, составляли книги богослужебные, литургические. Особое внимание, которое уделяли староверы такой литературе, объясняется тем, что «неизмеримо важной своей функцией в преддверии Второго пришествия старообрядчество считает. молитвенную службу Господу» [11. С. 18]. Старинные книги бережно хранились, переписывались и передавались по наследству. Осознание высокой значимости и роли книги способствовало активному развитию грамотности в среде старообрядцев. Вопрос об уровне грамотности старообрядцев по-разному рассматривался представителями духовенства официальной церкви и светскими исследователями данной темы. В частности, православные служители культа оценивали старообрядцев как невежественных, абсолютно необразованных людей, чьи убеждения держатся лишь на силе упорства в отстаивании своих взглядов и на сплоченности и взаимовыручке в рамках общины. Так, священник села Кузнецово Уржумского уезда указал в своем донесении: «Грамота среди раскольников распространена очень мало, они очень мало знают об учении церкви и о расколе...» [12. Л. 2]. Светские же историки, особенно современные, напротив, отмечают весьма высокий уровень грамотности «ревнителей древнего благочестия». «Старообрядчество, - пишет М.О. Шахов, - характеризовалось крайне высокой грамотностью и интересом к книжности» [13. С. 25]. Дети старообрядцев, как правило, получали домашнее образование, поскольку закон не разрешал им открытие собственных школ. Последние функционировали, но нелегально, до момента обнаружения властями и закрытия. Посещение учебных заведений, где обучались адепты официальной церкви, родители долгое время не считали возможным для своих детей в силу серьезной религиозной конфронтации. Характеризуя процесс обучения у старообрядцев, В.Г. Сенатов пишет: «В данном случае не было школьного образования в нашем смысле, а произошло чисто народное, стихийное распространение грамотности. Деды, имеющие внуков, отцы, озабоченные о родителях и собственных детях. все находили возможным отрываться от своих злободневных занятий, научились грамоте и трепетно читали священные строки старых книг» [14. С. 31-32]. Стремление к грамотности, книжности всегда отличало староверов. Согласно статистическим данным, средний уровень грамотности в Европейской России в 1908 г. составлял 23%, в то время как в старообрядческой среде он равнялся 36%, а в северных областях достигал даже 43% [15. С. 201-202]. Конечно, мнение православных пастырей является необъективным и предвзятым. В то же время нельзя идеализировать ситуацию. Согласно данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., уровень грамотных старообрядцев в Вятской губернии составлял 15,2%. Это сопоставимо с аналогичным показателем у православных - приверженцев официальной церкви - 15,7%, однако по уровню грамотности староверы значительно уступали лютеранам (85,2%), католикам (73,5%), иудеям (65,5%) и мусульманам (23,3%) [16. С. 90]. Именно старообрядцам «как носителям “обаятельного образа святой Руси” пришлось пережить жесточайшие преследования, ценой собственных страданий и жизней отстоять то, что составляет духовную сокровищницу православия» [17. С. 222]. Осознание своей ответственности за книгу побуждало старообрядцев бороться за сохранение книг, возвращение «тетрадок», «листов» и книг, изъятых представителями официальной власти. При этом они подавали прошение на имя вятского губернатора, епископа и даже самого императора. Однако в большинстве случаев книги не возвращались крестьянам-староверам, а по рассмотрении в Вятской духовной консистории отправлялись в ризницу кафедрального собора для секретного хранения или во второй департамент МВД (самые опасные из них с точки зрения церкви); богослужебные книги отсылались в местную единоверческую церковь; книги, которые могли быть использованы при работе в миссионерском отделении, передавались в семинарское правление, епархиальную библиотеку или библиотеку братской «противорасколь-нической» школы. Так, 31 октября 1867 г. при обыске в доме крестьянина деревни Горки Большепорекской волости Малмыжского уезда Ивана Ивановича Уточкина была найдена старинная книга в кожаном переплете, содержание которой составляли сказания о различных аспектах христианской веры. Вятская духовная консистория обнаружила в ней некоторые несоответствия учению Русской православной церкви. Например, «в трактате... о пришествии антихриста говорится, что в то время посланы будут от Бога Енох и Илия, как писано в 11 главе Апокалипсиса, чего вовсе нет в обозначенной главе» [18. Л. 6-6 об.] и т.п. В соответствии с указом Святейшего Синода от 30 апреля 1858 г. книга Уточкина была отправлена в семинарское правление для использования при работе в миссионерском отделении. При обыске в домах крестьян Глазовского уезда Архипа Вахрушева и его отца Авраама были обнаружены книги религиозного содержания, в числе которых молитвы («Да воскреснет Бог» и др.), статьи «об Адаме, о суете земной жизни, о пустынничестве, о страданиях Христовых, о приближении смертного часа, о страшном суде, о мучении грешников и блаженстве праведников. о Рождестве Христа Спасителя» и др. [19. Л. 3 об.]. Часть из них, по заключению Вятской духовной консистории от 14 декабря 1872 г., содержала негативные отзывы в адрес официальной церкви и ее духовенства, например: «Ах, увы, увы, благочестие, увы древнее! Кто лучи твои вскоре по-темни? Кто блистания так измени?.. Седьмиглавый змий тако учини. Весь церковный чин зверски преврати. Все предания злобно истреби. Церкви Божия осквернишася, жалом новшества умертвишася. Все пастыри помрачилися, в еретичестве потопилися» [19. Л. 4]. Вследствие обозначенной причины консистория сочла необходимым препроводить данные книги в епархиальную библиотеку при кафедральном соборе. В библиотеку братской «противораскольниче-ской» школы, как «полезные для справок в потребных случаях», были отправлены Шестоднев, Минея праздничная, Златоуст, Меч духовный, Служба в неделю Пасхи, изъятые у старообрядцев Фомы Коротаева и Степана Чернышова. В данном случае представители духовенства обратили внимание на то, что большая часть названных книг издавалась в не разрешенных правительством типографиях [20. Л. 19 об.]. В Синодике за усопших, обнаруженном в доме крестьянина починка Прасковского Шишкинской волости Орловского уезда Павла Агалакова, протопоп Аввакум и «подобные ему противники церкви» были представлены как мученики за «святое дело». В силу этого книгу не вернули владельцу, а отправили на хранение в Вятскую епархиальную библиотеку. Аналогично поступили с Шестодневом, Требником и рукописной тетрадкой, поскольку они, по замечанию протоиерея С. Кашменского, содержали в себе «довольно нелепостей», в частности «мысли об антихристе, не согласные с учением православным» [21. Л. 3]. Книги, противоречащие учению Русской православной церкви, были изъяты глазовским уездным исправником у крестьян починка Чернышевского Му-хинской волости Зота и Василия Чернышовых. Например, при рассмотрении двух рукописей - Цветников, содержащих цитаты из Священного Писания, Кирилловой книги, Книги о вере, Катехизиса, были обнаружены «злонамеренные и вредные приписки», такие как: «Много свидетельства Св. Писания указу-ют нам, яко Никон еретик и богоотступник»; «Вос-приимут человецы печатьею три тайны антихристовы. Три тайны суть три перста десныя руки окажутся: первый перст лев, второй сказуется змий, третий сказуется лживый пророк, посреде же сам сатана.»; «По истине может глупый понять, что не пастыри то -волки, хищники, разбойники, новые жиды. потому что все книги вопиют. Во время антихристово не будет ни жертвы, ни приношения, ни кадила. священство истребится. агнец будет антихристов; Взяли агнец, да и кроетеся и обманываете, человеки, мы истинные священницы и агнец у нас Христов.» [22. Л. 8 об., 8, 9]. В текст одной из рукописей входило также стихотворение об антихристе: «Наступила зима, зело люта, уби виноград все зеленный. Дух антихристов возвыл на нас, смути веру всю православную. Оскверни души христианские. Каковых святых мы лишилися, живем ныне гласа пастырей не слышим, наставляющих ко спасению. Не имеем мы покаяния, умираем мы без причастия. Скитаемся мы все без пастырей. Лика святителей не видим. Чин священнический сребром весь пленен.» [22. Л. 9]. В книге, содержащей учение Св. Геннадия Константинопольского о вере, в конце приводятся две повести о патриархе Никоне. В первой рассказывалось о том, что игумен Елизар во время чтения Евангелия будто бы видел на патриархе Никоне черного змия. Во второй повести перед читателями предстает патриарх Никон в окружении множества бесов, которые, посадив его на престол, кланяясь, обращались к нему со словами: «Поистине ты любезный друг наш, так как помог нам крест Мариина сына изгнать, низложить и преодолеть» [22. Л. 9]. Чернышовы неоднократно обращались с просьбой вернуть отобранные у них книги. Свои ходатайства они направляли в Вятскую духовную консисторию, Святейший Синод, епископу Вятскому и Слободскому. В них крестьяне обязались даже дать подписку в том, что не покажут и не будут читать свои книги никому из адептов Русской православной церкви. Но ни одно из прошений Чернышовых не было удовлетворено в связи с наличием в их книгах мыслей, направленных против вероучения официальной церкви и самого патриарха Никона. Изъятые книги остались храниться в ризнице кафедрального собора. Среди книг, обнаруженных становым приставом Малмыжского уезда при обыске в доме крестьянки Соломониды Авдотьевой, оказалось «Слово от старчества». В связи с тем, что рукопись была направлена против солдатских наборов, употребления чая, сахара, табака, нового покроя платья, ее отправили к ключарю кафедрального собора для хранения в ризнице [23. Л. 10 об.]. Вятская духовная консистория сочла «исполненными наглою клеветою и злостною бранью» на официальную церковь книги, отобранные становым приставом Нолинского уезда у старообрядца, унтер-офицера Семена Перминова, проживавшего в починке над Талым Ключом Сюмсинской волости Глазовского уезда. Среди них «Чин исповедания и перекрещивания», «Слово о каноне церковном», «Канон, как подобает петь за творящих милостыню», Устав о поклонах, пище, молитвах, о поморских отцах и др. Например, в рукописной тетради «Толкование о крестном знамении» содержалось «злохуление» на епископа Нижегородского Питирима и на всех православных; в рукописной книге «Из Соловецкого цветника» утверждалось, что «православных следует непременно перекрещивать, якобы держащихся всех ересей и во всем согласующихся с лютейшим еретиком Папою Римским». Учитывая содержание книг, было решено отправить их в ризницу кафедрального собора для хранения [24. Л. 4 об.]. В ряде случаев старообрядцы обращались за помощью к епархиальному начальству. Так, в 1868 г. дважды посылал «просительные письма» епископу Вятскому и Слободскому Аполлосу крестьянин Николай Порсев. В 1862 г. сарапульский городничий с полицмейстером Ижевской заводской полиции Романовским арестовали Аристарха Рябова за совершение им церковных служб по обрядам староверов-поповцев. Во время обыска в его доме были найдены и изъяты богослужебные книги. Среди них оказались и книги Н . Порсева: Общая Минея, Часослов, Требник. После рассмотрения всех книг в Вятской духовной консистории только две из них вернулись к своим владельцам: Часовник и книга Иоанна Златоуста, принадлежавшие мастеровому Оглоблину. Н. Порсев же своих книг не получил. С просьбой распорядиться о высылке ему книг из консистории он обратился к епископу Вятскому и Слободскому Аполлосу. Однако в связи с тем, что в акте, составленном при обыске дома А. Рябова, не была зафиксирована принадлежность указанных книг именно Н. Порсеву, просьба старообрядца не была удовлетворена [25]. Отстаивая свои права, старообрядцы обращались и в центральные органы власти. Например, в ноябре 1867 г. в Министерство внутренних дел поступило ходатайство Натальи Телициной. Помощник глазов-ского уездного исправника Трапицын в ходе следствия по делу о распространении староверия крестьянином Иваном Седовым произвел обыск в ее доме и изъял несколько книг, в частности Часослов, Канонник, Часовник, Цветник, О страстях Христовых. По мнению Н. Телициной, данная экспроприация была осуществлена незаконно, поэтому она ходатайствовала о возвращении ей отобранных книг. Ранее она обращалась с такой просьбой к вятскому губернатору, но безуспешно. Подчеркивая важность для нее священных книг, Н. Телицина отметила, что она получила их от родителей по наследству. Однако все вышеперечисленные книги оказались «печатными в недозволенных типографиях», в связи с чем, по распоряжению епископа Вятского и Слободского Аполлоса, они были отосланы в семинарское правление для использования в миссионерском отделении [26. Л. 4 об.]. По выяснении обстоятельств дела прошение Н. Телици-ной не было удовлетворено и Министерством внутренних дел. Подобное негативное отношение властей к старообрядческой литературе объясняется тем, что должностные лица видели в ней мощный рупор пропаганды староверия. По мнению обер-прокурора Синода А.П. Ахматова, «обращение в простом народе печатных раскольнических книг, особенно при содействии лжеучителей, не может быть безопасно для православия» [27. Л. 2]. С руководством Святейшего Синода были согласны и представители местной администрации. В частности, вятский губернатор В. И. Чарыков в отчете о состоянии губернии за 1869 г. выделил в качестве одной из главных причин развития старообрядчества распространение книг, изданных самими староверами [28. Л. 3]. В связи с этим губернатор в числе мер по искоренению старообрядчества назвал запрет на продажу такой литературы (а также икон, лубочных картин) книготорговцами, часто приезжавшими из Владимирской губернии [29. Л. 80]. Тем не менее известны случаи, когда книги, изъятые местными властями у старообрядцев, возвращались их владельцам. Как правило, это были единоверческие и синодальные издания, не имевшие отношения к общественным богослужениям. В частности, Вятская духовная консистория сочла «для православной веры и христианской нравственности не опасными и безвредными» [30. Л. 5] три старопечатные книги «расколоучительницы» Евдокии Селивановой: Устав о христианском житии, включающий в себя правила о пище и поклонах в праздничные дни и в период поста, о епитимьях, налагаемых за грехи; Златоуст - собрание поучений Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Ефрема Сирина и др.; Пролог за три месяца (март, апрель, май). 13 декабря 1884 г. Вятская духовная консистория постановила вернуть книги «по принадлежности». Однако отметим, что участь самой Евдокии Селивановой, обвиненной в распространении староверия, была определена судом: решением Вятского окружного суда от 12 сентября 1885 г. ее выслали в Закавказский край на поселение. Книги, «для православия безопасные», оказались и среди литературы, изъятой у крестьянки Соломониды Авдотьевой, в частности: Канон пресвятой Богородице Казанской, Чин на разлучение души от тела, Канон святому Николаю Чудотворцу и др. После рассмотрения книг в Вятской духовной консистории они были возвращены их владелице [23. Л. 10 об. -11]. Получил обратно свои книги и старообрядец Федор Банщиков. Уржумское уездное полицейское управление препроводило их в Вятскую духовную консисторию, которая не обнаружила в них ничего противоречащего вероучению официальной церкви [31]. Показательно, что, воспринимая книгу как священный предмет, старообрядцы стремились не допустить ее попадания в руки адептов официальной церкви. «Я лучше в землю их закопаю, если не найду кому передать. Боюсь, что они в никонианскую церковь попадут», - подобные высказывания, звучавшие из уст старообрядцев, особенно старшего поколения, объясняют «базовое отличие восприятия книги как памятника культуры (культурного достояния) и книги как сакрального объекта» [8. С. 158]. Большую роль в распространении идеологии старообрядчества играли типографии. В период с 1701 по 1918 г. в стране существовало 40 старообрядческих типографий [32. С. 19]. Организаторами многих из них являлись крестьяне-староверы, например Л.А. Гребнев, И.И. Зыков, Д.Д. Крупин. Из среды «ревнителей древнего благочестия» вышли такие известные ценители и издатели книг, как К.Т. Солдатенков, О.В. Шевцов, П.А. Овчинников, Е.Е. Егоров, Ф.А. Каликин и др. Как справедливо отмечает И.В. Починская, «возникновение старообрядческого книгопечатания принадлежит к числу закономерных явлений нашей культуры, вызванных к жизни практическими интересами и идеологическими ориентациями определенной части русского общества» [33. С. 18]. Действительно, староверы, не приняв реформ патриарха Никона, отказались от использования «но-воисправленных» книг. Вследствие этого они вынуждены были прибегнуть к переписыванию древних книг и перераспределению их в своей среде [34. С. 85]. Однако неизбежностью являлось изнашивание книг в ходе их постоянной эксплуатации, а переписывание было трудоемким и длительным процессом. Кроме того, напечатанная книга позволяла избежать многих ошибок, которые порой допускались переписчиками в ходе работы, и, следовательно, была более точной. Вышеуказанные факты побудили старообрядцев заняться издательской деятельностью и тем самым пополнить свой книжный фонд. Первая старообрядческая типография появилась в 80-е гг. XVIII в. в посаде Клинцы Сурожского уезда Черниговской губернии. Ее организаторами стали купцы Василий Яковлевич Железников, Дмитрий Степанович Рукавишников, Яков Климентьевич Железников [35. С. 56]. Функционирование типографии позволило старообрядцам в сжатые сроки издать необходимую литературу. Подчеркнем, что вплоть до 1905 г. старообрядческое книгопечатание находилось под запретом. Как светские, так и духовные власти занимали в этом вопросе непримиримую позицию. До выхода в свет указа «Об укреплении начал веротерпимости» 17 апреля 1905 г. продолжал действовать постулат, выдвинутый еще в начале XVIII в. московским архимандритом Златоустовского монастыря Антонием, а именно: старообрядческие издания «не только противны святой церкви, но и гражданству» [36. С. 34]. Не случайно местные власти прилагали большие усилия с целью выявления и пресечения деятельности книгопечатников. Одна из типографий Вятской губернии, по сообщению пристава второго стана Сарапульского уезда, находилась в землянке, вырытой в огороде, возле жилой избы крестьянина деревни Се-нихи, старообрядца Филата (по духовным росписям -Феофилакта) Порсева. По данным пристава, Ф. Пор-сев тайно печатал там книги. Несмотря на то, что вина крестьянина не была доказана, в его доме при обыске обнаружили 128 листов бумаги разного формата, две рукописные тетради, выписки из Священного Писания и типографские принадлежности [37. Л. 9]. Все это косвенно подтверждало деятельность Ф. Порсева по изданию книг. Во время проведения следственных мероприятий его не оказалось дома. По словам брата, Тимона Порсева, Филат еще за две недели до этого ушел из дома, не известив никого о предполагаемом месте пребывания. Согласно показаниям односельчан Ф. Порсев до 19 февраля 1862 г. не проживал в деревне Сенихе в течение двух лет [38. Л. 1 об.]. Становой пристав установил, что в то время он находился в деревне Маракуши Осинского уезда Пермской губернии. В связи с этим местному приставу было предписано следить, не появится ли Ф. Порсев там вновь. Таким образом, за старовером, подозреваемым в печатании книг, устанавливался строгий полицейский надзор. Факты закрытия старообрядческих типографий, преследования их владельцев можно выявить и на общероссийском материале. В частности, в мае 1877 г. полиция обнаружила типографию в Москве в доме Алексея Овчинникова, где на четырех станках работали десять человек. В ходе следствия было изъято несколько десятков книг, хранившихся в типографии. Однако это не остановило старообрядцев: они не прекратили свою книгоиздательскую деятельность. Спустя несколько лет, в 1885 г. в Сыромятниках была вновь обнаружена типография Алексея Овчинникова, а в 1893 г. полиция закрыла типографию в селе Банее-ве Борисоглебского уезда Ярославской губернии, владельцем которой являлся брат Алексея Овчинникова - Андрей. Отбывшие наказание Овчинниковы, не побоявшись в очередной раз быть уличенными в противозаконной деятельности, попытались продолжить свою работу. В июле 1894 г. полиция выявила и закрыла типографию в городе Богородске Московского уезда, принадлежавшую Андрею Овчинникову. После этого книгоиздательская деятельность братьев Овчинниковых не возобновлялась [39. С. 146-147]. В 1902 г. полицией был обнаружен книжный склад, где хранилась старообрядческая литература. Его владельцем оказался Г.А. Клинов. Вскоре после этого закрыли типографию Д.Д. Крупина в селе Черкизово [39. С. 148]. Только с изданием указа 17 апреля 1905 г. старообрядцы получили возможность легально заниматься книгопечатанием. Тогда появились типографии в Ба-лахне, Нижнем Новгороде, Саратове, Уральске и других городах. Крупнейший в Вятской губернии старообрядческий книгоиздательский центр находился в селе Старая Тушка. В 1908 г., с разрешения Министерства внутренних дел, Лука Арефьевич Гребнев открыл там «типографию со словолитней для печатания на церковно-славянском языке старообрядческих богослужебных и других религиозно-нравственного содержания книг, а также изготовления необходимого для этой цели шрифта» [40. Л. 2]. Л.А. Гребнев родился в октябре 1868 г. в деревне Дергачи Уржумского уезда в семье старообрядцев федосеевского согласия. В родной деревне он освоил иконописное мастерство, а живя в Москве, работал в старообрядческой типографии Г.К. Горбунова. Вернувшись из Москвы опытным типографом, Л. Гребнев в 1900 г. организовал в деревне Дергачи тайную типографию, которую впоследствии, в 1906 г., приобрела московская Преображенская община [41. С. 11]. Таким образом, в течение нескольких лет Л. Гребнев издавал книги, и в каждой из них на последней странице отмечал, что они печатались в Почаевской типографии [42. С. 13]. Разрешенную законом типографию, как мы уже отметили выше, Л. Гребнев открыл в селе Старая Тушка в 1908 г. Она размещалась на первом этаже двухэтажного деревянного дома. В ней печаталась богослужебная литература, а также поздравительные открытки к религиозным праздникам. Книги, издаваемые в тушкинской типографии, отличались высоким качеством. Они печатались на хорошей бумаге и одевались в кожаные переплеты. Благодаря доступной цене, эти книги пользовались спросом не только в Вятской губернии, но и за ее пределами. Типография в Старой Тушке приостановила свою работу в 1915 г., а 18 октября 1918 г . была окончательно закрыта [43. Л. 80 об.]. В указанном году прекратили свою деятельность многие типографии староверов. Это было связано с тем, что большевики рассматривали религиозно-издательские центры (в том числе старообрядческие) как «рассадники мракобесия» [44. С. 5]. Смена конфессионального курса в отношении ста-рообрядцев-поповцев и умеренных беспоповских толков в рассматриваемый период практически никак не повлияла на положение старообрядцев-странников. Странники (или бегуны) относились к крайне радикальному направлению в беспоповщине. Создателем толка, возникшего в середине XVIII в., был уроженец Переяславля-Залесского Евфимий. Некоторое время он жил среди филипповцев, однако затем разочаровался в них и создал самостоятельную религиозную структуру. Как и в других старообрядческих согласиях, исходным пунктом вероучения странников было положение о воцарении антихриста. Но если умеренные старообрядческие течения понимали под антихристом нечто мысленное, как совокупность всех отступлений от «старой веры», то бегуны персонифицировали его с конкретными лицами, стоявшими у власти. По их мнению, воплощениями дьявола были все царствующие особы, начиная с Петра I. «Апокалипсический зверь, - писал Евфимий, - есть царская власть, икона его - власть гражданская, тело его -власть духовная» [45. Л. 99]. Поскольку простые смертные не могли победить дьявола, то единственный способ очищения от скверны и спасения - полный разрыв с «миром» и бегство от «власти антихристовой». Евфимий и его последователи призывали порвать все связи с обществом и уклоняться от всех гражданских повинностей - «видимых знаков власти антихристовой: записи в ревизии, платежа податей, военной службы, паспортов, присяги» [46. С. 642]. В обоснование своих взглядов странники приводили следующее библейское изречение: «...Дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Хотя впоследствии догматика странников претерпела некоторые изменения (особенно в 60-70-х гг. XIX в.), но основные ее положения остались неизменными. Так, сектантские проповедники, действовавшие в 90-х гг. XIX в. среди крестьян Яранского уезда, учили, что «настало ныне время антихриста... служба царю есть служба антихристу, а потому не должно отбывать воинскую повинность, а для спасения надобно убегать в леса и пустыни и там поститься 40 дней по примеру самого Христа» [47. Л. 3]. Сарапульские бегуны, заметно активизировавшиеся накануне Первой мировой войны, требовали от своих единоверцев прекращения всяких связей с гражданским обществом, запрещали им фиксироваться в ревизиях, платить государственные подати, брать паспорта и пр. Они проповедовали, что «антихрист уже пришел в мир и царствует, то есть считали антихристом императора, а потому отвергали исполнение всех гражданских обязанностей, дабы по их понятиям не подчиняться власти антихриста» [48. Л. 93 об.]. Все странники делились на две категории: странствующих (или крещеных) и «жиловых» (прочие названия - «странноприимцы», «пристанодержатели», «благодетели», «мирские» странники). Данная градация не была изначальной. При Евфимии членом секты считался лишь тот, кто порывал с обществом и уходил в бега. Однако в условиях постоянных преследований со стороны властей организация не могла бы выжить без поддержки людей, оставшихся в миру. Жесткие условия членства закрывали доступ в общину богатым людям, привыкшим к оседлости, способным поддержать ее материально. Поэтому после смерти Евфимия (умер в 1792 г.) предпринимались попытки изменения условий приема. В результате деятельной борьбы между сторонниками и противниками членства странноприимцев родилось компромиссное решение: пристанодержатели зачислялись в секту при условии принятия одного лишь обета странствия. Но фактически они разрывали связи с миром и перекрещивались только перед смертью. «Мирские» странники жили открыто, платили налоги и исполняли все государственные повинности, но одновременно тайно поддерживали своих единоверцев, предоставляя им убежище и пищу. Порой у отдельных «жиловых» скрывалось сразу несколько странствующих. В Вятской губернии наиболее известным пристанодержателем являлся М. Рыболовлев, основавший в своем доме в Сарапуле целый бегунский скит [49. Л. 35]. Как и многие другие сектантские движения, странничество не осталось единым, а разделилось на ряд согласий. В первой четверти XIX в. возникло согласие так называемых безденежников. Его основатель Иван Петров (из Костромской губернии) считал необходимым отказаться от употребления денег, поскольку на них имелся государственный герб - «антихристова печать». Но уже тогда Петрова не поддержало большинство бегунов, главным образом жиловых странников. После проведения реформ 60-х гг. XIX в. и активного распространения в деревне буржуазных отношений число «безденежников» еще более сократилось. В Вятской губернии в конце XIX - начале XX в. их практически не было. Сарапульские бегуны признавали возможным держать деньги, поскольку они, по их мнению, «переходят из рук в руки и не составляют отличительной принадлежности того или иного лица» [48. Л. 93 об.]. Более того, многие местные странники не только принимали эту «печать антихриста», но и считали накопительство «богоугодным» делом, хотя и утверждали, что «сердце их к такому приобретению не слагается» [48. Л. 93 об.]. Негативное отношение странников к самодержавной власти и официальной церкви, а также бойкот ими гражданских повинностей приводили к тому, что секта подвергалась постоянным жестким гонениям. При этом полиция основное внимание уделяла обнаружению страннических скитов, а также задержанию религиозных проповедников, распространявших ее вероучение. Несмотря на очень серьезную конспирацию бегунов, правоохранительные органы периодически обнаруживали тайные старообрядческие молельни, при этом изымалось значительное количество религиозной литературы. Так, в 1895 г. были найдены два страннических скита в Сарапульском уезде (юго-восток Вятской губернии), один из которых располагался в самом Сарапуле в доме мещанки М. Гуменниковой [50. С. 11], а второй - в селе Июльском. В обоих случаях было найдено не только большое количество предметов, необходимых для совершения тайных молений, но и различная странническая литература. Кроме того, в ходе следствия полиции удалось установить связи сарапульских бегунов с единоверцами из других регионов страны, в частности из соседней Пермской губернии. Спустя шесть лет в Сарапуле была раскрыта еще одна тайная странническая молельня, находившаяся на Старцевой горе в доме крестьянина М. Рыболовлева. В ходе обыска обнаружили семь книг религиознонравственного содержания, в частности, Псалтырь, Каноник, Часослов и пр. Хотя все книги были разрешены цензурой, полиция все же изъяла их, передав в Сарапульское духовное правление. Впоследствии М. Рыболовлев неоднократно хлопотал о возвращении изъятых книг. «Ныне стало мне известно со слов станового пристава, что отобранные книги... подлежат возврату их прямому владельцу за отсутствием поводов к дальнейшему их задержанию, как не содержащие в себе ничего противоправного долгу христианской религии, общественному мнению и государственному строю. Потому прошу их вернуть», - писал Рыболовлев в ходатайстве в Сарапульское духовное правление [51. Л. 16-16 об.]. Длительное время его прошения оставались без ответа, и лишь 7 июля 1905 г. он все же получил назад свою литературу. Даже после издания указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905
Центральный государственный архив Удмуртской Республики. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2138.
РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 112.
Ивонин Ю.М. Старообрядцы и старообрядчество в Удмуртии. Ижевск : Удмуртия, 1973. 24 с.
ЦГАКО. Ф. 582. Оп. 40. Д. 113.
ЦГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1411.
Государственный архив Российской Федерации. Ф. 543. Оп. 1. Д. 424.
Христианство: энциклопедический словарь : в 3 т. Т. 2 / редкол.: С. С. Аверинцев (гл. ред.) и др. М. : Большая Российская энциклопедия, 1995. 670 с.
ЦГАКО. Ф. 6799. Оп. 8. Д. СУ-10165.
Вознесенский В.В., Мангилев П.И., Починская И.В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701-1918). Материалы к словарю. Екатеринбург : УрГУ, 1996. 81 с.
Петряев В. Вятские книголюбы. Киров : Волго-Вятское книжное изд-во, 1986. 279 с.
ЦГАКО. Ф. 582. Оп. 139. Д. 287.
Семибратов В. Типография Луки Гребнева // Уральский следопыт. 1991. № 2. С. 10-11.
ЦГАКО. Ф. 582. Оп. 84 а. Д. 82.
ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 15 е. Д. 648.
Починская И.В. Книгопечатание старообрядцев-федосеевцев во второй половине XIX - начале XX в. (до 1906 г.) // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 1997. С. 146-153.
Починская И.В. Старообрядческое книгопечатание XVIII - первой четверти XIX в. Екатеринбург : УрО РАН, 1994. 182 с.
Кочергина М.В. Русское старообрядчество и сохранение культурного наследия Древней Руси: история и современность // Вестник Брянского государственного университета. 2019. № 2 (40). С. 51-60.
Починская И.В. Старообрядческое книгопечатание XVIII - первой четверти XIX в. : дис.. канд. ист. наук. Свердловск, 1991. 342 с.
Поздеева И.В. Древнерусское наследие в истории традиционной книжной культуры старообрядчества (первый период) // История СССР. 1988. № 1. С. 84-99.
ГАКО. Ф. 237. Оп. 15 с. Д. 212.
ГАКО. Ф. 237. Оп. 15 л. Д. 407.
Поздеева И.В. Личность и община в истории русского старообрядчества // Мир старообрядчества. История и современность. Вып. 5. М. : Изд-во МГУ, 1999. С. 3-29.
РГИА. Ф. 797. Оп. 32. Д. 196.
РГИА. Ф. 797. Оп. 40. Д. 143.
ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 271.
ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 15. Д. 304.
Российский государственный исторический архив (далее - РГИА). Ф.1284. Оп. 219. Д. 44.
ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 193. Д. 112.
ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 15 л. Д. 529.
ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 193. Д. 654.
ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 15 с. Д. 293.
ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 15 л. Д. 378.
ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 15 к. Д. 195.
ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 15 м. Д. 670.
Баев В.Г., Давыденкова А.Г. Категория «духовность» в контексте старообрядческой культуры // Вестник Ленинградского государственного университете им. А.С. Пушкина. 2012. № 1, Т. 2. С. 220-228.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. Х. Вятская губерния. СПб. : Типография кн. В.П. Мещерского, 1904. 267 с.
Сельскохозяйственный и экономический быт старообрядцев (по данным анкеты 1909 г.). М. : Совет Всерос. съездов старообрядцев, 1910. 290 с.
Шахов М.О. Старообрядчество, общество, государство. М. : Симс, 1998. 104 с.
Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. М. : Церковь, 1995. 86 с.
Центральный государственный архив Кировской области (далее - ЦГАКО). Ф. 274. Оп. 1. Д. 4.
Поздеева И. В. Традиционная книжность современного старообрядчества // Мир старообрядчества. Вып. 1. Личность. Книга. Традиция. М.; СПб. : Хронограф, 1992. С. 11-27.
Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Старообрядческие библиотеки в Сибири (проблемы реконструкции) // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки : сб. науч. тр. Новосибирск : Наука, 1992. С. 125-130.
Поздеева И.В. Книжность старообрядческого Верхокамья : истоки, читатели, судьбы (по записям на экземплярах книг Верхокамского собрания НБ МГУ) // Традиционная культура Пермской земли : к 180-летию полевой археографии в Московском университете, 30-летию комплексных исследований Верхокамья. Ярославль : Ремдер, 2005. C. 120-140.
Дутчак Е.Е. Конфессиональная книжность как память культуры: опыт изучения старообрядческих скитских собраний конца XIX - нача ла XXI в. // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2013. № 4. С. 156-163.
Вознесенский А.В. Старообрядцы и их книгопечатная деятельность: проблемы изучения // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб. : Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург), 2016. Т. 64. С. 538-546.
Мельников И. А. Человек и книга в системе культурных практик новгородского старообрядчества // Вестник Новгородского государ ственного университета им. Ярослава Мудрого. 2013. № 73, Т. 1. С. 126-128.
Рябушинский В. Старообрядчество и русское религиозное чувство. М. : Мосты, 1994. 240 с.
Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви : в 2 т. М. : Терра, 1992. Т. 2. 569 с.
Романова Н.И. Книжная культура старообрядчества // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2007. № 1. С. 82-91.
Покровский Н.Н. О роли древних рукописных и старообрядческих книг в складывании системы авторитетов старообрядчества // Науч ные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. Сборник научных трудов. Вып. 14. Новосибирск, 1973. С. 19-40.
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре : Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). СПб. : Искусство, 1994. 398 с.
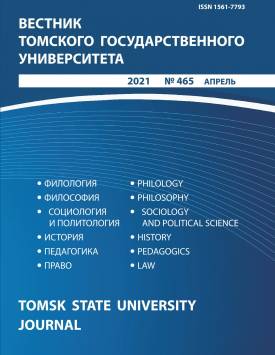

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью