Метафора болота в характеристиках социума
Рассматривается системная интерпретация социальной семантики слова «болото». Проанализированы словарные данные, позволившие выявить особенности лексикографической фиксации сведений о формировании значений «провинциальная среда», «застой в общественной жизни», «родина». По материалам Национального корпуса русского языка сделана выборка текстовых фрагментов со словом «болото», характеризующих человеческое сообщество. Выполнен анализ сочетаемости слова «болото».
The SWAMP Metaphor in Characteristics of Society.pdf Концепт БОЛОТО уже давно привлек и продолжает привлекать внимание своей значимой ролью в решении этногенетических проблем (особенно реконструкции локуса прародины славян) и моделировании детализованной языковой картины регионального ландшафта (см. труды Н.И. Толстого, В.М. Мокиенко, Т.А. Демеш-киной и др. [1-4]). Особый ракурс исследования этого концепта - анализ коннотаций, отраженных в паремиях, в структуру которых входит компонент болото. До сих пор при этом практически не исследовалась столь важная и актуальная семантическая ипостась концепта болота, как его социальная маркированность, ср.: Это люди общественные, это люди как нельзя более далекие от общественного болота (А. В. Луначарский. Смена вех интеллигентской общественности, 1921 - пример из архива авторов). Аксиологическая характеристика, собственно, и является отражением ментальной специфики отношения к болоту, лапидарно эксплицированной В. В. Колесовым: «БОЛОТО - символ внешнего покоя, таящего опасность гибели. Видимость Болота -неподвижность и тишина - обманчива: трясина и топь губительны для человека своим постепенным (болото затягивает) или неожиданным (провалиться в болото) действием. Болото вызывает неприятное физиологическое (как к вязкому и зыбкому) и нравственное (как к ненадёжному и скрытно предательскому), и только в постоянных его жителях привязанность к родному Болоту достигает глубины апологического поклонения («всякий кулик своё болото хвалит»). Расширение понятия: ‘топкое низкое место со стоячей водой' (природный уровень) > ‘грязь' (моральный уровень, ср. «плескали на него болото») > ‘застой, косность, отсутствие живой деятельности' (социальный уровень)» [5. Т. 1. С. 57-58]. Характерен при этом ряд эпитетов слова болото, избранный В. В. Колесовым: гнилое, житейское, замшелое, засасывающее, застоявшееся, зыбкое, лесное, мещанское, обывательское, провинциальное, русское, стоячее, топкое [5. Т. 1. С. 57-58]. Как минимум половина из них охватывает сферу именно «социального уровня». В процессе развития семантики этого слова всё большую релевантность приобретает социальный акцент, что сказалось на расширении сочетаемости именно в этом направлении. Небезынтересно проследить семантическую эволюцию слова болото в лексикографических источниках. Словари древнерусского языка отразили с XII по конец XV в. лишь прямое, географическое значение слов блато и болото - ‘palus' [6. Т. 1. С. 112, 146]. В XVI-XVII вв., судя по всему, переносного социального значения (‘общество') это слово также еще не развило: даже в «Словаре обиходного русского языка...». целенаправленно регистрирующего подобные семантические мутации, блато и болото дефиниру-ются как ‘низкое, топкое место, поросшее осокой, кустарником, мелкими деревьями' [7. Т. 1. С. 183, 229]. Старославянизм блато, правда, здесь регистрируется и в переносном (метонимическом) значении ‘грязь', которое в некотором смысле и «социализируется», хотя и в ином направлении, чем его современные характеристики общества: Богат мыслит о злате, а убог о блате. Здесь же фиксируется и употребление этого слова «в сравн.»: Поревнуй, чадо мое [кур], мытарям и блудникам... како были, яко скаредное блато, а очистились покаянием своим, яко злато [7. Т. 1. С. 183]. В XVII в. в церковно-богословской традиции, таким образом, устойчиво воспроизводится контекстное противопоставление злато - блато, ср. также: Идол оный Навуходоносоров, им же изображается мир, главу точию имеяше злату, прочее же медь, железо, таже скудель и блато (Митрополит Стефан (Яворский). Проповеди, 1700-1722) [8]. Воплощенные в словах злато и блато идеи «драгоценное» и «не имеющее ценности», образно интерпретирующие логический стандарт «высокое - низкое», на уровне лексики контекстно противопоставляются и в вариации бисер - блато, с аллюзией на известное библейское выражение «метать бисер перед свиньями»: О сколь в малом вера и нравы остаются у нас уважении! При самом священнейшем действии мешаем мы небо с землею, и бисеры свои пометаем в блато (Архиепископ Платон (Левшин). Слово на крещение Господне, 1779) [8]. Эта оппозиция служит источником для семантической деривации, объективированной посредством сочетаемости со словом грех: Купель Силоамскую человеку верному сказуют быти прооб-ражением крещения святаго, ово слез покаяния, ово из ребр Христовых крове и воды истечение есть крещение святое, Силоам: ибо в нем и блато греха пер-вороднаго омывается, и слепота души очищается (Митрополит Стефан (Яворский). Проповеди, 17001722) [8]. Показательна здесь и валентность, закрываемая глаголом: блато... омывается. Она особенно очевидно указывает на то, что блато выступает здесь синонимом слова грязь (ср. болото ‘грязь, тина, лужа' [9. Вып. 6. С. 4]), хотя, несомненно, стоящий за церковнославянизмом образ переосмысливается в соответствии с переносным значением из этической сферы, ср. фиксируемое уже в XVIII в. слово грязь ‘о ком-, чем-л. подлом, греховном или низменном, ничтожном' (Тебе ль, парнасска грязь, маратель, не творец, Учить людей писать?; Таинственная Алхимия учит человека, как перечищать грязь самолюбия; может в сердце проникать, Сколь ни былоб оно сокрыто, Потоптано, зарыто Во нравственной грязи) [9. Вып. 6. С. 4]. Эта линия развития семантики лексемы блато распространилась и на XVIII в. Источником деривации стало второе значение - ‘грязь; грязное место' [9. Вып. 2. С. 60] (которое, кстати, характерно и для большинства славянских однокоренных лексем: чеш. blato, словацк., словен., хорв. blato, пол. bloto ‘грязь' [10. С. 101]), реализовавшееся, например, в сравнении человека со свиньей: Аки свиния в блатпся валяет [9. Вып. 2. С. 60]. Такого же типа, как уже говорилось выше, переносная семантика фразеологизма отделить злато от блата ‘ отделить ценное, истинное от ложного', иллюстрируемая цитатой из переводной (немецкой) литературы: многоценное от малоценнаго, злато от блата отДелил, и предложил истинное учение во веки пребывати имущее [9. Вып. 2. С. 60]. Но, судя по данным словарей, параллельно в этот же период в русском языке имеет место семантическая «подвижка» в сторону привычной сейчас остро социальной семантики слова болото. «Словарь русского языка XVIII века» фиксирует для лексем болото и бла-то два значения: ‘низкое, топкое место' и ‘грязь, тина, лужа' [9. Вып. 2. С. 60, 100]. При этом с пометой «Образно» имплицитно уже выделено (в контексте из Г. Р. Державина) социальное значение, которое можно было бы эксплицировать в самостоятельную дефиницию, фигурирующую в будущих словарях как «социальная среда, характеризующаяся косностью, застоем, отсутствием деятельности и инициативы»: Я вам говорю в глаза, что вы в таком болоте безотчетностию вашею, из коего вам вовек не выдраться [9. Вып. 2. С. 100]. Такую экспликацию, между прочим, поддерживает и сочетаемость слова болото в этом контексте с глаголом выдраться, перекликающаяся с подобными частотными словосочетаниями в литературе XIXXX вв.: выбраться из засасывающего болота. жизни, выкарабкаться из болота, вытаскивать из стоячего болота повседневной жизни - и их антонимами: болото засосало, окунуться в болото, утопать в болоте и под. Судя по всему, развитие социальной оценочности слова болото в русском литературном языке шло (через переводную литературу послепетровской эпохи) под влиянием европейских языков, особенно немецкого, где слово Sumpf ‘болото' уже давно вошло в активный идиоматический фонд - ср. in den (einen) Sumpf geraten ‘опускаться на дно (нравственно опускаться), im Sumpf stecken ‘очутиться на дне (нравственно опуститься), im Sumpf der Grofistadt versinken (untergehen) ‘опуститься на дно, деклассироваться' [11. С. 554] и под. Характерно, что даже относительно периферийные производные этого слова в немецком языке приобретают остро социальную оценочность. Таково, например, сложное слово Sumpfhuhn (букв. болотная курочка), ставшее характеристикой распутного, опустившегося человека. Его связывают с фразеологизмом in den Sumpf geraten, подчёркивая связь человека, утопающего в болоте с индивидуумом, погрязающем в асоциальной обстановке. Не случайно даже в студенческом жаргоне в 1850 году на этой основе возник глагол sumpfen ‘распутничать' (букв. тонуть в болоте), характеризующий аморальную, безнравственную жизнь [12. Bd. 5. S. 1585]. До сих пор этот глагол употребителен в живой речи. В русской литературе XIX в. социальная характеристика, маркируемая словом болото, усиливалась и обрастала разнообразными семантическими и стилистическими нюансами, что будет продемонстрировано ниже анализом соответствующих контекстов. Один из этапов такой семантической экспансии зафиксировал М. И. Михельсон в своём двухтомнике начала XX в. «Русская мысль и речь»: «284. Болото (иноск.) - город, среда, учреждение: о мелком, бестолковом, в котором запутаешься, завязнешь, которое засосет. См. Засосало» [13. Т. 1. С. 66]. «213. Засасывать (засасываться) - иноск.: затянуть, втянуть, затянуться, втянуться; отвлечь (отвлечься) от более широкой деятельности (как болото засасывает человека и не дает ему выбраться); погибнуть в мелкой среде. Ср. Разные будничные заботы и другие внешние условия засасывают человека и мешают ему развить высшие абсолютные начала добра. А. Субботин. Притупленные чувства. («Луч». 3-е февраля 1897 г.). Ср. Если уж тебе пришла охота жениться, так бери девушку хотя не богатую, да только из образованного семейства. Невежество, ведь, это - болото, которое засосет тебя! старайся попасть наверх, а то свалишься в пучину и она тебя поглотит. Островский. Пучина. 1, 7. Ср. Он видел и сознавал, что обстоятельства его становятся все хуже и хуже, что он опустился и начинает погрязать в какой-то скверной засасывающей тине - и не хотел встряхнуться, выкарабкаться из своего болота. Вс. Крестовский. Вне закона. 3, 4. Ср. До половины погрузилась вместе с ним в трясину, которая, расступясь, обхватила кругом коня и всадника и, подобно удаву, всасывающему в себя живую добычу, начала понемногу тянуть их в бездонную свою пучину. Загоскин. Юрий Милославский. 8, 4 См. Опуститься. См. Болото. См. Омут. См. Тина» [13. Т. 1. С. 332]. «158. Ингерманландия Ингерманландское болото (иноск.) - Петербург. Ср. Дело это (брак дочери и поездка молодых за границу) давало ей передышку и увольняло ее отсюда, с этого «ингерманландского болота», как звали тогда Петербург люди, побывавшие за границей. Лесков. Захудалый род. 2, 14» [13. Т. 1. С. 373]. Вполне возможно, что столь заметное внимание к социально окраске русского слова болото на переломе веков у М.И. Михельсона было вызвано его двуязычием (автор словаря был петербургским немцем). В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова социальная семантика слова болото уже превалирует над географической: «1. Топкое место со стоячей водой. Торфяное болото. 2. перен. Всё, что характеризуется косностью, застоем, отсутствием деятельности и инициативы (разг.). Обывательское болото. 3. Нейтральная, неактивная часть какого-н. коллектива. Болото в партии. Оппортунистическое болото'» [14. Т. 1. С. 168-169]. Третье значение здесь явно навеяно известными экстралингвистическими обстоятельствами того времени, когда внутри и межпартийная борьба и ликвидация оппортунистов нуждались в оценочной словесной поддержке. В первом издании советского Большого академического словаря такая семантическая структура слова болото была закреплена: «1. Илистое топкое место, часто со стоячей водой, кочками земли, покрытыми травой, заросшее тростником, мхом и т. п. и отличающееся зыбкостью и нездоровыми испарениями. Торфяное болото. ♦ Переносно: о земле, разжиженной обильными осадками, об очень грязной дороге. 2. Переносно. Обстановка, условия, среда, лишенные прогрессивного движения; застой. Всякие оппортунисты любят говорить нам: учитесь у жизни. К сожалению, они понимают под жизнью только болото мирных периодов, времен застоя, когда жизнь едва-едва движется вперед. Ленин, Черные сотни и организация восстания (VIII, 159). Вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая нормальная жизнь! - настаивал Штольц строго, почти повелительно. Гонч., Обломов, ч. IV, гл. 9. ♦ Житейское, обывательское болото. По письму вашему вижу, что житейское болото засасывает вас. Л. Толст., Письмо Ге, март 1886. • О людях, группах людей нерешительных, беспринципных, уклоняющихся от революционной борьбы. Оппортунистическое обывательское болото. По опыту многолетней борьбы он [Ленин] знал, что опаснейшими врагами революции будут ее мнимые друзья, болтуны мелкобуржуазного болота -меньшевики и эсеры, уже не раз предавшие интересы рабочего класса, Ист. гражд. войны в СССР, т. I, гл. III, 1» [15. С. 551]. В целом воспроизводится такая дефиниционная структура и в последующих толковых словарях русского языка: - в «Словаре современного русского литературного языка» под ред. К.С. Горбачевича: «1. Топкое место, обычно со стоячей водой... Затяги-вать/затянуть, засасывать/засосать, тащить и т. п. в болото (какое-л., чего-л.). Вынуждать поддаться вредному, опасному влиянию, перейти на сторону чего-л. отсталого, реакционного. [Пузырев:] Какие-то элементы из бывших.. суфлеров тащат нас в болото обывательщины. Угрюмов. Кресло № 16. Скаты-ваться/скатиться в болото, увязать/увязнуть и т.п. в болоте кого-, чего-л., каком-л. Поддаваться вредному влиянию окружающей обстановки, среды и т.п., переходить на сторону отсталого, реакционного. 2. Перен. О среде, обстановке, характеризующихся косностью, застоем, отсутствием живой деятельности и инициативы. ♦ Болото чего-л., какое-л. Глупостью, пошлостью, провинциальным болотом и злой сплетней повеяло на Ромашова. Купр. Поединок. - Из вашего рассказа я поняла, что вы решили заняться научной работой, чтобы не утонуть в мещанском болоте. Карпов. Не род. счастлив.» [16. С. 690]; - в «Большом толковом словаре русского языка» под ред. С.А. Кузнецова: «1. Водоем со стоячей водой, поросший влаголюбивыми растениями; топкое, сырое место. • По народным поверьям: обиталище злых духов и всякой нечисти (кикиморы, болотника, водяных, чертей и т.п.). 2. чего и с опр. О среде, состоянии или обстановке, где преобладает косность, застой. Провинциальное болото. Скатиться в болото мещанства. Засосало болото обывательщины. У Об общественных группах, течениях и т.п., которым свойственно отсутствие активности, инициативы. Административное, бюрократическое болото. Две трети парламента составляет болото» [17. С. 89]; - в «Толковом словаре русского языка с включением сведений о происхождении слов» под ред. Н.Ю. Шведовой: «1. Избыточно увлажнённый участок земли со стоячей водой и зыбкой поверхностью, заросший влаголюбивыми растениями. 2. перен. Общественная среда, находящаяся в состоянии застоя, косности. Болото обывательщины. 3. ед. В старых народных представлениях: топь, трясина как место обитания нечистой силы» [18. С. 54-55]. Как видим, словари объективно отразили динамику преобразования семантики слова болото в направлении от географического термина к острой социальной характеристике. И как дьявол таится в деталях, так и в семантических вариантах и нюансах этой общей характеристики обнаруживается некая иерархия, заслуживающая специального анализа, который и предлагается ниже. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что, хотя социальное значение слова болото мы рассматриваем специализировано, во многих контекстах оно ещё тесно связано со значением географическим, что делает переносное употребление и более наглядным, и более экспрессивным: Автор рисует провинциальные городки, провинциальных людей, рисует муравьев в их муравейниках; но связи этих кучек и болот с природой, связи с мировою жизнью вы у него нигде не видите, потому только, что он ее не понимает и не видит сам (Н.В. Шелгунов. Люди сороковых и шестидесятых годов (1867) // «Дело», 1869) [8]. Синкретизм прямого и переносного значений может достигаться и путём сравнения косной жизни с болотом: Как только приспело время выборов, вся Россия, все медвежьи углы ее зашевелились. Устоявшаяся, подобно болоту, сонная и пресная жизнь страны получила острую закваску (В.Я. Шишков. Емельян Пугачев, 1934-1939) [8]; Под влиянием военных неудач на прежнюю жизнь, тихую и затхлую, как застоявшееся болото, подул свежий ветер критики (А.С. Новиков-Прибой. Цусима, 1932-1935) [8]. В некоторых случаях оживление исходного образа концепта БОЛОТО подчёркивается путём апелляции к его анималистической или мифологической ипостаси: Я не смею бранить ее (газету «Северная пчела». -Т.Л., В.М.), хотя она меня жестоко мучит, заставляя смеяться, когда мне хочется плакать, писать, когда меня клонит сон, читать пуДы взДору быть аистом и велит очищать литературное болото от лягушек, чтоб они не наДоеДали вам своим кваканьем (Ф.В. Булгарин. Обед, 1840) [8]; Прощайте, Друзья, Делившие со мной раДости и горести на крутых поворотах Дороги в никуДа, прощайте, женщины, поДарившие мне любовь или отказавшие в ней, прощайте, все, кто сжигал Души До углей, чтобы, поДобно блужДающим огням, освещать нелегкий путь по топкому болоту жизни, кишащему кощеями, кикиморами, лешими, бесами и прочей козлоногопартийной нечистью (Б. Левин. Блуждающие огни, 1995) [8]. Связь с исходным значением эксплицируетс я и эпитетами слова болото в социальном значении. Они, как и в «ментальной» характеристике этого концепта, разработанной В. В. Колесовым, градуированы от конкретной до все более «социализированной» семантики - топкое, засасывающее, стоячее, вонючее и под.: Россия почти на ДваДцать лет погрузилась в топкое болото застоя (О. Гриневский. Тысяча и один день Никиты Сергеевича, 1997) [8]; Грубость, невежество и соединенное с ним суеверие - обыкновенные спутники жизни без света, без знания, без права критики вековых устоев «темного царства». Нужны очень счастливые способности в соединении с особой душевной стойкостью, чтобы выбраться из засасывающего болота подобной жизни и стать на твердую почву. Но прежде чем перейти к детству Кольцова, мы должны сделать маленькую историческую и географическую экскурсию (В.В. Огарков. Алексей Кольцов. Его жизнь и литературная деятельность, 1891) [8]; Москва, несмотря на свои cafes chantants и омнибусы, была всё-таки стоячее болото (С.Г. Боровиков. В русском жанре - 16 // «Волга», 2000) [8]; И вот веди эти похабные разговоры, объяснения, гваздайся в этом вонючем болоте (А.А. Баркова. Дневник, 1957) [8]. Сохранение ассоциативной преемственности с географической семантикой обеспечивается и глаголами, с которыми сочетается слово болото в переносном социальном значении: утопать, окунаться, погрязнуть, загрязниться, тонуть и под.: Но мало-помалу и эта докучная мысль начинает беспокоить вас реже и реже; вы даже сами спешите прогнать ее, как назойливого комара, и, к полному вашему удовольствию, добровольно, как в пуховике, утопаете в болоте провинцияльной жизни, которого поверхность так зелена, что издали, пожалуй, может быть принята за роскошный луг (М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки, 18561857) [8]; Тогда-то вновь появляются те милые очи. Они как будто поддерживают меня, мешают окунуться в грязное мелкое болото жизни ... (Л. К. Даянова. Дневник, 1908) [8]; Ведь не пропадет же у такого поэта такой голос оттого, что он окунется с головой в болото московской советской литературной жизни - имажинизма, Всероссийского союза поэтов, казенных издательств (Г.В. Иванов. Петербургские зимы, 1926) [8]; Социалистическо-бюрократическое государство тонуло в болоте христианских обычаев (Владимир Спектр. Face Control, 2002) [8]. Ср. также сочетания вытаскивать из болота, построить мостик через стоячее болото, семантически тяготеющие к этой группе: Как могут не увлечь молодого человека с живой душой, еще не окунувшегося с головой в омут житейской суетности, мысли, выражаемые красивыми фразами? Они как бы вытаскивают из стоячего болота нашей повседневной жизни, с надеждой украшают наш путь! (Н. Варенцов. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое, 1930-1935) [8]; Мы должны построить мостик через болото этой гниючей жизни к будущему царству доброты сердечной, вот наше дело, товарищи! (М. Горький. Мать, 1906) [8]. Не теряя связи с исходным значением, слово болото, как видим, всё прочнее встраивается в социальную лексику. Приведем один небольшой факт, установленный в ходе поиска контекстов по материалам Национального корпуса русского языка [8]. При запросе на выявление текстовых фрагментов, в которых соседствовали бы (на расстоянии от 1 до 6 слов) слова болото и жизнь, обнаруживается 58 вхождений, из которых подавляющее большинство представляют собой оценочные характеристики социальной жизни с привлечением образа болота. Если же ввести запрос на соседство слов болото и смерть (в том же диапазоне), то пользователь получает 10 контекстов, притом все они описывают непроходимость природных болот и гибель людей либо животных в топи. Из этого следует главное: у образа болота есть предназначение служить для характеристики жизни. И здесь обнаруживается определённая семантическая специфика прямого и переносного значений слова болото: бином болото - смерть целиком остаётся в диапазоне прямого значения, в то время как бином болото - жизнь - в диапазоне переносного, социально маркированного значения. Заметный количественный перевес в зоне переносной социальной семантики - это еще одно свидетельство социальной направленности эволюции концепта БОЛОТО. При этом экзистенциональная оппозиция концептов ЖИЗНЬ - СМЕРТЬ в нашем случае не обнаруживает категорической диаметральности. Ведь «болотная жизнь» оборачивается застоем, косностью, духовной смертью. Жизнь в болоте - это царство, убивающее индивидуальность и инициативу, существование по принятым многими правилами, признающее участие многих в такой жизни. Это провинциальная жизнь с вменяемыми ей характерологическими чертами не-цивилизованности, отдаленности от крупных городов с приписываемой им прогрессивностью, быстрым накоплением изменений, средоточием культурной жизни: Человек этот, умный и очень нервный, вскоре после курса как-то несчастно женился, потом был занесен в Екатеринбург и, без всякой опытности, затерт в болото провинциальной жизни (А.И. Герцен. Былое и думы, 1854-1858) [8]; Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому, жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни (И. С. Аксаков. Письма родным, 1849-1856) [8]. Ad adversum в некоторых контекстах «болотная жизнь» избирается самим индивидуумом в силу псевдопривлекательности единения людей одной культуры в мирном длительном неизменном существовании, общей среды с ее обыденностью: Он слышал иногда от них рассказы о разного рода играх бурсаков, о бурсацких богатырях, их похождениях, проделках с начальством - рассказы, которые казались ему очень привлекательны: все это породило в нем страстное желание как можно скорее, всецело, по самые уши окунуться в болото бурсацкой жизни (Н.Г. Помяловский. Очерки бурсы, 1862) [8]. Спокойное ровное течение жизни, без происшествий, ее нарушающих, обыденность также ассоциируется с болотом: Может быть, Юрий был бы тем первым, кто обрушит в стоячее болото корпусных будней торжественную и праздничную весть: война!.. (Л.С. Соболев. Капитальный ремонт, 1932) [8]; И не только эту смерть увидел теперь Чехов: увидел он и другую, быть может, еще более мучительную, медленную смерть - увидел тысячи заживо погребенных в болоте пошлой и мелкой обыденной жизни (Е.И. Замятин. Чехов и мы, 1924) [8]. В текстах со словом болото делается акцент и на идее бездеятельности, застоя: Символизм мог существовать только в обстановке болота политической жизни (В. Г. Шершеневич. Великолепный очевидец, 1934-936) [8]; Первое мое преступление есть то, что я, ничтожный человечишка, недоучка, разрушил мир тайги, перевернул тайгу вверх корнями, внедрил в стоячее болото деятельную жизнь (В.Я. Шишков. Угрюм-река, 1913-1932) [8]. Эта идея разрабатывается введением в контексты смыслов намеренного нарушения этого состояния, прекращения неизменности существования внешним вмешательством, идеи внезапных перемен, что получает выражение в глаголах взорвать, встряхнуть, расшевелить: Парижская Выставка Зверева была первой бомбой, взорвавшей застойное болото нашей культурной жизни (Зана Плавинская. Отражение // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.08.04) [8]; Нам там кричали другое: прорабы перестройки, встряхните дома стоячее болото! [Светлана Алексиевич. Цинковые мальчики, 1984-1994) [8]; Но, как и в 70-е гоДы Х1Х века, кажется, что главное - только расшевелить болото российской общественной жизни и народ поднимется (Ю. Богомолов. Новые бесы и старые мошенники // «Известия», 2002.10.09) [8]. Мысль о единении человека с обществом, присоединении его к этому общему пространству в концептуальном спектре «Болота» выглядит амбивалентно. Такое единение не происходит по его собственной воле, что подчёркивается сочетаниями с глаголами объектного действия затянуть, засосать и их дериватами: Как же ты позволил затянуть себя в болото? Да не в то, первородное, лесное, родное, а в болото новомодное, булькающее гнилостными выделениями оборотистых варваров-деловаров - обезьяноподобных, гиенообразных, спрутоморфных (Марина Палей. Дань саламандре, 2008) [8]; Писатель пришел в литературу как проснувшаяся совесть нации, но оказался засосан в болото новых правых (В. В. Бибихин. От славянофилов до новых правых, 1988) [8]; Отсюда - и характеристика «болотной жизни» как существования без личных достижений, открытий, творчества, совершенствования: Алексей Петрович, сорокалетний мужчина не сделал большой карьеры, все проваливался как на болоте в этой московской жизни, в которой и сам понимал так же мало, как тогда, когда приехал и поступил в аспирантуру (Л. Петрушевская. К прекрасному городу, 1997) [8]; При этом первоначально прогрессивная школа научного руководителя неизбежно превратится в стоячее болото и умрет либо еще при жизни, либо тотчас после смерти ее основоположника, так как у него не будет творческих наследников (В.И. Гольданский. Слово о Семенове, 1996) [8]. Единение людей в низменном, бездуховном существовании, лишенном устремлений, развития, совершенствования ведёт, в сущности, к нейтрализации глобальной оппозиции «жизнь - смерть», то есть превращению болотного существования в духовную гибель: Их души омертвели в стоячем болоте бездуховной обыденности, а их жизнь лишена какой бы то ни было возвышенной цели и смысла (Феликс Раскольников. Статьи о русской литературе, 1986-2000) [8]; В каком духовном болоте прожил всю свою жизнь Маркс и как этим болотом заразил весь мир, все сознание человеческое (А.Д. Шмеман. Дневники, 1973-1983) [8]. Бином болото - жизнь представлен в текстах, содержащих негативную характеристику общества, в котором жизнь основывается на суевериях, утративших осмысленность обрядах, отсутствии знаний, образования, развития: Гнилые болота - термин иносказательный: это жизнь в тех ее формах, которые завещаны нам историей, это сплетение всякого рода обрядностей, хотя и утративших живой смысл, но имеющих за собою внешнюю, грубую силу и потому безапелляционно подавляющих в человеке всякое движение в смысле самодеятельности и независимости (М.Е. Салтыков-Щедрин. Засоренные дороги и с квартиры на квартиру. Роман и рассказ соч. А. Михайлова, 1868) [8]; Мир - гнилое болото; жизнь - засоренная дорога! (М.Е. Салтыков-Щедрин. Засоренные дороги и с квартиры на квартиру. Роман и рассказ соч. А. Михайлова, 1868) [8]. Болотная жизнь - это и единый государственный строй с неудовлетворительно организованной политической и экономической жизнью, который описывается словом болото в сочетании с атрибутивом, указывающим на принадлежность к стране или региону: Необъятное, непроглядным мраком покрытое, тянется перед нами болото российской жизни, и блудящими огоньками бегают вдали иллюзии, манящие неопытных в теплый и светлый уголок и приводящие их в холодную трясину (Народная воля. Социально-революционное обозрение. № 1 // «Народная воля», 1879) [8]; Она почувствовала себя силой и решила встряхнуть застоявшееся болото китайской политической жизни (В.М. Шулятиков. Международное положение // Рабочее знамя, 1908) [8]; Это тот второй чудак, который скорбел о мытаре и жалел о падшем и который, не потонувши, прошел если не по морю, то по мещанским болотам английской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись! (А.И. Герцен. Былое и думы, 1864) [8]; Газопровод «Южный поток», еще не будучи запущен, уже вызвал в европейском политическом «болоте» целый шторм, немилосердно раскачивающий евролодку и грозящий Брюсселю настоящим евробунтом (Повестка дня // «Эксперт», 2014) [8]. Метафора болота разворачивается в целый фрейм, основанный на представлениях о превращении водного потока в застойную гнилостную воду, при характеристике извращенного, «неправильно устроенного» сообщества, организованного с нарушением разумного порядка, традиций, претерпевшего изменения под влиянием каких-либо социальных факторов: Феминизм - не столько защита слабых, сколько уничтожение сильных. Эта плотина, перегородившая вечно живую реку эволюции, и вот уже все мы плещемся не в кристально чистом, стремительном потоке, а барахтаемся в мутной жиже, где отовсюду слышится мерзкое кваканье. И пусть многие из лягушек -вылитые принцессы, лучше от этого не становится. В конце концов, не каждому нравится жить в болоте. Беда в том, что, кроме болот, других пригодных для жизни мест, похоже, уже не осталось (Сергей Дигол. Старость шакала // «Волга», 2012) [8]. Единение коллектива людей, общества и государства в призме концепта БОЛОТО предстает как псевдоединение, поскольку его изнанку составляют наихудшие нравственные проявления - распространение сплетен, злобствование, предательство и т.п.: Я не буду вам говорить разные пошлости про зависть и интриги безДарностей про сплетни того болота, которое называется обществом (А.И. Куприн. Полубог, 1896) [8]; Вставка начальника почтовой конторы точно открыла шлюз вонючему болоту сплетни (А.И. Куприн. Черная молния, 1912) [8]; Кутерьма произошла немалая: болото наше взволновалось, и многие сотрудники готовятся в перебежчики (А.П. Чехов. Письма Александру Павловичу Чехову, 1903) [8]; Я совсем испортил себе за последнее время расположение духа: пошли в нашем болоте дрязги и сплетни: разругались мы с N. и, кажется, навсегда. (В.М. Гаршин. Письма В.М. Латкину, 1885) [8]. «Изнаночная» семантика «болотного единения» объясняет и такую его характеристику, как вражда людей и коллективов с неодинаковыми взглядами. Глагол ненавидеть и субстантив ненависть как маркеры семантики вражды присутствуют в ряде выражений. Такая маркировка, между прочим, задана народной пословицей Болото всегда ненавидит гору [19. С. 342]. Здесь оппозитами выступают образы горы и болота. Эта пословица обнаруживается и развёртывается в художественных текстах, в частности, в рассказе Анатолия Алексина «...И Екатерина Ильинична» для описания отношений между людьми с разными нравственными принципами: Запомни, Петя: болото всегда ненавидит гору. И чем выше гора, тем больше это раздражает болото (А. Алексин. Сигнальщики и горнисты, 1985) [8]. Персонаж рассказа Гнедков, еще школьником во время военных обстрелов проявивший себя как трус, из-за которого погибла девушка Таня, на протяжении всей своей жизни очернял своих одноклассников, даже после их гибели. Олицетворение болота (оно изображается способным ненавидеть) объективирует социальную сущность денотата: «человек болота» и -условно - «человек горы», принадлежа к одной среде (дети выросли в одном городе, в одном дворе, в общей компании), различны в нравственном отношении. Бездеятельность и активность также представляют собой противопоставленные жизненные позиции, и они взаимно воинственно настроены. Ненависть к болоту как очагу мертвящей жизни эксплицируется в некоторых контекстах с большой эмоциональной силой: Я ненавижу мир, и мир, то есть болото, спячка, взаимно ненавидят меня (В.Я. Шишков. Угрюм-река, 1913-1932) [8]; Безумный гнев, тоску о красоте и ненависть к стоячему болоту жизни -это я люблю в искусстве. (М. Горький. Мои интер вью, 1906) [8]. Даже единение основной ячейки общества - семьи характеризуется через «болотную» призму скептически, если не нигилистически: Муж и жена - оДно болото [20. С. 181]; В минуту просветления, в 4-м акте, у него мелькнуло в голове, что жизнь его с Олей будет таким же болотом, как жизнь Завалишина с женой (С.Н. Дурылин. Комментарии к пьесе Островского «Светит да не греет», 1951) [8]. Более сложным случаем кажется интерпретация «своего болота» как единения человека с малой родиной, приводимая Т.А. Демешкиной [4. С. 98] в связи с цитатой из сказа Юрия Лаврова «Мое болото» о красотах его родного Васюганского края, где он пишет, что «похвалился своим болотом», потому что «Каждый кулик хвалит свое болото. Болото же это засосало меня на всю жизнь. Здесь я родился, здесь живу. Этим и горжусь!». Этот индивидуальноавторский семантический разворот на самом деле имеет надежное подспорье в диалектной среде. Надо сказать, что русская народная речь регистрирует преимущественно прямое значение слова болото, что свидетельствует об эволюции его социального значения именно в литературном языке, а не обиходном. «Словарь русских народных говоров», будучи дифференциальным диалектным словарем, естественно, не приводит для нашей лексемы общерусского значения ‘болото'. Но и все другие её 4 значения отражают лишь географическую или земледельческую семантику - ‘лужа', ‘озеро', ‘лес', ‘сено' [21. Вып. 3. С. 80]. Даже в «Псковском областном словаре», полного типа, включающем и литературные «приращения» к народному лексикону, слово болото квалифицируется прежде всего в терминологических значениях ‘низкое, топкое место, поросшее осокой, кустарником, мелкими деревьями' и ‘углубление в земле, где скапливается вода' [22. Вып. 2. С. 89-90]. Правда, при этом здесь выделено и 3-е, переносное, значение ‘глушь, захолустье', которое уже находится в русле социальной коннотативности, свойственной, как было показано выше, русскому литературному языку: Мы шшятаем балотам эта места: да всяво даляко, да Лавров даляко [22. Вып. 2. С. 89]. Любопытнее же то, что во втором словарном примере присутствует позитивная оценочность, которая подсказывает, что в нем реализуется иное значение: Не хочецца кидать своё болото, здесь родифши [22. Вып. 2. С. 89]. В этом случае воплощается совершенно особый семантический признак ‘родной' - тот же самый, что и в известной пословице Всяк кулик свое болото хвалит. Все в том же псковском словаре обнаруживаем паремию: пск. Болото не без беса ‘везде найдутся плохие люди' [22. Вып. 2. С. 89]. Объясняется это тем, что в основе ландшафтного термина болото лежит сема ‘место', поэтому неудивительно, что в контекстном окружении слова находятся обозначения «типичных жителей» этого локуса: кулик и бес (в художественной литературе находим также упоминание лягушек и некоторых других «эталонных» жителей болота: Одни мы тут сидим. Как лягушки в родном болоте [Гоар Маркосян-Каспер. Кариатиды // «Звезда», 2003 [8]). В русском литературном языке эта идея закрепляется путем коллокации родное болото, которая весьма употребительна и по настоящее время: Противореча сложившимся тенденциям к нахваливанию родного болота, придется отме -тить, что в некоторых городах Украины размерами поменьше поэтическая жизнь кипит куда активнее (Сергей Куликов. О современной днепропетровской поэзии // Litera_Dnepr, 2012 [8]; Закричать «караул!» Осушить родное болото, попробовать превратить его в Швейцарию. Или плюнуть и уехать к черту на кулички. Но можно поступить иначе: изменить свой взгляд на болото (Анатолий Цирульников. Болотооб-разование // «Знание - сила», 2008) [8]; Все вложенные в бизнес-школе идеи студенты забывали моментально - попав в роДное болото-окружение на фабрике «Красный треугольник» (Елена Давыдова. Сам себе лидер // «Карьера», 2003.11.01) [8]; А дома что начнется, на родных болотах! Жабий вой, комариный писк. Тот же холощеный Безыменский со своей кочки расквакается: предатель трудового народа, отщепенец! (Давид Маркиш. Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля // «Октябрь», 2001) [8]. Разумеется, идея болота-родины, получившая воплощение в приведенных отрывках текстов, не есть находка писателей XXI в. Она зародилась значительно раньше, о чем свидетельствует и диалектный материал (который мы не можем привести здесь в полном объеме), и образцы более ранних литературных текстов, по крайней мере с XIX в.: Все это явилось потом, когда отцовские дела несколько расстроились и когда из блестящего кружка московских и петербургских знаменитостей, встреченных в позднейшей поездке, поэт попал снова в родное болото (В. В. Огарков. Алексей Кольцов. Его жизнь и литературная деятельность, 1891) [8]; Много нужно усилий, чтобы втащить человека на вершину горы, и совершенно не нужно труда, чтобы он скатился с нее и
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 61
Ключевые слова
болото, социальная среда, фразеология, семантика, этнолингвистикаАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Леонтьева Татьяна Валерьевна | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина | д-р филол. наук, зав. кафедрой языков массовых коммуникаций, ведущий научный сотрудник лаборатории сравнительных исследований толерантности и признания | leotany@mail.ru |
| Мокиенко Валерий Михайлович | Санкт-Петербургский государственный университет ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина | д-р филол. наук, профессор кафедры славянской филологии; ведущий научный сотрудник кафедры языков массовых коммуникаций | mokienko40@mail.ru |
Ссылки
Псковский областной словарь с историческими данными. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1967-2008. Вып. 1-20.
Словарь русских народных говоров / ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. М.; Л.; СПб. : Наука, 1965-2019. Т. 1-51. (издание продолжается).
Соколова М.И. Народная мудрость : пословицы и поговорки. Новосибирск : Офсет, 2009. 622 с.
Иллюстров И.И. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках : сб. русских пословиц и поговорок. 3-е изд., испр. и доп. М. : Тов-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1915. XIII, [2]. 480 с.
Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / ред. Н.Ю. Шведова. М. : Азбуковник, 2011. 1175 с.
Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 1998. 1536 с.
Словарь современного русского литературного языка : в 20 т. / [гл. ред. К.С. Горбачевич] ; Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Рус. яз., 1991-1994. Т. 1.
Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. М. : Наука ; Л. : Издательство АН ССР, 1950-1965. Т. 1.
Толковый словарь русского языка / сост. Г.О. Винокур; под ред. Д.Н. Ушакова : в 4 т. М. : Русские словари, 1995. Т. 1 : А-Кюрины. 1935. 1562 с. Т. 2 : Л-Ояловеть. 1938. 1040 с. Т. 3 : П-Ряшка. 1939. 1424 с. Т. 4 : С-Ящурный. 1940. 1500 с. (Репринт с издания : М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1935-1940).
Михельсон М.И. Русская мысль и речь : своё и чужое : опыт русской фразеологии : сб. образных слов и иносказаний. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, Т. 1, 1903. 779 с. Т. 2, 1905. 800 с.
Rohrich L. Das groBe Lexikon der sprichwortlichen Redensarten : Bd. I-V. Feiburg - Basel - Wien : Verlag Herder. 1995. Bd. V. 1910 s.
Бинович Л.Э., Гришин Н.Н. Немецко-русский фразеологический словарь. 2-е изд., испр. и доп. М. : Рус. яз., 1975. 656 с.
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 13 560 слов : в 2 т. 3-е изд., стер. М. : Рус. яз., 1999. Т. 1.
Словарь русского языка XVIII вв. / АН СССР. Ин-т рус. яз. ; гл. ред. Ю.С. Сорокин. Л. : Наука. Ленингр. отд-е, 1984-1991. Вып. 1-6; СПб. : Наука. С.-Петерб. отд-е, 1992-2007. Вып. 7-17.
Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru. (дата обращения: 11.06.2020).
Словарь обиходного русского языка Московской Руси (XVI-XVII вв.) / под ред. О.С. Мжельской. СПб. : Изд-во СПб. ун-та; Наука. 2004 2019. Вып. 1-8. (издание продолжается).
Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам : в 3 т. СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1893-1912. Т. I : А-К. 1893. 71 с.; Т. II : Л-П. 1902. 771 с.; Т. III : П-Я и дополнения. 1912. 996 с.
Колесов В.В. Словарь русской ментальности : в 2 т. / В.В. Колесов, Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. СПб. : Златоуст, 2014. Т. 1 : А-О. 591 с. Т. 2 : П-Я. 592 с.
Демешкина Т.А. Мир природы в зеркале диалекта (на материале концепта «БОЛОТО») // Вестник Томского государственного универси тета. Филология. 2019. № 62. C. 85-103.
Мокиенко В.М. Семантические модели славянской тельмографической терминологии : местные географические термины // Вопросы географии. 1970. № 81. С. 71-77.
Толстой Н.И. Славянская географическая терминология : семасиологические этюды. М. : Наука, 1969. 262 с.
Мокиенко В.М. Лингвистический анализ местной географической терминологии (псковские апеллятивы, обозначающие низинный рель еф, на славянском фоне) : автореф. дис.. канд. филол. наук. Л. : ЛГУ, 1969. 22 с.
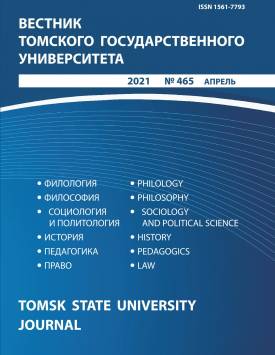
Метафора болота в характеристиках социума | Вестник Томского государственного университета. 2021. № 465. DOI: 10.17223/15617793/465/2
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 314

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью