Рассматривается функционирование кинодискурса в поэтике романа «Любовь в Буэнос-Айресе» аргентинского писателя-постмодерниста Мануэля Пуига. Установлено, что кинодискурс проявляется в романе через использование характерных для кино стилистических и повествовательных приемов и благодаря принципу «вставного фильма». Сделан вывод о том, что использование кинодискурса в поэтике романа направлено на создание эффекта просмотра фильма и играет ключевую роль в раскрытии персонажей и построении сюжета.
Cinema Discourse in the Poetics of Manuel Puig's The Buenos Aires Affair.pdf Введение Творчество Мануэля Пуига (Manuel Puig; 1932-1990 гг.), аргентинского писателя-постмодерниста второй половины ХХ в., продолжает вызывать интерес исследователей из разных областей. Обращение к острым политическим и социальным проблемам, особая художественная палитра и неповторимая кинематографичность романов позволяют изучать творчество М. Пуига с разных сторон. Его романы становились предметом интермедиальных [1], психологических и феминистских [2, 3] исследований. К его творчеству обращаются в рамках постколониальных [4] и квир-исследований [5]. Кроме того, три романа автора «Boquitas Pintadas» (1969), «Pubis Angelical» (1979), «El Beso de la Mujer Arana» (1976), были экранизированы (за роль в последнем актер Уильям Хёрт получил премию «Оскар»). На основе романа «El Beso de la Mujer Arana» был успешно поставлен мюзикл, а роман «Cae la Noche Tropical» получил театральную адаптацию. Это не могло не повысить интерес к творчеству писателя. Однако несмотря на известность и признание за рубежом, актуальную и сегодня проблематику произведений и уникальный стиль, пропитанный атмосферой Голливуда первой половины ХХ в., М. Пуиг не получил широкую известность в России ни среди читателей, ни среди литературоведов. В настоящей статье мы обращаемся к третьему роману писателя «Любовь в Буэнос-Айресе» («The Buenos Aires Affair»), опубликованному в 1973 г. Примечательно, что именно этот роман стал причиной гонения на М. Пуига на родине, в Аргентине, где в то время к власти вернулся Хуан Перон и начались преследования всех несогласных с политикой и идеологией перонизма. Из-за эпатажного, во многих смыслах провокационного и откровенного романа, открыто критикующего перонистский режим, писатель был вынужден уехать в Мексику, где продолжил свое творчество. Увлеченность М. Пуига кинематографом и профессиональное образование в этой сфере не могли не повлиять на его стиль как писателя, поэтому роман «The Buenos Aires Affair», как и другие произведения, пронизан особой, свойственной писателю кинематографичностью. Она очевидна не только в многочисленных отсылках к миру кино (названия фильмов, имена известных актрис и актеров и др.), но и непосредственно в поэтике романа. Мы попытаемся ответить на вопрос, как кинодискурс проявляется в романе и какую роль играет в динамике сюжета и образов главных героев. Исследования кинематографа с филологической точки зрения тесно связано с именами таких отечественных ученых, как Ю.М. Лотман и Ю.Н. Тынянов, которые внесли огромный вклад в изучение и осмысление седьмого искусства. Ю.М. Лотман, рассматривая кино через призму семиотики, говорил о нем как о сложной знаковой систем, введя в обиход понятие «киноязык», включающее в себя все средства киновыразительности: монтаж, кадр, ракурс, движение камеры, темп и ритм киноповествования и др. Ключевой единицей «киноязыка» и материальным носителем образности, по его мнению, является динамический кинематографический кадр [6]. О кадровой природе кино говорил также Я. Мукаржовский, замечая, что «кинематографическое пространство вообще не существует» без кадра [7. C. 401]. По Ю.М. Лотману, именно кадры посредством монтажа связываются в единое «осмысленное» повествование, образуя «кинотекст» [6]. Ю. Н. Тынянов подчеркивал, что каждый последующий кадр несет в себе смысловой знак кадра предшествующего, что «спаивет» кадры в единое повествование [8. C. 326-345]. Исследования «кинотекста» активно продолжаются и в XXI в. Значимый вклад в развитие этого направления внесли Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова [9]. Исследователи определяют «кинотекст» как «связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное при помощи вербальных и невербальных знаков, организованное в соответствии с замыслом коллективного функционально дифференцированного автора при помощи кинематографических кодов, зафиксированное на материальном носителе и предназначенное для воспроизведения на экране и аудиовизуального восприятия зрителями» [9]. Е.В. Сухая добавляет к категориям «киноязык» и «кинотекст» еще одно смежное понятие - «киноречь», под которой понимает диалог персонажей, звучащий в фильме, а также его фиксацию в письменном виде [10. C. 69]. Вместе с тем современные исследователи все чаще обращаются к термину «кинодискурс», вошедшему в научный обиход сравнительно недавно (см.: [11-13]). Это связано с тем, что дискурсология заняла важное место в современном научном мире и превратилась в междисциплинарную область. Так, изучением дискурса занимаются в рамках лингвистики, переводоведения, литературоведения, социологии, психологии и других дисциплин. «Популярность» дискурсивного подхода обусловлена, прежде всего, относительно свободной трактовкой термина «дискурс». Согласно М. Фуко, дискурс можно понимать и как общую область всех высказываний, и как индивидуализируемую группу высказываний, и как установленную практику, учитывающую некоторое число высказываний [14. C. 82]. Такая «свобода» научной терминологии, с одной стороны, позволяет ученым расставлять акценты в соответствии с целью исследования, с другой стороны, она влечет за собой необходимость постоянного уточнения термина в каждом конкретном случае [15. C. 15]. Тем не менее, вне зависимости от многочисленных трактовок, дискурс неизменно представляет собой множество принадлежащих одной формации высказываний, которые понимаются не как сугубо вербальные, но как «некий сегмент человеческого знания», который имеет словесно-образное воплощение [16. C. 94]. Трактовка термина «кинодискурс» также неоднозначна, а порою слишком общая. Согласно С.С. Назмутдиновой, «кинодискурс» - это «семиотически осложненный, динамичный процесс взаимодействия автора и кинореципиента, протекающий в межъязыковом и межкультурном пространстве с помощью средств киноязыка, обладающего свойствами синтаксичности, вербально-визуальной сцепленности элементов, интертекстуальности, множественности адресанта, контекстуальности значения, иконической точности, синтетичности» [11. C. 11]. Важно подчеркнуть, что кинодискурс создается благодаря совместной работе сценариста, режиссера, актеров, операторов и т.д., иначе говоря, является результатом труда «коллективного автора». С. С. Зайченко подчеркивает знаковую неоднородность «кинодискруса», которая обусловлена наличием в нем лингвистической и нелингвистической составляющих, и настаивает на необходимости изучения структуры кинодискурса как знаковой системы [17. C. 82-86]. А. В. Олянич замечает, что «кинодискурс» содержит не только авторский посыл, но и включается в коммуникативное пространство культуры, являясь «комплексным лингвосемиотическим коммуникативным феноменом культуры, относящимся к цивилизационным ценностям, накапливаемым человечеством с конца XIX - начала ХХ столетий по сегодняшний день». Она отмечает, что, в зависимости от сферы исследования, основным элементом «кинодискурса» может быть кадр, план, образ-знак, образ-действие, иконический знак и другие, однако при этом всегда акцентируется динамическая природа повествования и сцепленность его единиц - кадр не может пониматься в отрыве от других [18]. Иначе говоря, киноповествование строится на основе всего внутреннего (план, ракурс, звуки, речь и т.д.) и внешнего (монтаж) наполнения кадров. Очевидно, что понятия «кинодискурс» и «кинотекст» близки по своему содержанию. Однако если «кинотекст» ограничивается рамками одного конкретного фильма, то «кинодискрус» может обозначать всю совокупность художественно-повествовательных средств, характерных для кинематографа. Кроме того, дискурс подчеркивает диалогическую сторону кино, понимая ее не только как диалог персонажей фильма («киноречи»), но как диалог автора и зрителя с учетом культурно обусловленного коммуникативного пространства. В рамках настоящей работы мы будем понимать «кинодискурс» как выразительные средства киноязыка (иначе говоря - поэтика кино), на основе которых строится киноповествование и диалог «коллективного автора» и зрителя, а также всю совокупность кинотекстов, вписанных в коммуникативное пространство культуры и участвующих, таким образом, в построении горизонта зрительских/читательских ожиданий. С одной стороны, такое понимание термина позволяет рассматривать влияние «кинопоэтики» (выразительных средств «киноязыка») на поэтику литературного произведения, в котором визуальность достигается преимущественно за счет образности слова и особенностей композиционно-речевой организации произведения. С другой стороны, обращение писателя к кинематографу как к культурному феномену, т. е. описание кинокартины (произведения визуального искусства) в литературном тексте или отсылки к миру кино (упоминание названий кинокартин, имен кинодеятелей и т.д.), также становится предметом изучения. Поэтика кино в поэтике романа Будучи киносценаристом по образованию, М. Пуиг не мог не привнести киноязык и поэтику кино в свои литературные произведения. При обращении к кинодискурсу важно помнить о его внеязыко-вой природе, так как многие основы киноязыка, на которые опирается современный кинематограф, зародились еще в эпоху немого кино. Это во многом обусловливает специфику хронотопа в кино: время и пространство в кинопроизведении условны и сиюминутны, а дистанция между зрителем и повествованием стремится к нулю, т. е. зритель всегда находится в моменте киноповествования, поскольку происходящее на экране воспринимается им как реальность, пусть и иллюзорная (об этом в свое время писал Ю.М. Лотман [6. C. 5-31]). Иначе говоря, кинематограф не знает прошедшего времени, оно всегда условно настоящее. Оторванность же времени от конкретного пространства позволяет заполнить кадр как угодно и мгновенно перенести зрителя в любую точку пространственно-временного континуума [8. C. 320]. Хронотоп в романе Пуига организован нелинейно: постоянно чередуя время и место, автор указывает, где и когда происходят события романа. Так, сюжет первой главы разворачивается в прибрежном аргентинском городке Плая Бланка 21 мая 1969 г., вторая глава датируется тем же днем, но ее события происходят в Буэнос-Айресе. В третьей главе описаны ключевые этапы (детство, школа, переезд в Нью-Йорк, возвращение на родину и др.) жизни главной героини с момента ее зачатия и до мая 1968 г., когда девушка переезжает в Плая Бланка. Иначе говоря, время и пространство романа условны, как и в кино, герои оказываются в любом месте и моменте истории по воле автора. Постоянная смена формы хронотопа с сохранением присутствия в моменте повествования, что свойственно кинематографическому принципу организации пространства-времени, сближают роман с фильмом. Этот эффект усиливается благодаря наличию в романе множества точек зрения и нехронологической подачи событий. Симультанность и условность пространства-времени, имитация движения камеры иногда достигаются в том числе и благодаря применению «потока сознания», в котором сливаются мысли, воспоминания, сиюминутные впечатления героя, не имеющие эксплицированной логической и причинноследственной связи. Крупнейший британский специалист по литературе модернизма Б. МакФарлейн отмечает, что такой способ литературного повествования более других близок кинематографическому из-за мгновенности повествования [20. P. 18-19]. М. Пуиг неоднократно прибегает к такому приему. Повествование нередко ведется в настоящем времени и насыщено монтажными приемами, напоминая плавное движение камеры, которая акцентирует внимание на значимых деталях, то приближая, то отдаляя сцену действия или отдельные ее части. Примером такого повествования является четвертая глава, в которой Гладис, лежа в своей постели в Плая Бланка, размышляет о жизни и вспоминает прошлое. Мысли героини сбивчивы, перескакивают с темы на тему. Вот рука убийцы запихивает сэндвич в глотку своей жертвы, а в следующую секунду план меняется, и в «кадре» появляются деревья с набухающими почками. Затем плавное движение «камеры», т.е. повествовательной точки зрения, выхватывает высотный жилой дом: Masticandolo poco a poco se lo puede deglutir sin el menor inconveniente, pero si una mano asesina abriera por la fuerza la boca de la victima. introduciendo con toda su ferocidad criminal el sandwich entero en la garganta lograria asfixiarla mortalmente. Los arboles respiran por las hojas, y como es de esperar en esta epoca del ano los brotes tiernos se ven por todas partes. A pocas cuadras de alli el monobloque de veinte pisos y treinta departamentos por cada uno de ellos, dos por tres seis llegan a seiscientos, y si el muchacho con el regalo en la mano ha perdido su anotacion con el numero de departamento debe recurrir al encargado del edificio que puede haber salido [19. C. 157-158]1. Другим примером может служить одиннадцатая глава романа, в которой терзаемый бессонницей Лео прокручивает в голове различные варианты развертывания дальнейших событий. Все подавляемые желания, страхи героя всплывают вновь и вновь, сливаясь в сюрреалистический полусон. Перед взором Лео предстает то аэропорт, то номер отеля, то выставочный зал, то кабинет его психотерапевта. Каждый раз обыгрывается одна и та же ситуация - встреча с Гла-дис, но иначе, словно несколько версий окончания фильма. Здесь также можно наблюдать свойственную повествованию М. Пуига монтажность: камера выхватывает мигающую на ночной улице вывеску, затем крупным планом кровать, разбросанные находки моря, которые являются частью художественной инсталляции Гладис: Un letrero de la calle se enciende y se vuelve a apagar. Una cama, esqueletos de peces, restos de naufragios, objetos diseminados en la oscuridad [19. C. 476]2. В другой версии Лео переносится в бразильские тропики. Сначала крупный план сосредоточен на часах в выставочном зале, показывающих шесть вечера, затем камера пробегается по находкам моря: Anochece temprano en el tropico, el reloj del Pabellon Internacional de la Muestra indica las seis de la tarde. Esqueletos de peces, restos de naufragios, a la vista tambien una pelota de goma rajada, piedras pulidas, objetos diseminados [19. C. 482-483]3. Обратим внимание на подобный кинематографическому эффект присутствия, который достигается в поэтике романа преимущественно при помощи использования настоящего времени. Например, в четвертой главе повествование возвращается в дом на побережье, в котором начинался роман. Хотя события в этой главе происходят раньше событий первой, повествование ведется в настоящем времени. Благодаря этому действие разворачивается словно здесь и сейчас, создавая иллюзию одновременности протекания события и рассказа о нем (его изображения): A dos cuadras el mar. las veredas, el jardin delante de la casa con la sala de recibo al frente, detras los dormitorios, el bano y la cocina y el patio abandonado, dos pinos plantados hace pocos anos. Una casa donde viven dos mujeres solas, la otra es la madre y esta durmiendo profundamente en el dormitorio contiguo [19. C. 150]4. Заметим, что эффект присутствия и сиюминутности усиливается благодаря использованию вопросов, чаще риторических: zY si se despierta? tal vez se irrite porque el descanso es necesario, los ojos cerrados no pueden ver nada. Si continua durmiendo y mantiene los ojos cerrados no vera nada feo, como si estuviera ciego. zEn que piensa la gente cuando ya tiene todo lo que quiere y no puede pedir mas nada? [19. C. 310]5. Тема своего рода «подглядывания», желания или страха «быть увиденным» является одной из основных в идейно-художественной структуре романа, что отмечает М.Е. Бойл, подчеркивая ключевую роль подобного «смотрения» в раскрытии персонажей и развитии сюжета романа и связывая его с навязанными социальными ролями мужчины и женщины, темой притеснения и подавления, характерной для произведений М. Пуига [2]. Наличие некоего потенциального «зрителя» неоднократно упоминается в тексте романа, а главные герои могут оказаться как в роли наблюдателя, так и в роли наблюдаемого: «...durante ese instante en que cerro los ojos podria haber entrado alguien en la habitacion sin que ella lo percibiera.» [19. C. 18], «.puede alertar a quien este en esta cama mirando hacia la puerta.» [19. C. 150]6. Читатель, вместе с тем, неизбежно оказывается в роли «смотрящего» или «подглядывающего», т. е. превращается в зрителя. Такой эффект, с одной стороны, достигается благодаря кинематографичности повествования, с другой стороны, усиливает саму эту кинематографичность. Кинодискурс проявляет себя и в диалогичности произведения, которая, прежде всего, отражается в композиционных особенностях повествования. Диалоги в романе преимущественно строятся без слов рассказчика, что сближает роман с драматическим произведением, а читателя превращает в зрителя. Возьмем, например, воображаемое интервью, которое Гладис давала модному журналу «Harper's Bazaar»: R: Conque esas tenemos. Pues bien, ya que no quiere contar su historia, empiece por contarnos la historia de amor que habria preferido vivir. G: Imposible. Considero que mi propia historia de amor es insuperable [19. C. 313]7. Мы видим указание на говорящего, но слов повествователя или комментариев нет, поэтому о происходящем (например, об эмоциональном состоянии собеседниц) можно судить лишь по их репликам, что напоминает пьесу или сценарий. То же происходит и в двенадцатой главе романа, когда Лео беседует с офицером полиции в участке: LD: No, disculpeme Ud. a mi. Busque tranquilo no mas. Pero lo que no quiero es hacerle perder tiempo. Deje... si no lo encuentra. O: No, estoy seguro de haberla visto hace un rato. LD: Siento molestarlo tanto. [19. C. 500]8. Или в четвертой главе, когда мать Гладис прерывает размышления дочери, возвращая ее назад из воспоминаний и фантазий: - Gladys, vestite que nos pasan a buscar. - Ya voy. - 6Pudiste hacer un poco de siesta? - Si [19. C. 162]9. Диалоги часто строятся из реплик одного персонажа, в то время как слова второго собеседника опущены и он лишь указывается или предполагается. Тогда на его месте оказывается читатель. Так, в восьмой главе мы видим Лео на приеме у психолога. Отсутствие речи врача как такового делает читателя единственным собеседником, которому исповедуется главный герой, а о присутствии врача мы узнаем из предшествующего комментария: Divagaciones de Leopoldo Druscovich durante una visita a su medico, el di.a 24 de abril de 1969 [19. C. 367]10. . no, no cantaban «Lili Marlene». . con mi hermana mas chica al piano. . a ella tampoco le gustaba [19. C. 374]11. То же наблюдается и в девятой главе, когда Лео общается с Марией Эстер Вила: ее реплики оставлены пустыми. О содержании ответов собеседницы можно догадываться лишь по реакции и словам Лео: MEV: LD: No comprendo. MEV: LD: 6C'omo? 6El artista «existencialmente» implica que su planteo sea original?, 6quc es eso? [19. C. 403]12. Не менее показателен эпизод в пятой главе в отделении полиции, куда поступил анонимный звонок. Находясь с сотрудниками в одном помещении, читатель не может знать ни кто находится на другом конце провода, ни что она говорит, поэтому ее реплики оставлены пустыми. Заметим, что слова сотрудников полиции сопровождаются своеобразными ремарками, композиционно сближая повествование с пьесой или сценарием: Asistente: (hombre ya mayor de cabello cano y figura rechoncha, protegido de la fuerte luz de la lampara por una visera, atiende el telefono) Si, si senorita (a su superior). Para Ud., jefe. Una mujer. Oficial: (levanta el tubo) Hable. Voz en el telefono: Oficial: Si, la escucho (su mirada cae sobre un titular del diario - «ULTIMAS BAJAS DE ESTADOS UNIDOS» - y recorre parte del texto que sigue sin concentrarse, prestando atencion solo a su interlocutora). Voz: [19. C. 204-205]13. Неизвестная из пятой главы и есть та самая Мария Эстер Вила, реплики которой во всех диалогах с Лео оставлены пустыми. Диалогичность в романе не сводится к композиционной форме организации речи: ее можно трактовать и в бахтинском понимании, согласно которому «каждая реплика сама по себе моноло-гична (предельно маленький монолог), а каждый монолог является репликой большого диалога» [21. C. 296]. Иначе говоря, диалогичность выходит за рамки диалога между персонажами и может пониматься как диалог между повествователем и читателем и проявляться в обращенности текста к читателю. Отметим, что М. Пуиг воспринимал и литературу, и кинематограф как опосредованный диалог: «Писать - это вести диалог с другим человеком. С другой стороны, можно сходить в кино. Там в роли собеседника выступает фильм» [22. P. 207]. Так, даже в тех случаях, когда повествование ведется в прошедшем времени, иллюзия присутствия сохраняется благодаря вопросам, которыми задается повествователь, именно они втягивают читателя в диалог с персонажами и автором, делая его уже не просто пассивным зрителем, но участником происходящего: el haz de luz - ;.de una linterna? - senalaba un detalle del piso para que no se le pasara por alto. La luz ceso, se notaban empero huellas barrosas - ;.de zapatos de hombre? - ya secas que iban y volvian de la puerta del dormitorio de su hija a la puerta de calle, atravesando la sala de estar [19. C. 20]14. Как говорилось ранее, кинодискурс включает в себя художественные приемы, основанные на работе с кадром - ключевой единицей киноязыка. К таким приемам относится, в первую очередь, монтаж. С.М. Эйзенштейн отмечал, что монтаж «пронизывает» все кинопроизведение, так как играет первостепенную роль на всех уровнях повествования, начиная от склейки отдельных фотокадров и заканчивая созданием целостности завершенного кинопроизведения. Таким образом, можно говорить о микромонтаже (сборка одного куска), монтаже (соединение кусков или монтажных единиц) и макромонтаже (композиционное сочетание отдельных сцен) [23]. Обращается к использованию монтажа и М. Пуиг. Уподобление повествования (вернее, его источника) плавному передвижению камеры, ее приближению и отдалению, использование разных ракурсов - все это является неотъемлемой частью поэтики романа М. Пуига. Своеобразная монтажность повествования сочетается с использованием настоящего времени, но не всегда. Например, в первой главе романа, когда Клара обнаружила пропажу своей дочери Гладис, повествование ведется в прошедшем времени, однако монтажность присутствует и здесь: мы видим сначала Клару с улицы через прозрачные шторы, затем «камера» приближается, и мы можем расслышать ее взволнованные вздохи: «Desde el jardin. a traves de las cortinas de gasa, se vein a Clara con los ojos desmesuradamente abiertos, fijos en el cielorraso; de mas cerca, tras el biombo, se podian oir tambien sus frecuentes suspiros, a modo de queja por su mala memoria» [19. C. 24]15. Неповторимый авторский стиль повествования, сплетенный из множества композиционных форм организации текста (диалоги, неполные диалоги, поток сознания, стенограммы телефонных разговоров, биографии и т.д.) и наполненный монтажными техниками разного рода, условность времени и пространства романа, иллюзия реальности происходящего и присутствия в моменте повествования, эффект «просмотра», а не только прочтения - все это сближает роман с кинофильмом. Кинодискурс и «вставные фильмы» Кинодискурс проявляется не только в использовании киноприемов в поэтике романа, но и в эпиграфах к каждой главе, которые представляют собой отрывки из фильмов первой половины и середины ХХ в. Заметим, что М. Пуиг с ранних лет был одержим магией кинематографа (походы в кино были единственным развлечением его матери, именно она привила ему такое увлечение) и всегда мечтал творить кино. Как отмечает переводчица, биограф и исследователь творчества М. Пуига С.Дж. Ливайн, он не просто восхищался кино, но хотел жить в нем [24. P. 51]. Всего таких «вставных фильмов» в романе шестнадцать. Чаще всего это диалоги двух или более персонажей фильма, реже - монологическое высказывание (например, главы II и XI). Каждой реплике предшествует указание на действующее лицо, как в сценарии (или пьесе): El magnate fraudulento: Aja. 6Ah si? Ud. se ha estado portando muy mal ultimamente, mi estimada senora. Me estoy hartando. Jean Harlow: 6y que? [19. C. 203]16. Реплики часто сопровождаются пояснениями касательно того, что происходит в кадре, где и как говорят герои, напоминающими авторские ремарки или сценарные комментарии: El ladron: (con orgullo) Piedra por piedra, calle por calle, boulevard por boulevard. Hedy Lamarr: (mirando la mi'sera taberna en que se encuentran) jQue lejos estamos de todo aquello! [19. C. 363]17. В конце каждого эпиграфа указано название цитируемого фильма и киностудии, на которой он был снят: «De La dama de las camelias, Metro-Goldwyn-Mayer» [19. C. 11], «De El expreso de Shangai, Paramount Pictures» [19. C. 149], «De Manana llorare, Metro-Goldwyn-Mayer»18 [19. C. 400] и т.д. Заметим, что структурно цитирование фильмов в романе представляет собой некую смесь между сценарием (часто ограниченным лишь указанием на место действия и репликами персонажей), монтажным листом (содержащим детальное описание съемки) и литературным оформлением кинотекста. Как отмечает Л. Н. Березовчук, ключевым для понимания киноповествования является так называемый операторный уровень восприятия. Во-первых, перцептивные действия на данном уровне осознаваемы, иначе говоря, «зрителю, для того чтобы появилось чувство сопричастности показываемому на экране, предварительно нужно знать, какой фильм и с какой целью он пришел посмотреть». Во-вторых, именно на операторном уровне восприятия «активизируются личностный, социокультурный и эстетический опыт человека, его долговременная память» [25. C. 236]. Представляется, что два этих свойства реализуются в романе благодаря эпиграфам, которые обращаются к опыту читателя как зрителя. Цитирование известных фильмов перед началом каждой главы вызывает у читателя определенные воспоминания и ассоциации, связанные с просмотренными кинолентами, влияя тем самым на восприятие относящейся к нему главы, точно так же как предыдущий кадр влияет на понимание кадра последующего. Иначе говоря, автор, обращаясь к культурному опыту читателя, до начала главы показывает ему, о чем будет повествование. Например, в третьей главе цитируется фрагмент фильма 1945 г. «Милдред Пирс» («Mildred Pierce») с Джоан Кроуфорд (Joan Crawford, 1904-1977) в главной роли. Одной из ключевых в фильме является проблема взаимоотношений матери и дочери, т.е. трудность материнства. В качестве эпиграфа используется момент очередной ссоры близких людей, после которой героиня признается в том, как нелегко быть матерью: Hija: (sale corriendo) No... Joan Crawford: (a una amiga, como ella tambien golpeada por la vida) Hice lo posible (mira en torno, desesperada). Pero es inutil. No te imaginas lo que significa ser madre. Ella es parte de mi misma. Tal vez no haya salido todo lo buena que yo queria. Pero no por eso deja de ser hija mia [19. C. 49]19. Сама же глава посвящена биографии главной героини Гладис. И в свете эпиграфа читатель понимает, что основной проблемой ее взросления и становления как личности будут именно непростые отношения с матерью. Это показано не только в третьей главе, но и в других главах романа. Подобным образом все эпиграфы тесно связаны с сюжетом глав, давая «ключ» к их пониманию еще до начала прочтения главы. Кроме того, вставные фильмы, будучи отсылками к существующим элементам культуры, усиливают интерме-диальность и интертекстуальность романа, которая способствует порождению новых смыслов, а также является неотъемлемой и базисной характеристикой именно кино [26]. Заметим, что при отсылке к фильмам не употребляются имена действующих лиц. Главные героини обозначены именами игравших их актрис, остальные же обозначаются в связи с их ролью в социуме, например: дочь, подруга, вор, хористка и т.п. На первый план, таким образом, выводятся не персонажи фильмов, а именитые актрисы, сыгравшие их. Именно такой голливудской старлетке уподобляется главная героиня романа. Влияние образа «киноди-вы» начала ХХ в. на Гладис обозначено еще в третье главе, содержащей биографию девушки (образ прекрасных женщин из глянцевых журналов ей навязывали как эталонный). Всю жизнь главная героиня словно играет в фильме, наполненном драмой и трагедией, представляя себя в роли одной из таких «ки-нодив», постоянно находящихся под пристальным взором поклонников и зрителей. Например, Гладис представляет, как у нее берет интервью модный журнал, словно она - знаменитость. Другим подтверждением этого является предпоследняя глава романа, в которой девушка намеревается совершить самоубийство. Размышляя о возможности выброситься из окна, она беспокоится в первую очередь о том, как будет выглядеть и что будут думать прохожие, глядя на ее мертвое тело. Иначе говоря, «фильм» не закончится с ее смертью, и «зритель» продолжит наблюдать за ней даже после ее гибели. Таким образом, принцип «вставных фильмов» не только «внедряет» кинематограф в художественный мир романа при помощи прямого цитирования известных голливудских кинолент, но и играет важную роль в понимании сюжета произведения, «работая» также на создание образа главной героини и раскрывая потаенные смыслы через обращение к общекультурному опыту читателя-зрителя. Заключение Представляется, что кинодискурс, понимаемый, с одной стороны, как диалог «коллективного автора» и зрителя, строящийся на основе художественных средств выразительности киноязыка, и с другой - как совокупность всех кинотекстов, вписанных в общемировую культурно-коммуникативную среду, функционирует в анализируемом романе двумя способами. Во-первых, очевидно влияние кинопоэтики на художественную ткань произведения. Оно проявляется в условности и симультанности пространства и времени, их «сиюминутности». Автор стремится сократить дистанцию между читателем и разворачивающимся действием, создавая иллюзию присутствия читателя в моменте события. Не менее важную роль играет диалогичность, которая очевидна как в композиционноречевой организации текста (в этом смысле она драматизирует повествование и сближает роман с киносценарием), так и в опосредованном диалоге между читателем (зрителем) и автором. Произведение наполнено монтажными приемами, а подвижная повествовательная точка зрения уподобляется плавному движению кинокамеры. В совокупности все эти факторы наделяют роман своеобразной кинематографичностью, которая является основой образности произведения. Во-вторых, сценарные вставки из известных голливудских фильмов первой половины ХХ в., являющиеся эпиграфами к главам, отсылают читателя к кинодискурсу как части культурно-коммуникативного пространства и общекультурных знаний читателя-зрителя. Таким образом, автор вступает в диалог с читателем и помогает ему предвосхитить события той или иной главы и трактовать их в определенном ключе. Кроме того, цитирование кинолент направлено на создание образа голливудской старлетки, к которому стремится главная героиня. Как видим, писатель умело использует кинозрительский опыт и горизонт ожиданий читателя, с одной стороны, киноязык и средства его выразительности - с другой, чтобы создать эффект просмотра фильма во время прочтения романа, искусно преображая читателя в своего рода зрителя. Именно кинематографическая составляющая произведения играет ключевую роль в понимании образов главных героев и сюжетостроения романа.
Ямпольский М.Б. Память Тиресия: интертекстуальность и кинематограф. М. : РИК «Культура», 1993. 464 с.
Березовчук Л.Н. Феномен киноповествования // Киноведческие записки: истор.-теорет. журн. / Эйзенштейн. центр исслед. кинокультуры; Науч.-исслед. ин-т киноискусства; Музей кино. М., 2008. № 89/90 (окт.-дек.). С. 231-271.
Levine S.J. Manuel Puig: Edipo ronda La Pampa // Cuadernos de literatura. 2012. № 31. P. 48-64.
Эйзенштейн С.М. Монтаж // Избранные произведения : в 6 т. / редкол.: П.М. Аташева, И.В. Вайсфельд, Н.Б. Волкова, Ю.А. Красовский, С.И. Фрейлих, Р.Н. Юренев. М. : Искусство, 1964. Т. 2. С. 329-485.
McFarlane B. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford : Clarendon Press, 1996. 296 p.
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М. : Советский писатель, 1963. 363 с.
Levine S.J. Manuel Puig y la mujer arana. Barcelona : Seix Barral, 2002. 196 p.
Puig M. The Buenos Aires Affair, 1973. 702 p. URL: http://recursosbiblio.url.edu.gt/publieda/Libros/Afaire/3171tbaamp.pdf (дата обращения: 16.09.21019).
Олянич А.В. Кинодискурс // Дискурс-Пи. 2015. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kinodiskurs (дата обращения: 22.11.2019).
Зайченко С. С. Некоторые особенности кинодискурса как знаковой системы // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2011. № 4 (11). С. 82-86.
Савельева Е.Б. О взглядах Мишеля Фуко на теорию дискурса // Вестник Московской международной академии. 2015. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-vzglyadah-mishelya-fuko-na-teoriyu-diskursa (дата обращения: 21.01.2020).
Велюго О.А. Художественное воплощение любви в прозе Джулиана Барнса и Иэна Макъюэна : автореф. дис. канд. филол. наук. Минск, 2019. 24 с.
Фуко М. Археология знания / пер. с фр., общ. ред. Бр. Левченко. Киев : Ника-Центр, 1996. 208 с.
Лавриненко И.Н. Критерии классификации кинодискурса // Вестник Харьковского национального университета. Дискурсология: семантика и прагматика. 2012. № 1003. С. 41-44.
Зарецкая А. Н. Особенности реализации подтекста в кинодискурсе : автореф. дис. канд. филол. наук. Челябинск, 2010. 22 с.
Назмутдинова С. С. Гармония как переводческая категория (на материале русского, английского, французского кинодискурса) : автореф. дис.. канд. филол. наук. Тюмень, 2008. 21 с.
Сухая Е. В. Типы источников киноречи как основа лингвистических исследований // Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика. 2010. № 2. С. 68-73.
Тынянов Ю.Н. Об основах кино // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 326-345.
Слышкин Г.Г., Ефремова М.А. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). М. : Водолей Publishers, 2004. 153 с.
Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства: пер. с чеш. / сост. и коммент. Ю.М. Лотмана, О.М. Малевича. М. : Ис кусство, 1994. С. 396-410.
Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин : Ээсти Раамат, 1973. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Culture/Lotm_Kino/index.php (дата обращения: 24.09.19).
Ramfrez T.M. Analisis de los tres niveles narrativos de «El Beso de la Mujer Arana»: hacia la conformacion del homosexual heroico / profesor grna Guillermo Gotschlich. Santiago, 2005. 81 p.
Andrea M. El beso de la mujer arana y su transicion de la novela (1976) al. drama (1983) y al. filme (1985). Un enfoque narratologico y decolonial. UNIVERSITETET I OSLO. 2015. 100 p.
Boyle M.E. A Starlet Deformed: Seeing Women in Manuel Puig // Chasqui. 2015. Vol. 44, № 1. P. 19-28.
Esplugas C. Power and Gender: Film Feminism in Boquitas pintadas. West Chester University. URL: http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/ v03/Esplugas.html (дата обращения: 24.09.19).
Heffernan J.A.W. Ekphrasis: Theory // Gabriele Rippl (Eds.) Handbook of Intermediality: literature - image - sound - music. 2015. P. 35-49.
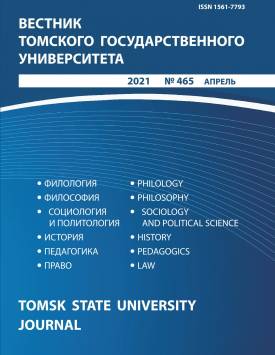

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью