Дается оценка геополитическому положению Кавказско-Каспийского и Центрально-Азиатского регионов в контексте энергетической безопасности. классифицированы определения понятия «энергетический потенциал» на три группы: 1) потенциальные возможности потребления различной энергии; 2) потенциальная совокупность энергии, которая может использоваться объектом хозяйствования; 3) составляющая производственного или ресурсного потенциала. Подчеркивается необходимость продуктивного сотрудничества стран Кавказа, Каспия и Центральной Азии для поддержания энергетической безопасности Евразии и мира.
Caucasus-Caspian and Central Asian Regions in the Global Geopolitical Confrontation.pdf Со времен распада СССР возникла необходимость в переменах расстановки сил с точки зрения геополитики, создания институтов, основной целью деятельности которых является поддержание региональной безопасности и укрепление традиционных связей между государствами Кавказско-Каспийский и Центрально-Азиатский регионов в экономике и торговле. Для любого государства вопросы, связанные с энергетической безопасностью страны (повышение эффективности энергопотребления и функционирования энергетики, реализация политики энергосбережения и пр.) в современных условиях приобретают особую актуальность. Энергетическая безопасность страны зависит от наличия собственных ресурсов и эффективности их использования, однако не в каждом государстве Кавказско-Каспийского и Центрально-Азиатского регионов топливно-энергетические ресурсы распределены равномерно: в одном месте они представлены с избытком, а в другом - их крайне мало. Естественно, возникает потребность в добыче, концентрации, обогащении, преобразовании и транспортировке топливно-энергетических ресурсов. Поскольку на каждом этапе трансформации и транспортировке энергетических ресурсов некоторая часть из них теряется и рассеивается (2-20% и более), возникает проблема оценки энергетического потенциала территории (региона), что и рассматривается в данной статье. Кроме того, в условиях энергетического кризиса возникает необходимость совершенствования существующих и разработки новых подходов и приемов достижения экономии энергетических ресурсов на промышленном предприятии с учетом имеющегося энергетического потенциала, использование которых позволит снизить энергоемкость продукции и обеспечить стабильное функционирование энергетической системы регионов и страны в целом. Учитывая данную необходимость, нужно как можно точно оценить энергетический потенциал и его составляющие. Таким образом, целью исследования является систематизация и обобщение подходов к определению роли Кавказско-Каспийского и ЦентральноАзиатского регионов в мировом геополитическом противостоянии, в частности, оценка энергетического потенциала данных субъектов и его геополитическое значение. Определений понятия «энергетический потенциал» много, учитывая, что сам термин «потенциал» рассматривается учеными с разных точек зрения. Стоит отметить особенность энергетического потенциала как составляющей ресурсного потенциала, который используют предприятия и который вправе использовать все люди как природное богатство. Поэтому энергетический потенциал имеет два основных направления оценки: энергетический потенциал определенного предприятия и энергетический потенциал региона. Отечественные исследователи отмечают, что «на сегодняшний день единого определения понятия энергетического потенциала региона не существует, как в научно-экономической, так и научнополитологической литературе» [1. С. 162]. Тем самым категория «энергетический потенциал» трактуется по-разному. Большинство его определений можно разделить на три группы: - энергетический потенциал как потенциальная возможность потребления различной энергии; - энергетический потенциал как потенциальная совокупность энергии, которая может использоваться объектом хозяйствования; - энергетический потенциал как составляющая производственного или ресурсного потенциала. Одной из задач статьи является изучение энергетического потенциала Кавказско-Каспийского и Центрально-Азиатского регионов в контексте геополитического противостояния. Энергетический потенциал данных регионов включает четыре составляющие: природные ресурсы и среду, добывающие мощности, генерирующие мощности, транспортную инфраструктуру. Прежде всего, энергетический потенциал региона - это природные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) территории, а именно природные энергетические ресурсы (нефть, природный газ, уголь, торф), и окружающая среда территории (солнечная радиация, энергия ветра, воды). Энергетическое значение Каспийско-Кавказского региона резко возросло после распада СССР, когда три из восьми бывших республик Центральной Азии и Кавказа превратились в самостоятельные экспортеры нефти и природного газа и раскрылись данные об огромных запасах углеводородов. В своей политике энергетической безопасности эти страны стремятся максимизировать собственные географические преимущества, укрепить свою независимость и извлечь максимальную выгоду за счет экспорта энергоресурсов. В то же время они вынуждены балансировать из-за осознанной бесперспективности интеграции в западные структуры. Они активизировали также «многовекторную энергетическую политику» с ориентацией на Восток, в частности на Китай, который превратился в крупнейшего потребителя энергоресурсов. КНР, например, покупает 80% природного газа Туркменистана. Китай заключил долгосрочный контракт с данным государством об экспорте. Важную роль в сфере энергетической безопасности играют также страны-транзитеры, особенно Турция, через территории которой проходят основные поставки природного газа и нефти из Кавказско-Каспийского региона в Европу. Евросоюз в своей политике акцентирует внимание на диверсификации маршрутов поставок, чтобы укрепить собственную энергетическую безопасность и сократить импортную зависимость от российского природного газа и нефти. Особое значение для всех стран, прежде всего для Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, имеет юридический статус Каспийского региона и его определение как моря или замкнутого озера, так как от этого зависит недропользование и добыча углеводородных ресурсов. С 1920 по 1991 г. лишь два государства - Советский Союз и Иран - имели выход к Каспийскому морю. После распада СССР ситуация в Каспийском регионе радикально изменилась. К России и Ирану, которые на протяжении столетий определяли ситуацию на Каспии, прибавились Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Вопрос о новом статусе возник в начале 1992 г. Тогда Иран выдвинул инициативу создания Организации регионального сотрудничества Прикаспийских государств. Позиция России по вопросам правового статуса Каспийского моря сводится к тому, что «оно является уникальным закрытым внутриконтинентальным водоемом, который должен иметь особый правовой статус и на который не распространяются нормы и понятия международного морского права, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.» [2. С. 57]. На сегодняшний день режим Каспия определяется Договором между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 г. и Договором о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 г. Эти договоры не регулируют вопросы недропользования, охраны природной среды и военной деятельности, а их действенность признается не всеми вновь возникшими прикаспийскими государствами [3. С. 15]. Как проблемы Каспия, так и проблемы всего Черноморско-Каспийского региона имеют существенное значение для отношений между Россией и ЕС. Евросоюз строит свою политику с новыми «постсоветскими» государствами Черноморско-Каспийского региона на основе концепции «Восточного партнерства». Россия подчеркивает обстоятельство, что все страны постсоветского пространства являются соседями России и ЕС, а не просто партнерами. «Постсоветское пространство» - пространство «общего соседства» России и Евросоюза, а не некоего «восточного партнерства», где Москва остается за кадром. К такому выводу пришли участники международной конференции на тему «Южный фланг СНГ. “Общие соседи” и “Восточные партнеры” сквозь призму Каспия». Разведанные запасы углеводородного сырья -нефти и газа - прикаспийских стран, кроме России и Ирана, оцениваются как весьма значительные. Доля Каспийского региона в настоящее время составляет 7% мировых запасов природного газа (14 трлн кубометров). По оценкам British Petroleum 2018 г., доказанные запасы нефти пяти прикаспийских государств составляют около 30 млрд т, или 19% мировых доказанных запасов нефти, а доказанные запасы природного газа - 145 трлн кубометров, или 45% мировых доказанных запасов. На первом месте по ресурсам находится Казахстан. У Казахстана самый большой нераскрытый нефтяной потенциал. В Казахстане обнаружены и уже разрабатываются несколько таких месторождений. На первом месте среди них месторождение «Тенгиз», открытое в 1979 г. Его сочли шестым в мире по величине. Однако в 2000 г. на шельфе обнаружено новое, еще более крупное месторождение «Кашаган» (по запасам нефти 5-е место в мире). Оно, вероятно, станет самым крупным нефтедобывающим проектом. Ожидается, что его доля достигнет до 5% мирового спроса на нефть к 2022 г. Такие Каспийские государства, как Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, вынуждены балансировать между западными странами, с одной стороны, и Россией и Китаем - с другой. Более активное партнерство с США и ЕС может принести им экономические выгоды в виде современных технологий и внешних инвестиций, но может также вылиться в натиск для проведения политических реформ, которые угрожают лидерам этих стран. Со стороны России и Китая такой опасности не существует. Однако, существуют и другие важные обстоятельства. У Казахстана, например, самая длинная сухопутная граница с Россией, а в стране живет значительный процент русскоязычного населения. В случае с Туркменистаном такое же значение имеет географический фактор. Туркменистан может экспортировать свой газ в Китай только транзитом через Узбекистан и Казахстан. В самой выгодной позиции с этой точки зрения находится Азербайджан, который уже реализовал часть проектов и планирует строительство новых трубопроводов для расширения экспорта углеводородов в сторону ЕС. Как крупный потребитель энергоресурсов в регионе выступает и Китай. Он проводит очень активную энергетическую политику во всех странах Центральной Азии, не выдвигает никаких политических требований и предлагает -вместе со своим огромным рынком - выгодные кредиты для реализации долгосрочных энергетических проектов. Энергетические ресурсы Каспийского региона в настоящее время являются основным фактором, который определяет международную политическую значимость и его место во внешнеполитических стратегиях великих держав. По сведениям BP Statistical Review of World Energy за 2017 г., разведанные запасы нефти в прикаспийских странах составляют, соответственно, 10,6 млрд т у Российской Федерации, 18.8 млрд т - у Ирана, 5,5 млрд т - у Казахстана, 1 млрд т - у Азербайджана, 0,1 млрд т - у Туркменистана; Данные по природному газу, соответственно, 44.8 трлн м3, 29,6 трлн м3, 1,8 трлн м3, 8,0 трлн м3 [4]. Для малых каспийских стран преимущественная часть этих ресурсов сосредоточена в регионе Каспийского моря. Сухопутные источники углеводородов Каспийского региона были истощены в процессе эксплуатации в XX в. Исключительный политический интерес в настоящее время представляет именно акватория Каспийского моря, на шельфе которого имеются огромные запасы углеводородов. Акватория Каспийского моря имеет также значение относительно возможного транспортного маршрута для поставки на мировой рынок значительных запасов из нефтяных и газовых месторождений Казахстана и Туркменистана, которые расположены в сухопутных частях их территорий. Однако Иран выступает против строительства газопровода в Каспийском море, объясняя свою позицию тем, что он может нанести серьезный ущерб экологии региона. Их позиция объяснима, ведь Иран предлагает соседям пользоваться его инфраструктурой - газопроводами и терминалами для поставки газа на мировые рынки, преследуя экономическую выгоду. Проблема разделения морского шельфа Каспия актуальна, начиная с первой половины 1990-х гг. Например, для Азербайджана она является ключевым вопросом национального экономического развития. Последовательные попытки РФ блокировать процесс разделения в 1993 г. привел к тому, что Азербайджан обратился к сепаратным действиям по решению проблемы эксплуатации шельфа. Правительство Г. Алиева, который 3 октября 1993 г. был избран президентом страны, добился прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, стабилизировал внутриполитическое положение и перешел к заключению соглашений с мировыми нефтедобывающими компаниями. С опорой на Азербайджан были сформированы проекты транспортных маршрутов: нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (заложен в 2002, открыт в 2006 г.) и газопровода Набукко (проектируется с 2002 г.). Последний предусматривает транспортировку газа как из Азербайджана, так и с месторождений Северного Ирака. В своей политике дипломаты Азербайджана опирались на прямую поддержку Турции. На рубеже 1990-2000-х гг. стратегия предусматривала формирование более широкого подхода, реализованного в попытке построения регионального блока ГУУАМ с участием черноморских, каспийских и центральноазиатских стран: Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы. В случае реализации он изменил бы общую политическую ситуацию в регионе. Такой блок оказывал косвенный рычаг для осуществления региональной стратегии США, обеспечивая ей самодостаточную поддержку и определенный противовес России. В аспекте энергетики им могло быть обеспечено формирование северного разветвления транскаспийского маршрута поставки энергоносителей через Черное море и Украину. Факторами, которые усложняли его реализацию, были технологическая несовместимость сортов азербайджанской легкой нефти AzeriLight и тяжелой российской нефти экспортного сорта Urals и недостаточность объемов каспийской нефти для поставки альтернативным турецкого маршруту. Действительно, как справедливо полагает С.З. Жижнев, каспийские страны имеют ряд потенциальных территориальных конфликтов, вызванных неопределенным статусом нераспределенного морского шельфа [5. С. 242]. К ним следует отнести: конфликты Азербайджана и Туркменистана (месторождения «Чираг», «Кяпаз» («Сердар»), «Азери» («Омар»), Азербайджана и Ирана, РФ и Казахстана. Неурегулированность территориальных споров, а также ряд других факторов заставляют страны региона ориентироваться на позицию России. К таким факторам мы можем отнести следующие: влияние РФ на Армению, т.е. потенциальная возможность восстановления армяно-азербайджанского конфликта; территориальные претензии РФ на территории Северного Казахстана; политическая изоляция Ирана, который ищет определенной опоры в сотрудничестве с Россией. Сейчас дипломатами стран региона было сформулировано несколько позиций по решению проблемы шельфа. Россия при поддержке Ирана настаивала на том, чтобы прикаспийским странам принадлежали только прибрежные зоны, а остальное морское пространство и шельф были бы в общем владении. Это позволило бы ограничить участие «внешних игроков» - транснациональных компаний в разработке и транспортировке углеводородов. С такой позицией изначально были не согласны Азербайджан, Туркмения и Казахстан, выступающие за разделение всего Каспия на сектора [6]. Однако схемы такого разделения отличались. Азербайджан настаивал на разделении акватории Каспия по принципу продолжения срединных линий сухопутных границ (при таком решении Азербайджан получал исключительно благоприятную конфигурацию границ, сохраняя контроль над спорными месторождениями нефти) [7. С. 59]. Туркменистан предлагал исключить из конфигурации выступающие части береговой линии, прежде всего Апшеронский полуостров; при таком разделении в страну отходили спорные с Азербайджаном три нефтяных месторождения. Иран предлагал схему разделения моря на равные части по 1/5 его площади. Казахстаном были высказаны компромиссные предложения по определению исключительных экономических 25-мильных зон на основе Конвенции 1982 г. [8]. С участием России были реализованы схемы так называемого многостороннего сотрудничества в Каспийском регионе. Так, была создана постоянная Специальная рабочая группа по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств (СРГ). С рубежа тысячелетий, как справедливо отмечает С.С. Жильцов, проводятся Каспийские саммиты глав прикаспийских стран в пятистороннем формате, которые стали уже регулярными. Первый был проведен в апреле 2002 г. (Ашхабад), Второй - 16 октября 2007 г. (Тегеран), третий - 18 ноября 2010 г. (Баку), четвертый - 29 сентября 2014 г. (Астрахань) [9. С. 67]. Их продолжением являются Межправительственные экономические конференции, первая из которых состоялась в Астрахани 3-4 октября 2008 г. Развитием «многостороннего сотрудничества» стало нереализованное предложение о создании специального международного финансового института регионального развития, а также иранская инициатива, поддержанная Россией, по созданию Организации каспийского экономического сотрудничества (ОКЭС) [10. С. 214]. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море обсуждалось на III Каспийском саммите 18 ноября 2010 г. в Баку. Хотя окончательного согласия странами региона достичь не удалось, усиливается восприятие российского предложения по определению схемы разграничения акватории Каспийского моря по принципу модифицированной равноудаленной срединной линии. Президент России В. В. Путин в сентябре 2019 г. подписал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Она закрепляет за Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов. Данная Конвенция также содержит условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных стран. Подписанты соглашения, кроме того, условились об отсутствии в Каспийском море вооруженных сил третьих стран. Российская Федерация рассчитывает на то, что в 2020 г. Каспийскую конвенцию ратифицирует Иран. Позиция России в данном вопросе заключается в том, чтобы отношения прикаспийских государств были более стабильными и предсказуемыми. Тем не менее можно наблюдать тенденцию милитаризации региона [11]. Следуя за Азербайджаном, другие страны Каспийского региона реализуют более или менее масштабные программы развития морских вооружений. В 2012 г. был спущен на воду первый из ракетноартиллерийских кораблей Казахстана. Достаточно амбициозной, направленной на возможное военное противостояние с Азербайджаном, является программа военного строительства Туркменистана. Можно наблюдать определенное военное сближение, вплоть до планов проведения совместных учений между Россией, Туркменистаном и Ираном. В 2016 г. Россия осуществила масштабную военную демонстрацию, обстреляв ракетами морского базирования «калибр» цели в Сирии с кораблей, расположенных в акватории Каспийского моря. Стоит отметить, что военные противоречия и региональная «гонка вооружений» ориентированы на двустороннее военное противостояние между странами Каспия и не ставят под сомнение бесспорное военное доминирование России [12]. В ближайшие десятилетия наиболее перспективным в плане сотрудничества стран Кавказско-Каспийского и Центрально-Азиатского регионов видится освоение ископаемых на Луне, в частности гелия 3. Его следует рассматривать как возможное термоядерное топливо. Добыча легкого изотопа гелия в ближайшем будущем сможет решить проблему энергетического кризиса на Земле. Гелий 3 в научных кругах нередко называют «горючим будущего». На Земле он встречается крайне редко. Все запасы этого изотопа на нашей планете оцениваются учеными не более чем в одну тонну. Исходя из этого, стоимость 1 г вещества равна порядка 9 тыс. долл. При этом 1 г гелия 3 способен заменить до 15 т нефти. В будущем гелий 3 видится альтернативой нефти. Таким образом, Кавказско-Каспийский и Центрально-Азиатский регионы имеют существенный энергетический потенциал. Их выгодное геополитическое положение существенно повысили политическую и геостратегическую значимость на мировой экономической арене. В них переплетаются интересы крупнейших потребителей углеводородов (США, ЕС, Китая, Индии и Турции), а также крупнейших поставщиков этих ресурсов (России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана). В целом значение этих регионов в энергетическом отношении является бесспорным как с точки зрения потенциала прилежащих стран, так и с точки зрения стратегии США и ЕС в реализации проектов по маршрутам в обход территории России. В настоящее время в целях развития Кавказско-Каспийского и Центрально-Азиатского регионов актуальным является исследование новейших тенденций развития региональных стратегий великих держав. Так, исследуемая проблема требует дальнейшего системного анализа и уточнения многих ее аспектов: колебание внешнеполитических приоритетов Турции, усиление влияния КНР в Кавказско-Каспийском и Центрально-Азиатском регионах, внутренняя консолидация и выработка самостоятельного внешнеполитического курса странами Кавказа и Средней Азии, сдвиги на мировых рынках энергоносителей (например, «сланцевая революция»).
Гонка вооружений на Каспии // Deutsche Welle. URL: http://www.dw.de/dw/article/0,,16229490,00.html
Каспий - источник разногласий между Ираном и Россией // Курсив. URL: https://www.kursiv.kz/news/vlast/kaspiy_istochnik _raznoglasiy_mezhdu_iranom_i_rossiey/
Рожков И.С. Ретроспектива каспийских саммитов: от стабильности к прогрессу // Проблемы постсоветского пространства. 2017. Т. 4, № 3. С. 210-220.
Жильцов С. С. Роль каспийских саммитов в решении региональных проблем // Научно-аналитический журнал обозреватель - Observer. 2017. № 9. С. 62-71.
Споры вокруг Каспия: компромисс пока не достигнут // Deutsche Welle. URL: http://www.dw.com/ru/cnopbi-BOKpy-Kacnna/a-16271507
Джунусова Д.Н. О разграничении правового режима исключительной экономической зоны и открытого моря // Современное право. 2011. № 1. С. 58-60.
Ельцин с Назарбаевым поделили Каспий // Газета Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/196272
Жижнев С.З. Энергетическая дипломатия в Каспийском регионе // Вестник МГИМО. 2012. № 1. С. 241-247.
BP Statistical Review of World Energy June (2017). URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statisticalreview-2017/bp-statis-tical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
Лепехин А.А. Проблемы определения правового статуса Каспийского моря после распада СССР // Права и глобальный социум. 2015. № 1. С. 13-17.
Калинов В.В., Сапаров С.М. История проблемы международно-правового статуса Каспийского моря // Нефть, газ и бизнес. 2011. № 4. С. 55-59.
Коваленко Т.А., Волков А.В. Энергетический потенциал региона и его количественная оценка // Экономика региона. 2013. № 3. С. 161-171.
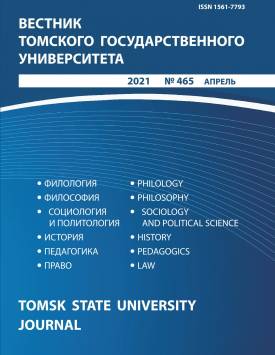

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью