Анализируются проблемы формирования волостных бюджетов Сибири в период НЭПа. Проанализированы особенности установления местных финансов в волостях Сибири и РСФСР в целом, выявлены основные причины несамостоятельности и дефицита бюджетов. Сделан вывод о том, что главной причиной являлось крестьянское сопротивление как реакция на проводимую государством политику социалистического преобразования советской деревни.
Peasant Resistance as a Reason for the Inefficiency of the State Policy on the Formation of Volost Budgets of Siberia du.pdf Государственная поддержка сельхозпроизводителей представляет собой актуальное направление социально-экономической политики российского государства на протяжении всего периода его существования. В настоящее время о планомерности и основательности работы законодателя в этой области свидетельствует принятый еще в 2006 г. специальный Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», который устанавливает «правовые основы реализации государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства» [1]. Особая значимость этой деятельности подтверждается и многочисленностью различных государственных программ, реализуемых как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. На юбилейном XXX съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), проходившем 19-20 февраля 2019 г., при обсуждении государственной программы развития сельских территорий была упомянута инициатива заместитель Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева, который предложил сделать из этой госпро-граммы 13-й национальный проект [2]. Вместе с тем представляется целесообразным, что разработка любых механизмов государственной поддержки сельских товаропроизводителей должна основываться не только на анализе реалий сегодняшнего дня и запросов рынка, но и на изучении богатейшего отечественного опыта данной деятельности и применения различных средств и способов экономической и внеэкономической стимуляции. Большим потенциалом в данном смысле обладает период НЭПа, как отражение советского опыта, основанного на применении идей децентрализации, а также построения системы самостоятельных местных бюджетов в сельских местностях на уровне волостей. Правовой институт волостных финансов в своем генезисе проявил черты значительной неоднозначности и противоречивости. Будучи по своей природе прогрессивным институтом, который находит свое выражение и в действующем российском законодательстве, в период НЭПа он так и не смог стать основой экономики советской деревни. Усилия законодателя по формированию местных бюджетов в волостях, как залога их финансовой стабильности и увеличения эффективности сельскохозяйственной деятельности, не принесли должного результата. Примечательным является то, что причины данного явления лежат за пределами исключительно экономики и правотворческой деятельности. Непреодолимым препятствием стало особое социокультурное явление «крестьянского сопротивления», отражающего общую реакцию сельского населения на проводимую государством политику. Прямое игнорирование решений законодателя и предписаний правоприменителя, проведение собственной идеи самоуправления крестьянской общины, отторжение чуждых навязываемых принципов явились причиной неудачи государственной политики в сфере установления системы волостных финансов. Представляется, что исследование комплекса социальных, экономических и политических процессов, протекавших в советской деревне и сопровождающих процесс организации нового финансового института, может дополнить современные представления о характере взаимоотношения сельского населения и государственной власти, а также способствовать разработке и внедрению технологий осуществления реформ в аграрном секторе, основанных на полноценном диалоге с населением, получении обратной связи, учета мнения сельхозпроизводителей и фактически сложившихся форм осуществления хозяйственной деятельности. Само явление «крестьянского сопротивления» в период НЭПа исследовалось в работах отечественных историков и правоведов как советского, так и современного периодов. Нельзя не отметить очевидную разнонаправленность данных исследований. Работы советских авторов рассматривают явление крестьянского сопротивления исключительно как проявление контрреволюционных замыслов враждебных элементов в деревне и потому зачастую носят прикладной характер. Например, в работе А.М. Анфимова «О методике учета крестьянских выступлений и количестве участников в них» [3] решается вполне конкретная задача разработки надлежащей методики сбора статистических данных и их дальнейшей обработки для подготовки адекватных действий государственных органов по подавлению крестьянских протестов. Аграрные историки современного периода рассматривают крестьянское сопротивление как особый социокультурный феномен, истоки которого восходят еще к дореволюционной России. В. Данилов, Р. Маннинг, Л. Виола подчеркивают трагический характер процессов, протекавших в советской деревне, дают оценку средствам, методам осуществления действий государственной власти и отмечают закономерный характер противодействия крестьянства [4]. Собранные ими архивные материалы позволяют провести беспристрастный анализ происходящих событий, понять логику и суть крестьянского протеста как особого социального феномена. Значение крестьянского сопротивления для реализации финансовой и налоговой политики государства в период НЭПа исследуется в работах В . А . Ильиных и Т.Ф. Ящук [5, 6]. Авторы отмечают очевидное влияние протестного настроения крестьянства на эффективность экономических преобразований. В рамках настоящего исследования данная идея получает развитие и экстраполируется на волостные бюджеты Сибири в период НЭПа. Анализируется связь между конкретными событиями, происходившими в регионе, изменением характера взаимоотношений крестьянства и государства и этапами становления волостных бюджетов. Целью настоящего исследования является выявление и комплексный анализ политико-правовых процессов в Сибирской деревне, оказывающих решающее влияние на формирование волостных бюджетов в сибири в период НЭПа, а также установление роли и места крестьянского сопротивления среди них. Достижение указанной цели предполагает решение ряда задач: - анализ этапов развития нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность органов государственной власти и местного управления по формированию системы местных финансов; - выявление комплекса причин неудачи государственной политики по формированию системы волостных бюджетов; - определение сущности крестьянского сопротивления как фактора, противодействующего государственной политике по организации местных финансов в волостях Сибири; - соотнесение отдельных этапов изменения характера взаимоотношений между крестьянством Сибири и государством с эффективностью организации местных финансов в указанные периоды. Идея установления системы местных финансов в РСФСР была законодательно провозглашена в 1921 г. Первым специальным законом, нацеленным на возрождение местных бюджетов, стал декрет СНК от 22 августа 1921 г. «О местных денежных средствах» [7]. В нем закреплялся территориальный принцип формирования местных доходов и указывались их источники. В распоряжение губернских исполкомов передавались процентные отчисления от поступающих по каждой губернии сумм промыслового и других прямых государственных налогов, размеры которых определялись Народным комиссариатом финансов на год вперед. Одновременно губернским съездам Советов, а в исключительных случаях и пленумам губернских исполкомов, предоставлялось право устанавливать надбавки к ставкам упомянутых государственных налогов, а также вводить и взимать местные налоги и сборы. В местные средства также обращались доходы от коммунальных предприятий. Декрет фактически означал восстановление системы местных налогов и сборов, но не содержал их конкретного перечня, который еще предстояло разработать. Не получили должной регламентации и осуществляемые из местных средств расходы. Следующим специальным актом в данной сфере являлся Декрет ВЦИК от 10 октября 1921 г. «О мерах по упорядочению финансового хозяйства», содержащий принципиально значимое положение о разделении общегосударственного бюджета и местных. Пункт 5 Декрета устанавливал: «Отменить объединение общегосударственного и местного бюджетов, предложив Народному Комиссариату финансов с заинтересованными ведомствами в кратчайший срок разработать систему этих последних» [8]. Несмотря на, в целом, декларативный характер данного положения, оперативная деятельность сотрудников НКФ позволила добиться того, что уже с начала 1922 г. сметы местных доходов и расходов начали составляться отдельно от общегосударственных. Большое значение оказало также принятие в конце 1921 г. еще двух специальных актов: Декрета ВЦИК и СНК от 9 декабря 1921 г. «О местных денежных средствах» [9] и Декрета ВЦИК и СНК от 10 декабря 1921 г. «О местных бюджетах» [10], которые содержали ряд принципиально значимых положений. Устанавливалось само понятие местного бюджета, раскрывалось его назначение, определялись виды местных бюджетов. Статьи 5, 6 Декрета «О местных бюджетах» предусматривали формирование губернских, уездных, городских и волостных финансов. Статья 1 определяла срок их учреждения: 1 января 1922 г. Таким образом, 1922 г. стал годом юридического провозглашения самостоятельных местных бюджетов. Проблемы в реальном установлении местных бюджетов проявились почти сразу. Возложенные на местные бюджеты расходы явно не соответствовали их финансовым возможностям, что привело к острому бюджетному дефициту и необходимости их покрытия за счет средств общегосударственного бюджета. Т.Ф. Ящук отмечает, что «реально к 1923 г. было создано только несколько областных бюджетов, а также губернские и уездные местные бюджеты. Губернские бюджеты преимущественно пополнялись средствами, полученными в виде финансовой помощи из центра, а также налогами, собранными в городах. Например, в Омской губернии к 1 апреля 1922 г. местные налоги и сборы, а также патентный сбор взимались только в г. Омске и зачислялись в губернский бюджет» [6. С. 67]. Что касается общего состояния дел по Сибири, то его можно оценить исходя из содержания отчетов, которые в марте 1922 г. губернские финансовые отделы направили в Сибирское финансовое управление. Согласно представленным данным, общегубернские сметы доходов и расходов все еще не были окончательно утверждены. В отчете Томского губернского финансового отдела отмечалось, что «приняты все возможные меры к скорейшему проведению местного бюджета... однако, несмотря на это, сметы доходов и расходов до сих пор не утверждены по причине того, что не удается элементарно произвести разграничение потребностей на губернские, уездные и волостные, а также остро не хватает специалистов» [11]. Об аналогичной проблеме заявлял также Иркутский губернский финансовый отдел. Согласно представленным им данным, к началу 1922 г. штат составлял 171 человек, что соответствовало комплекту в 39% [12. С. 80]. В отчете Енисейского губернского исполнительного комитета отмечалось: «Местный бюджет на 19221923 г., составленный в советском рубле, с первых же месяцев оказался не жизненным» [13. С. 15]. Следует отметить, что, согласно замыслу законодателя, бюджеты должны были условно делиться на два уровня: основные, в рамках которых должны были аккумулироваться наибольшие денежные средства, и регулирующие, выполняющие функцию бюджетного перераспределения и балансирования. Такой подход сложился в 1923 г. в процессе подготовки первого систематизированного нормативно-правового акта -«Временного положения о местных финансах» [14]. Логика законодателя представляется вполне понятной: города и волости были непосредственно связаны с хозяйством на местах, поэтому и бюджеты соответствующих уровней непосредственно связаны с хозяйственной базой. Неравный же экономический потенциал входящих в состав губерний и уездов волостей и городов требовал осуществления функций бюджетного перераспределения, что порождало необходимость существования отдельных бюджетных смет на уровнях губернии и уезда. Характер губернских и уездных бюджетов, таким образом, можно охарактеризовать как производный. Появление автономных местных финансов в пределах города и волости являлось залогом формирования реальной и целостной системы местных финансов и реализации всего замысла законодателя, связанного с децентрализацией государственного бюджета. Значительная роль в этом процессе была отведена именно созданию волостных бюджетов, поскольку СССР в период НЭПа оставался преимущественно аграрной страной. Подтверждением изложенному суждению является то, что законодательство о волостных бюджетах рассматриваемого периода является наиболее обширным и разработанным. Наибольшее количество актов в суммарном выражении посвящено именно волостным финансам. В отношение них было принято два специальных документа: Декрет ВЦИК от 23 июня 1924 г. «Об организации местных волостных бюджетов» [15] и Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 г. «О волостном бюджете» [16]. Особая необходимость скорейшего повсеместного введения волостного бюджета была отмечена на XI Всероссийском съезде Советов. Подчеркивалось, что «это будет содействовать организационному укреплению первичных органов Советской власти в деревне, оформит и укрепит волостное хозяйство и повлечет его полное и всестороннее использование» [17. С. 288]. Финансовые органы на местах, реализуя озвученный курс, издают собственные акты. В июне 1924 г. Сибревком утверждает документ общего характера - «Инструкцию к построению местных бюджетов на 1924/25 г.», в котором указывает губернским финансовым отделам на необходимость «обратить исключительное внимание на построение волостного бюджета» [18]. Т.Ф. Ящук в этой связи отмечает, что «именно формирование полноценных волостных, а затем районных бюджетов до конца 1920-х гг. превратилось в важнейшее направление политики государства и правящей партии в деревне» [6. С. 68]. В первой части Постановления ВЦИК «О волостном бюджете» устанавливался срок введения волостных бюджетов на всей территории РСФСР. Им должно было стать 1 октября 1924 г. Указанная задача, однако, не была выполнена ни в поставленный срок, ни в целом в период НЭПа. Первый опыт введения волостных бюджетов изучался в ходе специального обследования, проведенного в декабре-феврале 1924-1925 гг. местными органами Рабоче-крестьянской инспекции по заданию и программе НК РКИ РСФСР. Работа отличалась масштабностью: она охватила 50 волостей из семи экономических районов, включая и Сибирские волости. В отношении бюджетов были сделаны неутешительные выводы. Указывалось, в частности, что они крайне несамостоятельны, строятся сверху в уездных исполкомах, финансовая дисциплина является очень слабой, доходные имущества и предприятия находятся в ведении уездного исполкома, на административные нужды тратится почти половина доходов, воздействие бюджетов на хозяйственное развитие волости остается незначительным [19. С. 10, 17, 22, 126]. Подобная ситуация, в целом, сохранилась вплоть до конца 1920-х гг., когда задачи концентрации денежных ресурсов и их перераспределения на нужды ускоренной индустриализации и военного перевооружения повлекли пересмотр финансового законодательства и отказ от идеи самостоятельных местных бюджетов в целом. Анализируя причины неудачи государственной политики по формированию системы волостных бюджетов, следует выделить комплекс факторов. В первую очередь, нельзя не отметить общую неблагоприятность экономической ситуации в стране. Предшествующие годы характеризуются развалом финансовой системы государства, обесцениванием денег, колоссальной инфляцией и натурализацией обменных операций. Для периода НЭПа также характерно сохранение высоких темпов инфляции, одновременное наличие нескольких курсов рубля, что само по себе затрудняло бюджетное планирование. Ситуация осложнялась и такими субъективными факторами, как неурожаи. В отчете Омского губисполкома 1923 г. отмечается: «Омская губерния в течение последних четырех лет (1920, 1921, 1922 и 1923 г.) пережила недороды и голод (1921 г.). Крестьяне поэтому бедствуют и с трудом несут налоговое бремя, тем более что цены на продукты сельского хозяйства чрезвычайно низки» [20. С. 56]. Кроме того, имели место и организационные просчеты. Реализуя политику «оздоровления» общегосударственного бюджета, центральные финансовые органы бессистемно перекладывали отдельные расходы на местные бюджеты, стремясь к сокращению собственной расходной части. В итоге это приводило к несбалансированности волостных бюджетов с точки зрения соотношения их расходной и доходной части. Данная проблема осознавалась законодателем, равно как и возможные пути решения. В конце 1922 г. ВЦИК и СНК издают Декрет «Положение о государственном подоходно-поимущественном налоге», в котором в п. 958 предусматривается «перечисление в 1922-1923 гг. бюджетном году поступлений промыслового налога на усиление местных средств» [21]. В последующие годы перечень доходов волостных бюджетов будет продолжать пополняться, однако так и не сможет сравняться с расходной частью. Вместе с тем причины финансовой несамостоятельности и перманентного дефицита волостных бюджетов кроются не только в экономической и административно-управленческой сфере. Необходимо иметь в виду особенное положения волости как хозяйственной единицы. Являясь формой крестьянского самоуправления, она подвергалась весьма специфическому административному и политическому воздействию со стороны советского государства. В литературе небезосновательно отмечается, что «проблема исторических судеб российского крестьянства является одной из ключевых для понимания особенностей отечественной истории» [5. С. 3]. С начала периода НЭПа государство реализовывало последовательную политику социалистического преобразования российской деревни, заключавшуюся в ликвидации мелких индивидуальных хозяйств и организации крупных коллективных форм. В отношении крестьянства широко использовались орудия социалистического гнета, такие, например, как активно осуществляющееся «социалистическое перевоспитание», проявляющееся в многочисленных видах административного принуждения и применении различных форм прямого насилия, включая изъятие необходимого для жизни продовольствия. Исследование политики советского государства в этот период позволяет сформулировать тезис о том, что она, по существу, носила антикрестьянский характер. Эта точка зрения находит поддержку в большинстве историкоправовых исследованиях 1990-х и последующих годов [4]. Земельное общество 1920-х гг. представляло собой традиционное российское сельское общество - крестьянскую общину, из ведения которой были исключены и переданы сельскому совету функции местного управления и налогового обложения. Вопросы же землепользования, составлявшие основу сельской жизни, оставались в ее ведении. Община как самоуправляющееся соседское объединение крестьян всегда служила организацией их самозащиты в отношениях с государством. Проводимая государством политика породила явление, именующееся в современных исследованиях «крестьянским сопротивлением» [5. С. 3]. К формам такого сопротивления относят массовые выступления, распространение листовок, выступления отдельных крестьян на сходах или каких-либо других собраниях с критикой советской политики и деятельности органов власти, игнорирование указаний и требований этих органов. Можно заметить, что перечисленные акты носят неагрессивный характер и представляют собой, по существу, протест и самозащиту от насильственных действий власти. Особое место среди них, в контексте настоящего исследования, занимает игнорирование крестьянами решений и требований власти. Следует отметить, что именно невыполнение решений центральных финансовых органов чаще всего выделяется в качестве одной из основных причин при обсуждении проблем формирования системы местных бюджетов. В Декрете ВЦИК от 23 июня 1924 г., в частности, констатировались такие факты, как общее неблагополучие в сфере налаживания бюджетов, запаздывание и «прямое игнорирование местами требуемых действий» [15]. Сопоставление динамики объема волостных бюджетов и ключевых этапов изменения государственной политики в отношении крестьянства позволяет установить определенное соответствие. Так, в начале НЭПа крестьянство демонстрировало недоверие к государственной политике. Это объяснялось продразверсткой, окончившейся в 1921 г. и последовавшим за ней голодом 1921-1922 г. Инициатива формирования самостоятельных волостных финансов в этот период потерпела неудачу. Несмотря на то, что Декрет ВЦИК и СНК от 10 декабря 1921 г. «О местных бюджетах» предусматривал формирование волостных финансов, реально они так и не были учреждены вплоть до следующего этапа. В середине 1920-х гг. происходит либерализация государственной политики в отношении крестьянства. 4 ноября 1926 г. утверждается новая Инструкция о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов, восстанавливающая в избирательных правах крестьян, лишенных их ранее [22]. Распространяется аренда земли, расширяется применение наемного труда. В сфере местного управления увеличивается объем прав волисполкомов (райисполкомов), в том числе в финансовой сфере. Были приняты решения о передаче в волостной бюджет части сельхозналога, о разрешении учреждать некоторые независимые налоги (но не с населения), о передаче волостям предприятий и имущества (мельниц, кузниц и т. п.). Динамика волостных бюджетов коррелирует с этими процессами. В 1925-1926 гг., в то время как все остальные бюджеты снижают свой удельный вес в общем объеме местных финансов, волостные, напротив, увеличивают его. В общем выражении по РСФСР с 1923 по 1926 г. их доходная часть возросла в пять раз: с 58 371 до 261 369 тыс. руб. [23. С. 223]. Объем бюджетов по Сибири за аналогичный период увеличился в 3 раза [24. С. 16]. Несмотря на сохраняющуюся дефицитность, в этот период уже можно говорить о формировании реальных волостных бюджетов. Таким образом, смягчение государственной политики в отношении крестьянства, благоприятным образом сказывается на состоянии волостных финансов. С июня 1927 г., в качестве ответа на угрозу контрреволюции, начинает реализовываться программа «укрепления обороны». Примечательно, что её практическое осуществление начинается именно с деревни. 6 июля 1927 г. «всем Полномочным представительствам и начальникам губотделов ОГПУ» было разослано циркулярное письмо, утвержденное Г.Г. Ягодой и сообщавшее о задаче «оперативного воздействия на деревенскую контрреволюцию», поскольку «в ряде районов Союза мы имеем в деревне некоторые элементы, на которые зарубежная контрреволюция сможет опереться в момент внешних осложнений» [4. С. 25]. С этого момента начинают осуществляться массовые репрессии в отношении крестьянства. В Сибири Краевой суд, краевой прокурор и крайисполком издают совместный циркуляр от 21 декабря 1927 г. «Об усилении репрессий против кулацкой части деревни, в котором требуют от окружных судов «заканчивать эти дела в кратчайший срок, обеспечивая по ним жесткость репрессий» [25]. Особое значение имела поездка в Сибирь И.В. Сталина (18 января - 4 февраля 1928 г.), которая должна была послужить образцом правильного и успешного руководства. Основные документы, относящиеся к этой поездке, впервые они были опубликованы на страницах «Известий ЦК КПСС» в 1991 г. Их главный лейтмотив: «...страшно запоздали с заготовками... можно наверстать потерянное при зверском нажиме и умении руководить». Именно здесь были введены в действие применительно к хлебозаготовкам статьи Уголовного кодекса в качестве юридического обоснования широкого использования репрессий: ст. 107 против частных скупщиков-хлебников и держателей хлебных запасов - в основном крестьян; ст. 105 против «пособников спекуляции из низового аппарата» и ст 60 против недоимщиков при взимании налогов и других платежей. Исследователи архивных материалов этого периода отмечают, что «пожалуй, именно Сибирь явилась местом рождения 107-й, а затем и других статей УК как юридического основания для репрессий при проведении хлебозаготовок» [4. С. 36]. С 1928 г., таким образом, начинает реализовываться программа принципиально нового отношения к крестьянству, основанного на широком применении массовых репрессий и жестоком подавлении всех проявлений крестьянского сопротивления. Волостные бюджеты в рассматриваемый период составляются и исполняются со значительным дефицитом. В большинстве губерний волостные сметы существовали исключительно номинально, не образовывая самостоятельный уровень бюджетной системы. Завершение НЭПа и последующее выстраивание иной модели со-подчиненности центральных и местных органов, основанное на принципе централизации, повлекло пересмотр финансового и налогового законодательства в начале 1930-х гг. Новый курс на концентрацию денежных ресурсов и перераспределение их в первую очередь на нужды ускоренной индустриализации и военного перевооружения исключали возможность существования автономных местных бюджетов. Волостные финансы так и не стали основой экономики в Сибирской деревне. Таким образом, можно отметить, что поэтапное и планомерное развитие нормативно-правовой базы РСФСР, регулирующей местные бюджеты, не привело к формированию самостоятельных волостных бюджетов. Как уже отмечалось выше, в качестве причины этого можно рассматривать действие комплекса факторов. К их числу следует отнести общую неблагоприятность экономической ситуации в стране в рассматриваемый период, организационные просчеты законодателя, порождающие несбалансированность самих волостных бюджетов с точки зрения соотношения их расходной и доходной части, а также особый характер взаимоотношений государства с крестьянством, который порождал такой феномен, как крестьянское сопротивление. Подвергаясь различным социальным репрессиям, лишениям и изъятиям произведенных продуктов, крестьяне, разумеется, остро-негативным образом воспринимали все инициативы, исходящие от государства. Низкий уровень лояльности по отношению к власти рождал значительные трудности в проведении любых реформ и преобразований. Исключением не стало и учреждение местных бюджетов. Крестьяне игнорировали решения и предписания центральных финансовых органов, препятствуя практической реализации курса на создание волостных финансов. Это утверждение подтверждается установленной зависимостью эффективности организации реальных бюджетов в волостях от изменения характера государственной политики в отношении крестьянства в отдельные периоды НЭПа. Особое влияние эти процессы имели именно в Сибири. Регион всегда имел развитую финансовохозяйственную базу, и большое количество внутренних ресурсов, в том числе сельскохозяйственных. Уже в первый бюджетный период 1920-1921 гг. Сибирь путем продразверстки дала государству, по приблизительному подсчету, хлеба и прочих продуктов на общую сумму 62,325 тыс. черв. р., значительная доля которых пошла на удовлетворение потребностей европейской части РСФСР [26. С. 430]. Вплоть до конца 1920-х гг. сельское население Сибири оказывало значительное влияние на реализацию государственной политики по формированию всей системы местных бюджетов. Представляется, что законодатель просто недооценил роль крестьянской общины в социально-экономических процессах советской деревни, что привело к общей неудаче в установлении волостных бюджетов в Сибири и в РСФСР в целом.
Сибирская Советская Энциклопедия: в 4 т. Т. 1. Новосибирск, 1929. 988 стб.
Отчет по 2-му краевому съезду // Жизнь Сибири. 1925. № 12. С. 16-21.
Циркуляр Сибирского краевого суда, краевого прокурора и Сибадмотдела «Об усилении репрессий против кулацкой части деревни» от 21 декабря 1927 г. № 23-7-22 // ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 128. Л. 16.
Энциклопедия местного управления и хозяйства. М., 1927. 1568 стб.
Декрет ВЦИК РСФСР от 4 ноября 1926 г. «Об утверждении Инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов» // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 75. Ст. 577.
Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 16 ноября 1922 «Положение о государственном подоходно-поимущественном налоге» // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 76. Ст. 940.
Отчет Омского губернского исполнительного комитета Пятому Губернскому Съезду Советов. Омск, 1923. 183 с.
ГАНО. Ф. Р-1052. Оп. I. Д. 793. Л. 26.
Волостной бюджет и волостное хозяйство (по материалам обследования НК РКИ РСФСР). М., 1925. 136 с.
Постановление XI Съезда Советов РСФСР «О мероприятиях по общегосударственному и местному бюджетам» // Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях. М., 1939. 540 с.
Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 г. «О волостном бюджете» // Собрание узаконений РСФСР. 1924. № 87. Ст. 878.
Постановление ЦИК СССР от 12 ноября 1923 г. «Временное Положение о местных финансах» // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 111-112. Ст. 1045.
Декрет ВЦИК РСФСР от 23 июня 1924 г. «Об организации местных волостных бюджетов» // Собрание узаконений РСФСР. 1924. № 57. Ст. 575.
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-1052. Оп. I. Д. 254. Л. 81.
Отчет Иркутского губернского исполнительного комитета с 1 января по 1 июля 1921 г. Иркутск, 1921. 347 с.
Краткий отчет Енисейского губернского исполнительного комитета 5-му Енисейскому губернскому Съезду Советов за 1923 год. Красноярск, 1923. 38 с.
Декрет ВЦИК и СНК от 10 декабря 1921 «О местных денежных средствах» // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 80. Ст. 693.
Декрет ВЦИК и СНК от 10 декабря 1921 г. «О местных бюджетах» // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 80. Ст. 69.
Декрет ВЦИК от 10 октября 1921 г. «О мерах по упорядочению финансового хозяйства» // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 69. Ст. 550.
Декрет СНК от 22 августа 1921 г. «О местных денежных средствах» // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 62. Ст. 446.
Ящук Т.Ф. Система местных бюджетов РСФСР в период НЭПа // Финансы и кредит. 2007. № 5 (245). С. 67-73.
Ильиных В.А. Налогово-податное обложение сибирской деревни. Конец 1920-х - начало 1950-х гг. Новосибирск, 2004. 165 с.
Данилов В., Маннинг Р., Виола Л. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание 1927-1939. Документы и материалы : в 5 т. М., 1999. Т. 1.
Анфимов А.М. О методике учета крестьянских выступлений и количестве участников в них // Социально-экономическое развитие Рос сии : сб. ст. М., 1986.
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ // Российская газета. 2007. № 2.
Шипулин А. Государственная поддержка для фермерских хозяйств должна стать более доступной // Общественная палата РФ. 2019. 20 февраля. URL: https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48357 (дата обращения: 25.12.2019).
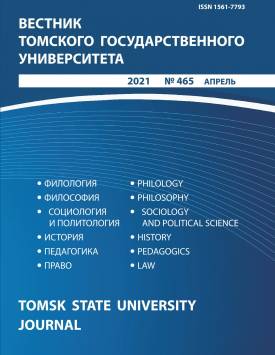

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью