Рассматриваются основные авторские теории по вопросу датировки процесса «военной революции», принятые в англоязычной и отечественной исторической науке. По мере углубления и развития теории ряд авторов предложили расширить как территориальные, так и хронологические рамки, рассматривая в качестве революционных события в ряде других стран.
The Main Approaches to Chronological Problems of the Military Revolution Theory in Modern English-Language and Russian S.pdf Концепция «военной революции» впервые вошла в историческую литературу с известной инаугурационной лекции британского историка Майкла Робертса под названием «Военная революция, 1560-1660» в Королевском университете в Белфасте в 1955 г. [1]. Робертс предложил теорию, согласно которой военное искусство в период раннего Нового времени в Европе радикально трансформировалось в течение буквально столетия. Это заключалось, во-первых, в тактической революции, основанной на использовании линейных построений мушкетеров, на появлении новой школы военной подготовки и муштры, включающей в себя умение быстро строиться, четко выполнять команды и беспрекословно подчиняться командованию. Во-вторых, новая система привела к значительному увеличению численности армий, что, в свою очередь, резко усилило влияние войны на общество. Новые армии, среди которых М. Робертс выделяет в голландскую армию Морица Нассау и шведскую - Густава Адольфа, стали более многочисленными и более дисциплинированными, чем это было возможно ранее. Это, в свою очередь, позволило ставить перед армиями более сложные стратегические планы и в конечном итоге поменяло сам характер войны, сделав его более глобальным. Таким образом, М. Робертс ограничил хронологию военной революции ста годами. Идея военной революции быстро стала популярной и фактически общепринятой на последующие двадцать лет. Только в статье американского историка Джеффри Паркера под названием «Военная революция 1560-1660 гг. - миф?» [2] впервые была сделана попытка посмотреть на события, составляющие «военную революцию» под другим углом и, помимо всего прочего, оспорить хронологические рамки процесса. С самого начала Д. Паркер раскритиковал в своей статье излишнюю ориентированность М. Робертса на Швецию и шведскую военную историю. С точки зрения Д. Паркера, Робертс явно переоценил важность военной реформы Густава Адольфа, недооценил важность осадной войны и осадного дела. Будучи специалистом по военной истории Испании, Д. Паркер попробовал применить теорию революции к испанским событиям и пришел к заключению, что Густав Адольф был скорее удачливым компилятором достижений французской, голландской, австрийской и испанской военных школ. Робертсовской хронологией Д. Паркер также остался недоволен и предложил свою датировку, указав, что дату начала революции стоит передвинуть на полвека ранее. Тем не менее Д. Паркер в целом принял концепцию «военной революции», настаивая только на расширении ее территориальных и хронологических рамок. Критики М. Робертса указывали в основном на недостаточное внимание, уделенное им некоторым сторонам военного дела: войне на море, новым способам ведения осад и изменениям в осадном искусстве. Кроме того, критике подвергалась позиция М. Робертса, рассматривающего Швецию как своеобразную «витрину» достижений военной революции, при этом совершенно упускались из виду достижения Нидерландов, Священной Римской империи австрийских Габсбургов, Франции. Но не стоит забывать о том, что концепция «военной революции» была изложена М. Робертсом в его инаугурационной речи в Белфастском университете. М. Робертс, соответственно, не имел возможности изложить всю концепцию за одно выступление. Тем не менее, больше темой «военной революции» он практически не занимался, сосредоточившись на изучении истории Швеции и предоставив развивать теорию революции другим историкам1. Следующим важным шагом в развитии историографии «военной революции» стала серия публикаций историка Джеффри Паркера. В первой своей работе Д. Паркер предложил расширить временные рамки «военной революции» с 1530 по 1710 г. [2]. В более позднем исследовании «Военная революция: военная инновация и усиление Запада, 1500-1800 гг.» [3] хронологические рамки «революции» изменились еще существеннее. Важно отметить, что, расширив хронологические рамки уже до трехсот лет и существенно сузив территориальные рамки «военной революции», Д. Паркер указал, что «военная революция началась в землях, управляемых Габсбургами и их архи-врагом, королем Франции. Далее она распространилась: сначала западнее - в XVI веке на Англию, затем восточнее - в XVII веке на оставшуюся часть Священной Римской империи, Польшу и Россию. Но многие области - Ирландия, Шотландия, центральная Франция, остались не охвачены революцией до начала 1700-х гг.» [3. P. 4]. На содержащейся в книге специальной карте, показывающей первые регионы, затронутые революцией, Д. Паркер отметил Нидерланды, Италию, северную часть Франции и северо-запад Священной Римской империи. На остальной части Европы отмечены только некоторые сражения, где применялись достижения «военной революции». Интересно отметить, что, несмотря на очень уважительное отношение Д. Паркера к М. Робертсу (в это время между ними велась оживленная переписка), он, тем не менее, не относит к числу передовых территорий Швецию. В данной работе Д . Паркер поставил вопрос, который определил значение военной революции как исторического явления: «Как смог Запад, изначально такой маленький и испытывающий дефицит природных ресурсов, компенсировать эту недостачу посредством превосходящей военной и военно-морской мощи и, таким образом, создать глобальные империи, покрывающие более трети поверхности мира к 1800 году» [3. P. xvi-xix]. Сам Д. Паркер предлагает искать причины в событиях еще Итальянских войн и возвышения военного дела Испании. Многие ученые подхватили эту идею и стали разрабатывать тематику Итальянских войн и предшествовавших этому событий, в первую очередь вторжение Карла VIII в Италию в 1494 г. Данная военная кампания наглядно продемонстрировала силу французской полевой и осадной артиллерии, с помощью которой французская армия смогла триумфальным маршем пройти по итальянским землям и окончить год блестящей победой. В качестве одного из наиболее существенных достижений Итальянских войн историки называют систему бастионных фортов (Trace Italienne), появление которых позволило останавливать даже большие и хорошо подготовленные армии и затягивать войны, нанося врагу серьезный материальный ущерб. В целом в качестве основных положений, включаемых в понятие «военной революции», обычно рассматриваются: переход от сословных ополчений феодального типа к профессиональной регулярной армии; широкое распространение артиллерии; появление и развитие принципиально новых систем фортификации, малоуязвимых для артиллерийского огня; доминирование на поле боя плотных масс пехоты, вооруженной в основном огнестрельным оружием; увеличение военных расходов государства. Дальнейшее развитие вопроса о датировке теории «военной революции» пошло по двум основным направлениям: расширение либо сужение хронологических рамок при неизменности территориальных, ограниченных обычно Европой, и распространение теории революции на новые государства и народы. Наиболее дискуссионным положением, позволяющим изменять хронологические рамки «революции» стало использование огнестрельного оружия, так как его внедрение в армии проходило особенно неравномерно. Ярким примером первого подхода может считаться концепция историка Клиффорда Роджерса, изложенная им в статье «Военная революция Столетней войны» [4]. Как указывает автор, «...акцент на столетия после 1500 года затмевает важность периода, в котором произошли самые драматические, поистине революционные изменения в европейских военных делах: период, примерно соответствующий Столетней войне (1337-1453)» [4. P. 243]. К. Роджерс опирается в своей концепции на тот факт, что армии, которые обычно рассматриваются историками - сторонниками теории «военной революции», сложились как система именно в этот период. Армии, доминировавшие на полях сражений средневековой Европы с XI до начала XIV в., представляли собой ополчение воинов-аристократов, которые были обязаны военной службой за земли, полученные в качестве феода, и составляли тяжелую ударную кавалерию. Армии «военной революции» были на них абсолютно не похожи: они были набраны в основном из простолюдинов (хотя часто во главе с аристократами). Солдаты получали за службу не земли, а деньги, вместо конницы доминирующим стал плотный строй пехоты [4. P. 243]. Опираясь на концепцию Д. Паркера о четырех составляющих «военной революции», К. Роджерс находит две из них во временах Столетней войны. Первой стала «пехотная революция», когда рыцарскую конницу стала вытеснять пехота, и вторая, «артиллерийская революция», произошла, когда первое пороховое оружие позволило преодолеть превосходство обороны над атакой при ведении боевых действий. По мнению К. Роджерса, каждое из этих преобразований коренным образом изменило парадигму войны в Европе, что привело к далеко идущим последствиям для социальной и политической жизни [4. P. 244]. Абсолютно с другой стороны рассматривает проблему датировки «военной революции» преподаватель Оксфордского университета Дэвид Паррот. Его работа «Бизнес на войне: наемничество и военная революция в европейской истории раннего Нового времени» [5] посвящена вопросам частной инициативы при создании и содержании армий. Пожалуй, впервые со времен Х. Дельбрюка автором была сделана попытка не только описать особенности создания и функционирования наемных армий, но и выявить тот момент, когда свершился переход от наемных - «частных» армий к армиям регулярным - «государственным». Д. Паррот выбрал в качестве хронологических рамок период от появления первых итальянских кондотьеров примерно в 1450 г. до завершения Тридцатилетней войны в 1648 г., так что никак не мог пройти мимо теории «военной революции». Опираясь на свои выводы, Д. Паррот оспаривает хронологические рамки «военной революции», указывая, что создание постоянных армий - один из основных критериев революции - произошло значительно позже дат, указанных Д. Паркером. Автор указывает, что еще в начале XVII в. не было единой модели для организации структуры вооруженных сил. С точки зрения Д. Паррота, даже в течение Тридцатилетней войны не было определенности в выборе конкретной модели развития армии. Путь создания армии, контролируемой государством, не являлся общепринятым, так как государства той эпохи сами по себе обычно не располагали финансовыми ресурсами и необходимым уровнем организации для создания больших армий [5. P. 308]. В качестве отправной точки «военной революции» Д. Паррот предлагает брать последующие эпохи - от конца Тридцатилетней войны до войн Людовика XIV2. Другой исследователь Джереми Блэк предложил свою хронологию процесса «военной революции», предложив начинать ее примерно с 1660-х гг. и заканчивать началом XVIII в. В своей работе «Военная революция? Военные изменения и европейское общество, 1550-1800» Д. Блэк полемизирует с Д. Паркером, в том числе и по вопросу датировок. В качестве основного фактора революционных изменений Д. Блэк предлагает считать резкий рост численности европейских армий, который пришелся как раз на предложенный им период второй половины XVII в. [6]. В качестве примера второго подхода можно отметить работу крупного специалиста по истории Древнего Китая Питера Лорджа «Азиатская военная революция: от пороха до бомбы» [7]. Уже во введении к своей работе автор отмечает крайний европоцентризм большей части исследователей проблематики военной революции: «... современную историческую науку можно сравнить с расистским преследованием, которое не только поднимает белых западных людей выше всех остальных, но и активно очерняет азиатскую историю...» [7. P. 7]. Не споря с происходящими в Европе военными изменениями в период с 1500 по 1800 гг., П. Лордж указывает на то, что изменения были и в другие исторические периоды. По его оценке, вполне можно говорить о восьмисотлетнем процессе «военной революции» с 1200 по 2000 гг. [7. P. 19]. Основной тезис Д. Паркера, который подвергается П. Лорджем критике, - это сама «революционность» использования пороха в военном деле. Само по себе пороховое оружие и пушки были известны европейцам задолго до периода, который относится Д. Паркером к эпохе «военной революции» [7. P. 19-22]. Как указывает в своей работе П. Лордж, порох как вещество был изобретен в Китае еще в эпоху Сун в 808 г., а военное его использование датируется XI в. (возможно, это было связано с борьбой против тангутов). Если принимать эти даты, то по критерию использования порохового оружия «военная революция» растягивается на просто гигантский срок в восемьсот лет, длительность которого убивает саму идею «революции». В качестве еще одного примера «азиатской военной революции» историки обычно приводят Османскую империю, которая была одним из самых успешных и мощных восточных государств своего времени. Более того, турецкая армия была одной из самых передовых как раз благодаря широкому использованию пороха и артиллерии. Именно артиллерия помогла сокрушить стены Константинополя и еще ряда крепостей, а ряд подразделений (например, янычары) стали широко известны именно благодаря использованию порохового оружия. Наиболее известным исследованием в этом направлении является работа американского историка Габора Агостона из университета Джорджтауна «Огнестрельное оружие и военная адаптация: Османы и Европейская военная революция, 1450-1800» [8]. В ней Г. Агостон также делает основной упор на применение турецкой армией порохового оружия еще с 1380-1390-х гг. Уже в 1440-х гг. во время войны с Венгрией пушки массово использовались турецкой армией при осадах, обороне крепостей и для контроля рек [8. P. 88-91]. Ряд востоковедов-исследователей даже вводят в своих работах по военной истории новый термин «пороховая империя», или «исламская пороховая империя». Классические образцы пороховой империи на Востоке: Османская империя, где широкое использование пороховой артиллерии относится к началу XV в.; сефевидская Персия и Империя великих моголов, которые начали массово использовать порох уже в XVI в. (персидские туфенгчи, могольская армия Бабура). Впервые концепцию «пороховой империи» сформулировали в 1974 г. два американских исследователя из Университета Чикаго Маршалл Хогсон [9] и Уильям МакНейл [10]. Позднее эта концепция нашла развитие в трудах ряда востоковедов, которые адаптируют концепцию «военной революции» под различные восточные государства3. Что касается применения концепции «военной революции» к реалиям Российского государства, то следует отметить тот факт, что отечественные историки не проявили почти никакого внимания к новой научной концепции, появившейся в Европе. Специальных работ и, соответственно, датировок по истории «военной революции» не было фактически до начала 2000-х гг.4 Изучением теории революции М. Робертса в России занимается фактически только Виталий Викторович Пен-ской, который является автором ряда статей и монографий по военной истории России5. В своей главной работе «Великая огнестрельная революция» [11] В. В. Пен-ской рассматривает революцию как в европейском регионе, так и в Османской империи, Речи Посполитой и России. Датировку «военной революции» автор приводит для каждого региона отдельно: для Европы это 2-я пол. XV - 1-я пол. XVIII вв, для Турции и Речи Посполитой XV-XVII вв, для России В. В. Пенской предлагает даты со 2-й пол. XV в. и до начала XVIII в. Российская «военная революция» распадается, таким образом, на 2 части: «ориентализацию военного дела» и реформы первых Романовых, сопровождающиеся «ползучей вестернизацией», продолжавшейся в военном деле до начала XVIII в., т.е. до петровских реформ. Удивительно, но даже несколько больший интерес к проблематике процесса «военной революции» в России (Московии) проявили англоязычные историки. Например, исследователь Маршалл Пое в своей работе «Последствия военной революции в Московии: сравнительная перспектива» описывает трехступенчатую систему внедрения военных новшеств под давлением соседних государств, принявших «военную революцию». Начальной датой таких изменений М. Пое называет 1551 г., когда кавалеристы из числа детей боярских стали прообразом постоянной армии. В качестве дополнительных фактов, подтверждающих датировку начала «военной революции» в России с середины XVI в., М. Пое приводит создание разрядного приказа и появление первых постоянных войсковых формирований, вооруженных пороховым огнестрельным оружием, и содержавшегося за счет государственной казны стрелецкого войска. Следующими вехами развития военного дела в Росси автор называет участие страны в Смоленской и Тринадцатилетней войнах, которые привели к массовому привлечению в армию иностранцев и к углублению военной реформы. Заканчиваются военные преобразования и сам процесс революции в конце 1660-х гг., когда Российское государство окончательно перешло к армии, набираемой на постоянной основе. Таким образом, М. Пое рассматривает в качестве вершины процесса «военной революции» не петровскую армию, а полки «нового строя» Алексея Михайловича [12. P. 607-609]. Наличие целого ряда подходов к теории «военной революции» и появление большого числа разнообразных датировок не могли не сказаться на позициях её сторонников. Сам факт существования исследований, в которых «революционные» процессы рассматриваются как длящиеся на протяжении двух и более веков, ставят состоятельность данной теории под сомнение. Вполне закономерным итогом стало появление в среде историков нового течения, говорящего уже не о «военной революции», а о «военной эволюции».
Poe M. The Consequences of the Military Revolution in Muscovy: A Comparative Perspective // Comparative Studies in Society and History. 1996. Vol. 38, № 4. P. 603-618.
Пенской В. В. Великая огнестрельная революция. М. : Эксмо, 2010. 448 с.
Hodgson Marshall G.S. The Venture of Islam. Vol. 3. The Gunpowder Empires and Modern Times. Chicago : University of Chicago Press, 1974. 470 p.
McNeill W.H. The Age of Gunpowder Empires, 1450-1800. Washington, D.C. : American Historical Association, 1989. 49 p.
Agoston G. Firearms and Military Adaptation: The Ottomans and the European Military Revolution, 1450-1800 // Journal of World History. 2014. Vol. 25, № 1. P. 85-124
Parrott D. The Business of War: Military Enterprise and Military Revolution in Early Modern Europe. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. xvii + 429 p.
Black J. A Military Revolution? Military Change and European Society, 1550-1800. London, 1991. 124 p.
Lorge P.A. The Asian Military Revolution: From Gunpowder to the Bomb. Cambridge University Press, 2008. 188 p.
Parker G. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800. Cambridge University Press, 2013. 288 p.
Rogers C.J. The Military Revolutions of the Hundred Years' War // The Journal of Military History. 1993. Vol. 57, № 2. P. 241-278.
Roberts M. The Military Revolution, 1560-1660. An Inaugural Lecture Delivered Before the Queen's University of Belfast. Belfast, 1956. 32 p.
Parker G. The «Military Revolution», 1560-1660 - a Myth? // The Journal of Modern History. 1976. Vol. 48, № 2. P. 195-214.
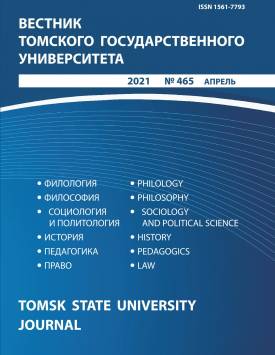

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью