Психологическая специфика проведения допроса в отношении особо ценных задержанных в США
Описывается опыт проведения допроса особо ценных задержанных в США с применением ненасильственных коммуникативных техник - работу проводит особая группа в составе нескольких следователей и экспертов, аналитика и переводчика. Члены группы не взаимодействуют с допрашиваемым, а наблюдают за допросом посредством зеркала Гезелла, предоставляя обратную связь следователю. Повышению результативности допроса способствуют также прайминг и специально организованный контекст проведения допроса.
Psychological Features of Interrogating High-Value Detainees in the United States.pdf В последние годы в юридической психологии и судебной экспертизе усилился интерес к различным коммуникативным техникам общения с интересующими следствие лицами [1, 2]. К таким техникам относятся допрос, опрос, интервью, собеседование и некоторые другие. Это обусловлено как поиском новых функциональных возможностей анализа и оценки содержания их показаний, так и возросшей актуальностью некоторых видов расследуемых уголовных дел. Наиболее перспективные возможности открываются на стыке таких наук, как криминалистика, юридическая психология, когнитивистика, психолингвистика, Affective Computing и ряда других, поскольку метауровень рассмотрения проблем позволяет обнаружить феномены и закономерности, общие сразу для нескольких научных отраслей [3]. Собеседования и допросы с задержанными проводятся по всему миру и практически во всех странах, но одним из наиболее интересных является опыт работы с ними в США, где была выделена категория «особо ценные задержанные» (High-Value Detainee). Detainee может таже переводиться и как «заключенный», но первое толкование нам представляется более уместным, так как допросы этих лиц проводятся еще до судебного процесса над ними, а иногда и не заканчиваются предъявлением официального обвинения. В первую очередь к ним относятся лица, в отношении которых оперативным и аналитическим путями собраны определенные доказательства (часто - только косвенные), указывающие на их связи с террористическими организациями и международными криминалистическими группами. Проводимое в их отношении Министерством обороны США дознание в самом общем виде определяется как «систематический процесс применения утвержденных подходов проведения допроса взятого в плен или задержанного лица с целью получения необходимой разведке надежной информации в соответствии с законодательством и проводимой политикой» (AFM, 2006, 1-20 - Армейский полевой устав, 2006, 1-20. [4]) В январе 2010 г. в США была сформирована особая группа, занимающаяся собеседованиями и допросами особо ценных задержанных - HVDIG (High-Value Detainee Interrogation Group). В свой состав она включает представителей трех ведомств: ФБР, ЦРУ и Министерства обороны США [5]. В HVDIG могут также входить зарубежные специалисты-исследователи, прошедшие специальный отбор и получившие профильную научно-практическую и методическую подготовку [6]. Возглавляет группу представитель ФБР, у которого есть два заместителя - один из Министерства обороны, а другой из ЦРУ. Интересно, что хотя HVDIG юридически находится в сфере ответственности ФБР, основной функцией этой межведомственной группы является сбор разведывательной информации. Это отдельная интересная тема, но в данной статье внимание авторов сосредоточено на правоохранительной тематике деятельности HVDIG. Работа группы полностью контролируется Советом национальной безопасности, Министерством юстиции и Конгрессом США. HVDIG развертывает экспертные мобильные группы с целью сбора разведданных для защиты национальной безопасности США. Представительства HVDIG расположены как в США, так и за рубежом. Члены группы имеют обширный опыт проведения собеседований и допросов, а их обучение основано на последних научных исследованиях. Как указано в документах, сотрудники применяют в своей практической деятельности только законные, санкционированные, ненасильственные методы допроса, разработанные для получения добровольных признаний. В настоящей статье не обсуждаются имеющиеся в открытой печати факты использования запрещенных методов дознания в США и других странах, свидетельства участников этих событий как с одной, так и с другой стороны, судебные кейсы. В анализируемых источниках такие данные отсутствуют. Благодаря полученным серьезным результатам при проведении программы исследований в целях изучения эффективности подходов и методов допроса HVDIG распространяет передовой опыт среди сотрудников правоохранительных и разведывательных служб США. Исследователи группы раскрывают и тестируют существующие методы и разрабатывают новые, более эффективные. Группа выявляет пробелы в исследованиях и заказывает отдельные исследования для заполнения этих пустот. При проведении исследований HVDIG заключает контракты с университетами и научно-исследовательскими центрами, с лабораториями фирм и персонально с ведущими учеными, имеющими либо большой опыт проведения допросов, либо являющимися экспертами в смежных областях знаний, представляющих особый интерес для группы [7]. Таким образом межведомственная следственная группа профинансировала более 100 исследовательских проектов по таким тематикам, как тактика социального влияния, влияние переводчиков в ходе допроса на получение сведений, когнитивное интервью, достоверность показаний и научно обоснованные методы обнаружения обмана. Все исследования группы проводятся в соответствии с американскими и международными законами, касающимися защиты объектов исследования на людях [8]. В США доминирует командный подход к проведению допросов особо ценных задержанных, поскольку признано, что это дает значительно больший эффект. В силу этого в допросе обычно принимают участие один или два следователя (в контексте работы HVDIG - обязательно прошедших подготовку по применению передовых методов ведения допросов), аналитик, переводчик, эксперт в конкретной предметной области (психология, социология, военное дело, баллистика, трасология и т.п.). Кстати, упоминание переводчика косвенно указывает на целевую группу допрашиваемых, поскольку в исследованных текстах не упоминается допрос на иных языках, помимо английского. Члены команды, которые непосредственно не взаимодействуют с допрашиваемым, наблюдают за процессом допроса посредством зеркала Гезелла и через микронаушники предоставляют следователю обратную связь о динамике межличностных отношений между допрашивающим и его визави [9, 10]. В частности, команда HVDIG выдвигает гипотезу о том, к какому типу личности относится допрашиваемый, каким, скорее всего, будет его вербальное поведение, и в соответствие с этим разрабатывает соответствующую именно для этого субъекта модель поведения следователя в начале беседы. Задачей является формирование у допрашиваемого определенного представления как о следователе, так и о цели допроса, его объективных и субъективно значимых результатах. Команда оперативно обсуждает психологическое содержание коммуникации с дознаваемым, выявляет его поведенческие стратегии, в частности сотрудничество, сопротивление, конкуренцию или уклонение, а также определяет психологические мотивы, определяющие направленность его показаний: собственные потребности и индивидуальные предпочтения, межличностные отношения с дознавателем, намерение решать проблему конструктивно или нет и др. [11]. Результаты исследований и полевой работы указывают также на то, что командный подход более эффективен и при анализе данных, если это одна и та же группа на этапе подготовки и планирования допроса, на этапе его осуществления и на этапе последующего анализа, особенно если такой анализ проводится в составе многопрофильной группы [12]. В целом даже небольшие группы предоставляют большие возможности для разделения труда и могут быть более эффективными, чем в ситуациях работы одного дознавателя, поскольку группа может использовать более разнообразный набор знаний и навыков [13]. Таким образом происходит усиление психотехнологического потенциала всей группы, превышающего сумму их отдельных компетенций. При этом представление о том, что военные специалисты и эксперты, по сравнению с гражданскими, вносят заведомо больший вклад в эффективность общей групповой работы, не соответствует действительности. Для систематической оценки существующих и предлагаемых методов допроса в реальных или смоделированных контекстах допроса исследователями разработаны новые экспериментальные ситуационные модели (например, имитирующие акты терроризма, захват заложников, мошеннические операции, форсмажорные переговоры и др.). Эти модели могут как обсуждаться в процессе групповой дискуссии, так и реализовываться в форме тренировочных допросов и собеседований, позволяющих заметно повысить уровень дознавательной работы, причем особый акцент в них делается на совершенствовании психологических технологий понимания психики допрашиваемого, побуждения его к сотрудничеству со следственной группой и выявления информации, представляющей для нее повышенный интерес. Предварительная работа команды до ознакомительного собеседования, называемая «прайминг» (priming) (в социальной психологии - это использование механизма имплицитной памяти для фиксирования установки, при котором однократное воздействие стимула может приводить к неосознаваемой аналогичной реакции и на последующий стимул [14]), имеет новое содержательное наполнение в современной криминалистике и юридической психологии. Так, было проведено исследование, где испытуемые приняли участие в имитационном заговоре по эко-террористическому нападению, после чего их раздельно допросили о подробностях планирования террористического акта (состав участников, система коммуникации, местонахождение, цель, средства маскировки и т.д.) [15]. Участников предупредили, что они должны раскрыть как можно больше информации о заговоре, но, в то же время, если они раскроют слишком много, следователь может начать что-то подозревать и оставить их для дальнейшего расследования, что будет расценено как их провал в процессе исследования. Во время подготовительной стадии была проведена первичная психологическая обработка половины участников, в ходе которой их помимо прочего мотивировали в течение нескольких минут актуализировать в своей памяти и воображении содержание отношений с людьми, к которым они испытывают симпатию, доверяют и чувствуют себя в безопасности. Эта часть исследования показала, что до-следственное формирование эмпатийных привязанностей делает будущих допрашиваемых более спокойными, общительными, доброжелательными и готовыми к сотрудничеству [16]. При правильно организованной психологической работе многие из них были склонны переносить чувства эмоциональной привязанности и психологического доверия на новых лиц в своем окружении. При этом у них нет времени и возможности отрефлексировать эту ситуацию, а тем более сравнить ее с предшествующей. Их внимание постоянно сконцентрировано на ином. Последующий анализ подробностей, предоставленных «подозреваемыми», показал, что участники, с которыми предварительно провели такую подготовительную работу, предоставили значительно больше важных подробностей, чем те, с кем такая работа не проводилась. Кроме того, независимые наблюдатели оценили предварительно психологически подготовленных участников как более открытых (по 7-балльной непрерывной шкале от 1 - «крайне сдержанный», до 7 - «раскрывающий все, что мог вспомнить»); средний балл для подготовленных участников составил 4,32, тогда как участники без предварительной подготовки получили 3,63 балла [10]. Прайминг влияет на повышение признаваемости в компрометирующих мыслях и поведении, причем даже у тех лиц, которые ранее были настроены на стратегию отказа от любого сотрудничества. Участники исследования с большей готовностью признавались во враждебных мыслях и поведении по отношению к членам чуждой им группы, в прошлом незначительном преступном поведении, а также в социально нежелательных чертах и поведении в случаях, когда их стимулировали самоутверждением. В одном исследовании [17] для этого участников сначала попросили прочитать список личных ценностей и качеств, которые они считали важными, а затем написать десять строк о том, почему для них важна их самая высокая оценка, а также описать личный опыт, в котором эта ценность ключевым образом повлияла на их решения, предпочтения и поведение. Затем участников попросили письменно ответить на десять вопросов, оценивая, совершали ли они когда-либо какие-нибудь морально неприемлемые действия, было ли дискриминационное агрессивное поведение по отношению к членам чужой группы, а также имело ли место какое-либо нежелательное поведение, по отношению к этой группе меньшинства. Как и ожидалось, эффект самоутверждения привел к тому, что люди стали сообщать о большем количестве неправильных с моральной точки зрения взглядов и фактов ненадлежащего поведения [18]. Исследователи HVDIG указывают, что такое самоутверждение помогает снизить сопротивление раскрытию информации. Аспект «развитие темы» многих собеседований, проводившихся правоохранительными органами [19], может снизить сопротивление раскрытию информации, отделив раскрытие информации от ценностей, действительно важных для субъекта (избегая таким образом самоотречения). Затем исследователи задались вопросом, приведет ли предварительное самоотречение к противоположному, а именно будут ли участники исследования с меньшей вероятностью распознавать какое-либо морально неприемлемое отношение или поведение, которое может угрожать их самооценке как хорошего человека. Самоотречение было стимулировано тем, что участников просили написать десять строк о том, что они будут чувствовать, если им не удастся реализовать нечто, имеющее для них безусловную моральную и/или психологическую ценность. Как и предполагалось, предварительные самоотречения привели к тому, что эти люди стали сообщать о меньшем количестве случаев неправильного с моральной точки зрения отношения и поведения к членам чужой группы меньшинства [17]. Место проведения допроса, обстановка комнаты, присутствующий запах и даже такие факторы, как то, во что одет допрашивающий, язык, который он использует, психологически подобраны таким образом, чтобы побудить допрашиваемого поделиться важной информацией. Для проверки теории воплощенного познания в контексте раскрытия информации во время допроса было проведено исследование инсценировки преступления [10]. Исследователи сравнили два типа комнат для допросов: одну - стандартную, а другую - подготовленную специальным образом - открытую. Стандартная комната для допросов полиции представляла собой маленькую пустую комнату с беловатого цветом стенами, зеркалом Гезелла, люминесцентными светильниками над головой, двумя жесткими стульями и маленьким столиком. Участники и допрашивающий сидели на одной стороне стола на расстоянии трех футов друг от друга, причем допрашивающий находился между участником исследования и дверью [20]. В экспериментальной открытой комнате было много свободного пространства и открытых объектов: «... комната была примерно в два раза больше по размеру, с окнами и такого же цвета стенами. Она изначально отличалась элементами открытости: на каждой стене висела картина - на одной - изображение воды под открытым небом, а на двух других стенах - картины открытых окон с тюлем, выходящими на воду, и открытое небо; два светильника с открытым верхом; небольшой столик с прозрачным кувшином для воды без крышки, чашкой без крышки, маленьким открытым ящиком с незапертым замком и открытой книгой. Участники исследования и дознаватель сидели в удобных креслах за большим столом по одну сторону друг от друга, на расстоянии трех футов друг от друга, причем следователь находился ближе к двери, чем к допрашиваемому» [21]. После демонстрации сценария имитационного сюжета участников исследования допросили по стандартному сценарию в одной из двух комнат. Те, кого опрашивали в открытой (экспериментальной) комнате, предоставили значительно больше общих деталей, а также более важные детали. Эти участники были также оценены как более открытые, чем те, кого опрашивали в стандартной камере содержания под стражей, по 7-балльной шкале раскрытия информации в диапазоне от 1 («крайне скрытно») до 7 («чрезвычайно открыто»). Последующее моделирование процесса допроса показало, что визуальное восприятие большего пространства увеличило психологическое раскрытие допрашиваемых. Одна из первых задач следователя в начале допроса - оценить индекс настроенности допрашиваемого на сотрудничество или на сопротивление. Создание определенного смысла коммуникации в контексте допроса обеспечивает основу для понимания того, что побуждает субъекта либо к сотрудничеству, либо к сопротивлению. Осмысление предполагает привлечение специальных психологических знаний и компетенций, особенно для понимания новых следственных ситуаций, отсутствующих в предыдущем опыте работы [22]. Осмысление - это атрибут «доброжелательного постороннего человека», по-английски это звучит как sensemaking - военный термин США, используемый для обозначения военнослужащих, которые подготовлены к налаживанию конструктивного сотрудничества с гражданскими лицами. Неожиданный эффект общения с подчеркнуто «вежливыми людьми» в военной форме, от которых ожидались агрессия и грубость, в силу контраста может резко изменить отношение к ним и проводимым ими акциям. Такое сотрудничество уже на ранних стадиях способствует нейтрализации потенциального недоверия к военнослужащим и препятствует проявлениям реального сопротивления [23]. На следующем этапе командной работы HVDIG проводится обсуждение записанных видеоматериалов допроса, что важно для критического осмысления возможных допущенных ошибок и при подготовке к новым ситуациям. При этом поведение допрашиваемого анализируется как посредством традиционных психологических инструментов анализа, так и с помощью объективных методов изучения поведения, позволяющих отслеживать динамику психофизиологического состояния допрашиваемого, а также выявлять психологические признаки лжи в показаниях (зрачки, мимика, жесты, голос, положение тела, почерк и пр.) [24-26]. Таким образом, опыт работы межведомственной следственной группы HVDIG показывает, что наиболее действенными и эффективными методами получения точной и релевантной информации в процессе допроса особо ценных задержанных являются ненасильственные, основанные на формировании доверительных конструктивных отношений посредством использования широкого спектра психологически валидных коммуникативных техник и приемов.
Ключевые слова
особо ценные задержанные,
допрос,
коммуникативные техники общения,
прайминг,
специальные психологические знанияАвторы
| Енгалычев Вали Фатехович | Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского | д-р психол. наук, профессор кафедры общей и юридической психологии | valiyen@gmail.com |
| Лыфенко Дмитрий Валерьевич | Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского | канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка | lyfenkodv@tksu.ru |
Всего: 2
Ссылки
Chernov Y., Engalychev V. Distant profiling-aggression evaluation with formalized handwriting analysis // International conference «Trends and Prospects of Development of Criminalistics and Forensic Expertise». Yerevan, Armenia, 2019. С. 87-96.
Rafael A. Calvo, Sidney D'Mello. The Oxford Handbook of Affective Computing. Oxford University Press, 2014. 624 p.
Park H., Antonioni D. Personality, reciprocity, and strength of conflict resolution strategy // Journal of Research in Personality. 2007. № 41. P. 1-125.
Knowles E.S., Linn J.A. Resistance and persuasion. Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2004.
Luke T.J., Hartwig M., Brimbal L., Chan G., Jordan S., Joseph E., Osborne J., Granhag P.A. Interviewing to elicit cues to deception: Improving strategic use of evidence with general-to-specific framing of evidence // Journal of Police Criminological Psychology. 2013. № 28. P. 54-62.
Ormerod T.C., Barrett E.C., Taylor P.J. Investigative sense-making in criminal contexts // Schraagen J.M., Militello L.G., Ormerod T., Lipshitz R. (Eds.). Naturalistic decision making and macrocognition. Aldershot, UK : Ashgate, 2005. P. 81-102.
Inbau F.E., Reid J.E., Buckley J.P., Jayne B.C. Criminal interrogation and confessions (5th Ed.). Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, 2013.
Cesario J. Priming, replication, and the hardest science // Perspectives on Psychological Science. 2014. № 9. P. 40-48.
Meissner C.A., Swanner J. Facilitating cooperation: The influence of priming manipulations in intelligence interviewing. Final Report to the High-Value Detainee Interrogation Group. 2014.
Davis D., Soref A., Villalbos J.G., Mikulincer M. Priming states of mind can affect disclosure of threatening self-information: Effects of selfaffirmation, mortality salience, and attachment orientations // Law and Human Behavior. 2016.
Mikulincer M., Shaver P.R. Attachment theory and emotions in close relationships: Exploring the attachment-related dynamics of emotional reactions to relational events // Personal Relationships. 2005. № 12. P. 149-168.
Bargh J.A. What have we been priming all these years? On the development, mechanisms, and ecology of nonconscious social behavior // European Journal of Social Psychology. 2006. № 36. P. 147-168.
Bargh J.A., Chartrand T.L. Studying the Mind in the Middle: A Practical Guide to Priming and Automaticity Research // Handbook of Research Methods in Social Psychology / H. Reis, C. Judd. New York : Cambridge University Press, 2000. P. 1-39.
LePine J.A., Piccolo R.F., Jackson C.L., Mathieu J.E., Saul J.R. A meta-analysis of teamwork processes: Tests of a multidimensional model and relationships with them // Personnel Psychology. 2008. № 61. P. 273-307.
Hackman J.R. Collaborative intelligence: Using teams to solve hard problems. San Francisco : Berrett-Koehler, 2011.
Taylor P. The role of language in conflict and conflict resolution // T. Holtgraves (Ed.). The Oxford handbook of language and social psychology. Oxford : Oxford University Press, 2014. P. 459-470.
Dawson E., Hartwig M., Brimbal L. Interviewing to elicit information: Using priming to promote disclosure // Law and Human Behavior. 2015. № 39. P. 443-450.
Бегалиев Е.Н. К вопросу о тактических особенностях проведения допроса с использованием зеркала-шпиона Гезелла // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2020. № 4 (30). С. 79-83.
Epley N., Schroeder J., Waytz A. Motivated mind perception: Treating pets as people and people as animals // Objectification and (de)humanization: 60th Nebraska symposium on motivation. 2013. № 60. P. 127-152.
Taylor P. J. Interpersonal sensemaking in crisis negotiations. Final Report to the High-Value Detainee Interrogation Group. Washington D.C., 2015.
Goodman-Delahunty J., Martschuk N., Dhami M.K. Interviewing high-value detainees: Securing cooperation and disclosures // Applied Cognitive Psychology. 2014. № 28. P. 883-897.
Hartwig M., Meissner C.A., Semel M.D. Human intelligence interviewing and interrogation: Assessing the challenges of developing an ethical, evidence-based approach // R. Bull's (Ed.). Investigative interviewing. New York: Springer, 2014. P. 209-228.
Amelsvoort van A., Rispens I., Grolman H. Handleiding verhoor [Interrogation AFM). Amsterdam : Stapel & De Koning, 2010.
Гусев А.Н., Енгалычев В.Ф., Захарова Н.А. Современные тренды в использовании программно-аппаратных средств при оценке пси хоэмоционального состояния человека // Аппаратные средства в психологической подготовке : материалы межрегион. науч.-практ. конф. психологов силовых структур (Москва, 25 октября 2017 г.) / под ред. А.Г. Караяни, С.И. Данилова. М. : Военный университет; Школа современных психотехнологий, 2018. С. 110-117.
Narchet F.M., Russano M.B., Kleinman S.M., Meissner C.A. A (nearly) 360 perspective of the interrogation process: Communicating with highvalue targets // G. Oxburgh, T. Myklebust, T. Grant, R. Milne (Eds.): Communication in investigative and legal contexts: Integrated approaches from forensic psychology, linguistics and law enforcement. Chichester UK : John Wiley & Sons, 2016. P. 159-178.
Багмет А.М., Гусев А.Н., Енгалычев В.Ф., Кравцова Г.К., Седин В.И., Холопова Е.Н. Методика исследования коммуникативного поведе ния с целью выявления психологических признаков искажения сообщаемой информации (по видеозаписям процессуальных и иных действий) : науч.-практ. пособие. М. : Московская академия СК России; ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна; ФМБА России, 2018. 192 с.
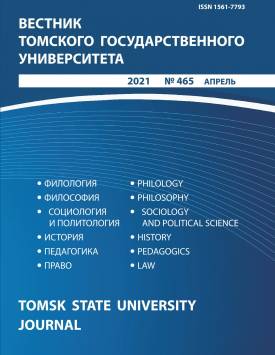

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью