Подчеркивается важность ухода в настоящее время от функциональности социально-правового мышления, необходимость обеспечить его независимость от изменяющихся групповых взглядов, сориентировать на защиту интересов всего населения России. Отмечается, что проблема социально-правового мышления имеет прогностическое измерение, которое определяется угрозами из будущего. Цель исследования - выявить такие угрозы, охарактеризовать негативные сдвиги в социальноправовом мышлении при реагировании на них.
The Prognostic Aspect of Social and Legal Thinking.pdf Проблема социально-правового мышления наиболее глубоко исследовалась в юридической науке в классической парадигме формально-логического подхода [1. С. 10], который, по замечанию А.Ю. Мордов-цева, абстрагирован от ментально-антропологической, культурной заданности и определенности правового мышления, сопряженности с широким спектром правовых явлений [2. С. 39]. Такой подход закономерно порождает излишне оптимистичные утверждения: «Необходимо представлять суть сегодняшнего развития отечественного права и законодательства. Это время зрелости юридической доктрины и формирования социального правового мышления... Право как социальный институт постепенно ассимилирует современное ему государство. Неизбежно будет совершенствоваться политическая система в направлении полноценного народного суверенитета» [3. С. 27]. С нашей точки зрения, при оценке тенденций развития юридического мышления важно учитывать реальное состояние и динамику социально-правовой обстановки. В этой связи в современных условиях высокую актуальность приобретает вопрос о том, какое значение в интеллектуальной юридической деятельности имеет прогнозирование. Его актуальность обусловлена рядом обстоятельств. 1. Социально-психологическое состояние общества в последнее время во многом определяет страх перед будущим. Такой «футурошок» (по выражению известного исследователя в области социального предвидения Элвина Тоффлера) [4] вызван обострением общественных противоречий и конфликтов, противоборством различных сил, образований, формирований, доходящих порой до прямой конфронтации и применения насилия. Нельзя сбрасывать со счетов деидеологизацию многих социальных групп, потерю веры в позитивное развитие событий. Не случайно, как показывают многочисленные социологические исследования, значительная часть населения склонна оценивать современное положение в обществе как «тревожное» или даже «опасное». Так, по материалам исследований ФОМ 2015-2016 гг., высоки тревоги населения за будущее своих детей и внуков (40%), здоровье своих близких (44%), страхи пред угрозами террористических актов и диверсий (20%), что у значительной части респондентов (15%) порождает уныние, депрессию, неуверенность в будущем, чувство безысходности [5]. По данным Левада-Центра, полученным в 2019 г., наибольшие опасения россияне высказывают по поводу болезни близких (4,2 по пятибалльной шкале), войны (3,4), произвола властей (3,4), возврата к репрессиям и ужесточения политического режима (2,9), нападения преступников (2,8) [6]. 2. В оценках будущего произошел сдвиг в сторону иррационального. Общественное сознание активно мистифицируется путем публикации ненаучных прогнозов; оно стало более внушаемым и эмоциональным. Оккультные практики не только активно применяются в поле воздействия средств массовой информации (например, в рекламе) [7. С. 16-17], но проникают также в среду лиц, имеющих политическое влияние, включая воздействие на принятие решений правового характера. Этот аспект исследовался в работах Теодора Адорно [8. P. 128-134] и Джорджа Оруэлла [9. P. 114-119], которые установили положительную корреляцию между оккультизмом и фашизмом. Она выражалась не только в восхищении авторитетных оккультистов фигурами Муссолини и Гитлера, но и в увлеченности самих этих персонажей эзотерическими знаниями. Дж. Оруэлл указывал на тесную связь оккультизма и элитаризма, утверждая, что «сама концепция оккультизма включает идею о том, что знание должно быть тайной, доступной узкому кругу посвященных. Но такая же идея присуща и фашизму. Противники идеи всеобщего избирательного права, общенародного образования, свободы мысли, эмансипации женщин начинают с того, что обращаются к тайным культам» [9. P. 118]. Вопреки мнению о нейтральности или даже полезности эзотерических знаний [10. С. 276-295], оккультное мышление не только антигуманистично, оно порождает общественно опасные фантомы. В современных условиях это постановка вопроса о пяти лишних миллиардах людей [11], проекты трансгуманизма и создания киборгов [12. С. 122126], в которых явно просматривается влияние идей Ф. Ницше - любимого философа А. Гитлера [13. С. 245-250; 14. С. 149-152; 15]. 3. Происходит профанация научных знаний, проникновение в науку мистификаторов и откровенных мошенников. Псевдонаучные спекуляции осуществляются на основе интеллектуальной ограниченности и правового невежества лиц, принимающих решения. Как отмечено в материалах Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, экстрасенсы и астрологи разных мастей находили поддержку в администрации первого Президента России, в Министерстве обороны. Осужденный в 2006 г. за мошенничество экстрасенс Г. Грабовой (академик многих наших доморощенных «академий», многократный «доктор наук» и «профессор») читал цикл лекций в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, консультировал Совет Безопасности РФ [16. С. 3]. Очевидно, это не случайно, потому что поиски «нового мышления» в различных сферах были начаты в эпоху перестройки и продолжаются до сих пор. В настоящее время наиболее активными сторонниками «нового мышления» в социально-правовой сфере являются криминологи (Л.В. Кондратюк [17], В.Н. Фадеев [18. С. 5-19], В.А. Номоконов [19. С. 2029]), выступающие с позиций гностицизма. Однако если Л. В. Кондратюк видел изменение научной парадигмы в переносе внимания с социологии преступления на антропологию преступника, появляются авторы претендующие на создание «новой криминологии». Четко выразить эту новизну они не могут, поскольку придерживаются эклектических взглядов, где смешаны манихейство, экзистенциализм, эзотерика, технократизм и другие давно известные изгибы человеческой мысли, развивавшиеся в учениях гностиков, которые Л. Н. Гумилев характеризовал в качестве антисистем [20. С. 207-253; 21. С. 251-303]. Правда, авторы облекают эти «новые» идеи во внешне гуманистические упаковки, тем не менее, соглашаясь с перспективой появления человека с синтезированными (усовершенствованными) физиолого-когнитивными способностями и утверждая реализацию НБИКС-технологий, ориентированных как раз на проект трансгуманизма [22. С. 8-11]. Таким образом, «новое» социально-правовое мышление предлагает выйти за пределы базовых основ аскиологии, созданных всем позитивным опытом человеческой цивилизации, и реализовать проект создания гуманоида с заранее заданными свойствами. Легко понять, кем будут заданы эти свойства в условиях современного капитализма: о характеристиках матрицы «служебного человека» рассказывал членам Совета Федераций Федерального собрания Российской Федерации М. И. Ковальчук. По его словам, общая характеристика популяции «служебных людей» очень простая: ограниченное самосознание, управление размножением и дешевая еда - генномодифицированные продукты [23]. Следует согласиться с философом В.А. Кутаре-вым, который взгляды трансгуманизма прямо называет объявлением войны человечеству как доведения до логического абсурдного завершения того геноцида, ибо в основе та же идея «усовершенствования» человека. В.А. Кутырев выдвигает в качестве принципа феноменологический антропоцентризм, обозначающий сохранение именно человеческих возможностей чувствования, данных нам от природы: «Для людей “лучшим из миров” является тот, где они способны жить, поддерживая свою идентичность» [24. С. 90]. «Русский национальный правовой менталитет, - пишет А. Ю. Овчинников, - лежит в основе евразийского правопонимания и правового мышления, основными признаками которых являются: ценностно рациональный характер легитимации правопорядка и отрицание юридического формализма; доминирование общественных идеалов и ценностей над личными; обостренное восприятие социальной справедливости; потребность в государственно-правовом патернализме; неприятие ценностного релятивизма в государственно-правовой идеологии; харизматическая легитимация верховной власти. Самобытность российского правового мышления несовместима с неолиберальной доктриной универсального правопорядка и унификацией права по принципу однополярной глобализации». Ответ на вызов трансгуманизма со стороны российской правовой науки должен быть однозначным -криминализация экспериментов по созданию человека с заранее заданными свойствами как общественно опасных и угрожающих существованию человечества. В современной России можно проследить и другую псевдогуманистическую тенденцию в социальноправовом мышлении, которая выражается в принципиальном ограничении мер уголовно-правового воздействия по отношению к преступникам в «белых воротничках». Она успешно лоббируется представителями коррумпированного бизнес-сообщества начиная с 2003 г. Именно в этом году принят Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [25]. Этот закон упразднил конфискацию имущества как вид наказания. «Уголовный закон лишился очень мощного правового инструмента устрашения нечистых на руку людей, - констатировал Ю.В. Голик. - Эта мера наказания полностью соответствует принципу справедливости, закрепленному в Уголовном кодексе: хочешь неправедно материально хорошо жить за счет других людей или государства -будешь лишен по суду преступно нажитого имущества. С отменой конфискации утрачивается и предупреждающая функция уголовного закона, который недвусмысленно говорил: будешь красть - государство отнимет у тебя твое имущество. Современные экономические преступники больше всего боятся не привлечения к уголовной ответственности, не осуждения как такового, а конфискации имущества, оставляющей их лишь с “потребительской корзиной”, как у большинства рядовых законопослушных граждан» [26]. П.А. Скобликовым была высказана мысль, что все иные изменения, внесенные в УК РФ Федеральным законом явились лишь дымовой завесой для упразднения конфискации как вида наказания [27. С. 64-66]. Как замечает Н.Ф. Кузнецова, происходит идеолого-правовое размежевание по проблеме уголовноправовой политики в сфере противодействия экономической преступности в рядах ученых. Предлагается решать ее посредством гражданского законодательства, а именно по нормам о ничтожных сделках. Высказывается мнение о том, что российские олигархи «хорошие» и надо к ним относиться, как в американской пословице: «Что хорошо для Рокфеллера, то хорошо и для Америки». Так что известный вопрос «С кем вы, господа ученые?» стал весьма актуальным [28. С. 333-334]. Таким образом, в современной России сложились два типа социально-правового мышления: сервилистский (субъективный, обслуживающий интересы правящего класса) и независимый (объективный, опирающийся на постулаты социального правового государства). В этой связи следует обратить внимание на тесную связь экономической и коррупционной преступности, что обусловлено, по меньшей мере, тремя обстоятельствами: а) включением экономических преступлений в перечень преступлений коррупционной направленности (перечень № 23) [29]; б) слиянием власти и бизнеса как генерального направления развития капитализма в России; в) невозможностью организованной криминальной деятельности в сфере экономики без коррупционной составляющей. Сторонники неолиберализма в научной юридической среде последовательно обосновывают политику ослабления уголовной репрессии по отношению к экономической, а значит, и коррупционной преступности. Именно такая стратегия находится в основе Концепции модернизации уголовного законодательства в экономической сфере 2010 г., разработанной в соответствии с поручением Президента России авторским коллективом юристов и экономистов, придерживающихся неолиберальной идеологии [30]. Авторы упирают на неэффективную защиту прав собственности, но совершенно игнорируют вопрос о легитимности этой собственности. Концепция выполняет социальный заказ: теоретически обосновать необходимость декриминализации экономических преступлений и способствовать легализации «беловоротничковой» преступности. Налицо неприкрытый избирательный подход к уголовно-правовой политике, который выражает классовый интерес. Выясняется, что либералы от науки защищают интересы класса собственников (крупных), демонстрируя появление нового исторического феномена - «классового либерала». Этот феномен никак не совместим с демократическими ценностями и главным постулатом права «перед законом и судом все равны» [31. С. 210-213]. Политика эта продолжается, она выражает методологию социально-правового мышления наиболее влиятельной группы лиц, лоббирующих развитие российского законодательства в заданном направлении. Как отмечает П. А. Вырва, с помощью коррупционного лоббизма можно продвигать противоправные интересы отдельных лиц, создавать необоснованные привилегии и преимущества и даже легализовать коррупционные и преступные виды деятельности, запрещать полезные их виды. Подобные деяния угрожают национальной безопасности и стратегическим приоритетам Российской Федерации [32. С. 4]. В таких условиях важно обеспечить критичность, реализм, взвешенность оценок будущего при выработке правовых мер регулирования общественных отношений, исключить поспешность, непоследовательность, излишнюю эмоциональность и неразумность процесса социально-правового мышления. Гарантией этого является прогностический подход. Способность к предвосхищению программируется генетически и у простейших организмов [33. С. 33], но только у человека она приобретает социализированные формы, определяющие тип мышления, его стиль и образ. Образ социально-правового мышления с точки зрения прогнозирования представляет собой концептуальное отношение к будущему, основанное на нравственных императивах, традиционных для российского менталитета. В конечном счете, это выбор будущего с четко определенных идеологических позиций построения социального правового государства. В настоящее время чрезвычайно важно избежать функциональности социально-правового мышления, обеспечить его независимость от изменяющихся групповых взглядов, сориентировать на защиту интересов всего населения России. Строго говоря, социально-правовое мышление должно подчинять себе современную политическую идеологию, а не зависеть от нее. Правда, для этого необходимо качественное повышение его уровня. Только тогда становится возможным не допустить применения (или неприменения) уголовно-правовых средств в групповых интересах. Здесь уместно процитировать М. Д. Шаргород-ского, который в 1963 г. на Всероссийской научной конференции сказал: «Наука начинается там, где она говорит “Нет” законодателю» [34. С. 23]. Стиль социально-правового мышления с позиции прогностического подхода раскрывается через направленность приемов отбора, регистрации и истолкования информации о будущих событиях. Наиболее известный пример, характеризующий стиль мышления, - это установки на правоприменительную деятельность: какие действия имеют состав преступления, какие нет, каким образом следует реагировать на возможные социальные отклонения и т. п. Наряду с установками стиль мышления определяют традиции и стереотипы. Существенная черта, социальноправового мышления, сформированная предыдущими десятилетиями развития правовой системы, заключается в стремлении спрогнозировать характер реакции (одобрительная или критическая) на тот или иной возможный результат со стороны лиц, принимающих наиболее ответственные решения, и скорректировать выводы в соответствии с ожиданиями этих лиц. Само собой разумеется, стиль мышления не является изначально отрицательной чертой интеллектуальной деятельности; он занимает определенное место в системе социальных значений в связи со своей содержательной характеристикой. Более того, социально-правовое мышление объективно невозможно без сознательной его ориентации. Таковы, например, предназначение и смысл толкования уголовноправовых норм, в особенности аутентичного и легального. Речь идет о необходимости сохранения беспристрастности (точнее, пристрастности в рамках закона) по отношению к правовой действительности, в том числе будущей. И, конечно, недопустимо формировать стиль правового мышления средствами, противоречащими духу и букве закона, в частности используя дезинформацию, дискредитацию честных ученых, пассионариев от науки. Тип социально-правового мышления в перспективном аспекте определяется путем специфической реакции на новое. Надо сказать, что попытки дать исчерпывающую характеристику типу такой реакции с помощью какого-либо термина (консервативная, реформаторская, радикальная) нельзя признать удачными. Указанные дефиниции малопродуктивны по причине своей эмоциональной насыщенности и поэтому не могут служить ключевыми. Здесь уместнее обратиться к антитезе «рациональный - нерациональный», имея в виду тот вред, который может быть причинен в результате того или иного типичного реагирования на нетрадиционные данные, нештатные ситуации. Многие события новейшей истории показывают, насколько опасно не замечать новую социальноправовую информацию, сознательно игнорировать или превратно интерпретировать соответствующие данные. Образ, стиль, тип характеризуют как профессиональное, так и обыденное социально-правовое мышление, причем по отношению к будущему, если судить по публикациям в специальной литературе и средствах массовой коммуникации, между профессионалами и населением существенных различий не наблюдается. Это объясняется, во-первых, недостатками в формировании социально-правового мышления при обучении. Например, преподавание по большинству юридических дисциплин, включая уголовное право и уголовный процесс, осуществляется без привития прогностических навыков, вне социальнодинамического контекста. Отсюда эмпиризм в выработке соответствующих качеств, являющихся результатом собственного практического опыта. Во-вторых, ряды профессионалов постоянно обновляются и пополняются лицами, не имеющими специального юридического образования. Пример тому - состав депутатского корпуса разного уровня, где профессиональные юристы представлены в явно недостаточной степени. А ведь это - лица, ответственные за принятие важных решений, определяющие основные направления политики, включая уголовно-правовую. Они, безусловно, должны предвидеть последствия вырабатываемой под их контролем и с их непосредственным участием стратегии и обеспечивать рациональность вырабатываемых правовых мер. Думается, что про-гностичность социально-правового мышления - одно из основных критериев его компетентности и профессионализма. Равным образом, несомненным признаком безответственности и дилетантизма интеллектуальной деятельности является недальновидность. Сходство по указанному признаку социальноправового мышления профессионалов и общественности нежелательно по многим соображениям. Во-первых, недальновидность мышления обрекает на случайный поиск приемлемых стратегий уголовноправовой политики, означая, по существу, экспериментирование на человеческих судьбах. Во-вторых, в этом случае возрастает вероятность возвращения к апробированным средствам уголовно-правового регулирования, рассчитанным не на перспективу, а на решение конкретных задач (например, удержание власти). В-третьих, создается объективная основа для выводов о компетентности «общественного мнения» и аргументирования ссылками на него обоснованности определенного законоположения, выражающего, по сути, групповые интересы. Таков один из приемов реализации возможности замены или подмены результатов профессионального мышления субъективными усмотрениями и взглядами. Таким образом, недальновидность социальноправового мышления иногда свидетельствует не только о легкомысленной безответственности, невежественности, самонадеянности субъекта (субъектов), но также о предвзятости. Иными словами, отсутствие прогностичности в интеллектуальной деятельности при определенных обстоятельствах указывает на то, что возможные неблагоприятные последствия принимаемых решений игнорируются сознательно. Легко установить различие между этими двумя векторами социально-правового мышления: в первом случае непредусмотрительность вредна для всех, включая самого деятеля (человека, коллектива, общества), во втором - отвечает чьим-либо интересам, выгодам. Сущность второй интеллектуальной стратегии может быть идентифицирована как феномен мнимой неопределенности. Социально-правовое мышление часто осуществляется в ситуации неопределенности, ссылки на которую впоследствии - если наступили негативные результаты - дают возможность представить их как неожиданные и непредсказуемые. Учитывая прогностическую некомпетентность населения, в общественном мнении можно найти поддержку любого подобного заявления, в особенности когда речь идет о решениях, принятых на относительно высоком уровне. Создание интеллектуальных оснований для безответственности есть опасный негативизм социально-правового мышления, который, к сожалению, является еще довольно распространенным. Не менее опасно также искажение информации о будущем. Представляя собой способ воздействия на социально-правовое мышление, дезинформация преследует цель формирования определенного мнения, настроения и в итоге - желательного решения или поведения. Подробно возможности управления процессом принятия решения путем формирования картины будущего рассмотрены в теории исследования операций. При этом управляемой «стороне» предлагается псевдоинформация, на первый взгляд, снимающая неопределенность ситуации. Такой подход может быть эффективным, если оперирующая «сторона» успешно имитирует внутренний мир и основания принятия решений лицами, выступающими объектами управления [35. С. 101]. Учитывая актуальность затронутой проблемы, целесообразно ввести в систему критериев социальноправового мышления шкалу «управляемость - независимость». Это особенно продуктивно в связи с бюрократизацией интеллектуальной деятельности в сфере борьбы с преступностью, реальными усилиями бюрократической структуры контролировать процесс принятия уголовно-правовых решений, затрагивающих ее интересы. Характерно, что в соответствии с законами бюрократической системы [36], стремящейся скрыть действительные намерения в специфической терминологии, управляемость на бюрократическом языке идентична понятию «предсказуемость». И наоборот, непредсказуемость в этой системе смысловых значений синонимична независимости. Иное (истинное) значение указанное (ключевое в контексте данного исследования) понятие обретает, когда структура социально-правового мышления анализируется не сверху управленческой пирамиды - до ее основания, а в противоположном направлении. В этом смысле предсказуемость означает уверенность в поведении управляющей подсистемы, перспектива которой выражена в соответствующих заявлениях, обещаниях, планах, программах. Предсказуемость становится синонимом надежности и стабильности. И напротив, когда обещания не выполняются, планы и программы оказываются несостоятельными, а заверения - ложными, это действует чрезвычайно угнетающе на социально-правовое мышление из-за невозможности предвидеть реальную перспективу и выстраивать разумную стратегию конструктивных преобразований. Общество, в котором социально-правовое мышление лиц, принимающих решения на высоком уровне, характеризуется непредсказуемостью, развивается, как показывает практика, в одном направлении - к тоталитаризму. Многие мыслители (Д. Оруэлл, А. Солженицын, Г. Белль) отмечают случайность произвола, то, что его жертвой может стать любой; это и превращает страх в психологическую доминанту поведения. Интересно отметить, что случайность (точнее, расчет на нее) присутствует и в тех системах, где непредсказуемость не достигает степени произвола. Здесь управляющее воздействие оказывается на социально-правовое мышление людей на примере обращения с совершившими случайно правонарушения «отступниками», «непослушными», к которым предъявляют объективность, по существу переходящую в предвзятость, и наоборот, те же правонарушенея, совершенные другим лицом, могут вообще не повлечь никаких правовых последствий. Таков один из механизмов формирования конформистского социальноправового мышления. Вообще, конечной целью бюрократии является стремление контролировать мысли людей, а значит, управлять ими в собственных интересах. Сказанное приводит к выводу о существенном влиянии, которое оказывает бюрократия на состояние и развитие социально-правового мышления. Для будущего, имея в виду правовое реформирование в любом направлении и его возможное воздействие на реальную социальную ситуацию, это имеет принципиальнее значение. Поэтому важно видеть и анализировать логику мыслей и поступков бюрократической системы, динамику целей и форм реализации разрабатываемых в ней социальных предписаний. Не претендуя на полное исследование проблемы (это представляет самостоятельный научный интерес), отметим, что наиболее актуальные направления ее изучения, которые следует учитывать в процессе прогнозирования социально-правового мышления, включают проверку следующих гипотез: - увеличивается непредсказуемость действий бюрократии, что чревато многократным усилением центробежных сил и осложнением социально-правовой обстановки; бюрократическая система подрывает основную гарантию своего существования - доверие со стороны населения и многочисленных социальных групп; - предписания бюрократической системы несовременны, прямолинейны, недальновидны, лишены гибкости, логического обоснования, поэтому они наталкиваются на внутреннее неприятие и часто приводят к противоположному результату; в социальноправовом плане это выражается выработкой эмоционально-негативных образцов мышления и неподчинением правовым нормам; - бюрократия в обозримой перспективе своей деятельности ориентирована на приоритеты разрушительного, а не созидательного характера (борьба за власть, а не за восстановление природной культурной экологии и т.п.). Отсюда наблюдается ухудшение социально-психологической атмосферы в обществе, что мотивирует выработку скоропалительных, непродуманных социально-правовых решений на различных уровнях; - деструктивные процессы характеризуют развитие бюрократической системы как по вертикали, так и по горизонтали; наиболее опасной в этой связи является усиление коррупции среди представителей бюрократического аппарата (произвола по корыстным мотивам), что свидетельствует о деформации социально-правового мышления; - в основе реальной (а не декларируемой) идеологии бюрократии находятся примитивные, узкоэгоистические, корпоративные интересы, которые, если они реализованы в правовых предписаниях, лишают общество исторической перспективы, а человека -права выбора, а следовательно, свободы и ответственности; социально-правовое мышление, формируемое у представителей бюрократии и ими воспроизводимое и распространяемое (навязываемое) среди населения, по своему содержанию поверхностно, нетерпимо к инакомыслию, тяготеет к ригоризму и отчуждению от человеческой личности; - наиболее агрессивные формы выражения социально-правового мышления появляются в тех кругах и группах бюрократической системы, которые опасаются утраты власти из-за возможности привлечения их к ответственности (в том числе уголовной) в будущем; - представители вновь образуемых, создающихся бюрократических структур не становятся, по общему правилу, носителями прогрессивного, отвечающего требованиям времени, социально-правового мышления; велика вероятность повторения ими типичных ошибок той бюрократии, на смену которой они пришли или ряды которой пополнили. Существенной характеристикой динамики социально-правового мышления является сдвиг интересов к проблемам настоящего без учета их перспективы, своего рода девальвация будущего. Причины того многообразны и специфичны по отношению к различным специальным группам. Например, что касается бюрократии, то демократизация общества и иные позитивные общественные преобразования создали основу для гипертрофирования в ее сознании угрозы потерна власти. В отношении представителей органов, профессионально занимающихся реализацией правовых норм, можно заметить, что здесь акцентирование внимания на настоящем в ущерб будущему объясняется увеличившейся напряженностью в текущей работе. Им рассуждения о будущем могут показаться лишними, ненужными. Однако вопреки установкам подобной активной и пассивной футурофобии ценность прогностически обоснованного социальноправового мышления постоянно возрастает. Важно предвидеть последствия принятия юридических решений на любом уровне, потому что они касаются судеб людей. И, конечно, следует учитывать уроки истории, которая показывает гибельность любой политики, противоречащей законам развития человеческого общества. Такие законы неподвластны манипулятивным технологиям.
Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. М. : Прогресс, 1989. 448 с.
Смолян Г.Д. Методологические вопросы исследования операций : дис. канд. филос. наук. М., 1986.
Боруленков Ю.П. Правовое мышление как интеллектуальная составляющая юридического познания // Правоведение. 2017. № 2.
Душков Б.А. География и психология. М., 1987.
Вырва П.А. Криминологические аспекты коррупционного лоббизма в правотворческой деятельности : автореф. дис.. канд. юрид. наук. Красноярск, 2020.
Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2010. 196 с.
Клеймёнов М.П. Либеральная идеология и уголовное законодательство // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2011. № 1.
О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности : Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 // СПС КонсультантПлюс.
Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений : Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М. : Городец, 2007.
Голик Ю.В. Самый гуманный УК в мире // Известия. 2004. 6 марта.
Скобликов П.А. Конфискация имущества как наказание: аргументы за и против // Уголовное право Саратовского центра. 2004. № 2.
Кутырев В.А. Философский образ нашего времени (безжизненные миры постчеловечества). Смоленск, 2006.
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 162-ФЗ от 08.12.2003 // Российская газета. 2001. 16 дек.
Клеточная война, колонии и «служебные» люди США. URL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=3de3096d-88a3-415e-8d04-cc57fa96dd5b (дата обращения: 15.01.2020).
Бахтиярова Е.З. О судьбоносном значении НБИКС-технологий в развитии человечества // Вестник Томского университета. 2012. № 4, вып. 1.
Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. М. : Айрис-пресс, 2004.
Гумилев Л.Н. Конец и вновь начала. М. : АСТ, 2018.
Фадеев В.Н. Теоретико-методологические основы криминологии будущего // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 1.
Номоконов В. А., Судакова Т. А. Позитивная криминология // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 1.
Предисловие // Бюллетень «В защиту науки». 2006. № 1.
Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микрокриминология). М. : Норма, 2001. 344 с.
Андрес У. Дарвинизм, Ницше, Гитлер и Холокост // Заметки по еврейской истории. 2016. № 5-6. URL: https://www.berkovich-zametki.com/2016/Zametki/Nomer5_6/Andres1.php (дата обращения: 26.02.2020).
Луков А. Трансгуманизм // Энциклопедия гуманитарных наук. 2017. № 1.
Чижикова Л.А. Наследие Ницше в дискурсе трансгуманизма // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 13.
Сазеева И.Б., Грошева Т.Н. Антигуманистический характер философии трансгуманизма // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 3, ч. 1.
Carrington D. Paul Ehrlich: Collapse of civilization is near certainty within decades // The Guardian. 2018. 22 mar.
Orwell G. Critical Essays. L. : Secker and Warburg, 1946.
Пази М. Оккультизм и современность: некоторые ключевые моменты // Государство. Религия. Церковь. 2013. № 4.
Adorno T.W. The Stars down to Earth and other Essays on the Irrational in Culture. L.; N. Y. : Routlege, 1994.
Клейменов М.П., Федоров А.Ю. Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: криминологическая характери стика и предупреждение. Омск : Омская академия МВД РФ, 2008.
Социологи Левада-Центра назвали главные страхи россиян. URL: https://www.levada.ru ru (дата обращения: 15.02.2020).
Тоффлер О. Шок будущего. М. : АСТ, 2002. 557 с.
Страхи и тревоги: Фонд Общественное Мнение. URL: https://wwwfom.ru (дата обращения: 21.02.2020).
Синюков В.Н. Законодательство в России: проблемы социальной интеграции // Lex russica. 2018. № 10.
Овчинников А.И. Правовое мышление : автореф. дис.. д-ра юрид. наук. Краснодар, 2004.
Мордовцев А.Ю. Юридическое мышление в контексте сравнительного правоведения: культурантропологические проблемы. Правоведе ние. 2003. № 2.
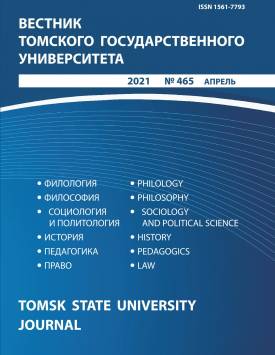

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью