Проанализированы способы вербализации таких понятий, как детство и взросление, носителями американского варианта английского языка. Проблема метафорической концептуализации опыта детства и взросления в обиходно-разговорных дискурсах рассматривается на основе анализа результатов опроса, проведенного среди представителей американской лингвокультуры. Выявляются основные тенденции в вербализации опыта детства и взросления, а также возможности модификации конвенциональных метафор и создания индивидуально-авторских метафорических проекций.
Metaphors of Childhood in Contemporary American Discourses.pdf В современной западной, в том числе и англоязычной, культуре детство считается важнейшим периодом в жизни человека, когда закладывается фундамент личности и формируются основы мировоззрения. Ребенок повсеместно идеализируется и провозглашается непреложной ценностью, требующей к себе бережного и трепетного отношения. Подобный взгляд на детство, однако, сформировался лишь в ХХ в. [1. С. 21], причем основным инструментом его конструирования и укоренения в коллективном когнитивном пространстве послужили дискурсивные практики [2. C. 14-15]. Как показывают многочисленные исследования, возрастные категории представляют собой культурнодискурсивные конструкты. В то время, как человеку свойственно «вневременное ощущение себя» [3. C. 131], культура и общество, в которых он существует, предписывают деление жизни на определенное количество этапов, а законодательство закрепляет возрастные рамки того или иного периода, указывая, когда человеку необходимо перейти из одной жизненной стадии в другую, например из детства в юность, из зрелости в старость и т.д. [4. С. 81]. Одним из эффективных механизмов дискурсивного конструирования является метафора, которая фактически выступает в качестве «концептуальной линзы», заставляя нас видеть обозначаемое ей явление под строго определенным углом и унифицируя дискурсы этого явления. Упомянем в связи с этим теорию дискурсивной метафоры, разработанную Й. Зин-кеном [5]. Дискурсивная метафора определяется им как относительно стабильная метафорическая проекция, которая функционирует как ключевой инструмент фрейминга в рамках определенного дискурса в течение определенного периода времени [5. С. 241]. Метафора выступает как средство передачи идеологически «правильных», «выгодных» смыслов, а также единица формирования текста, способствующая структурированию и категоризации реального мира. Метафора представляется как частное использование закрепленного в общественном сознании способа осмысления реальности для достижения конкретных коммуникативных целей. В англоязычных нарративах детства в разные периоды доминировали дискурсивные метафоры РЕБЕНОК - ЭТО МАЛЕНЬКИЙ ВЗРОСЛЫЙ, РЕБЕНОК - ЭТО ДИКАРЬ, РЕБЕНОК -ЭТО ПУСТОЙ СОСУД и др. [1]. Собственный жизненный опыт, однако, часто не совпадает с культурными предписаниями, и переживания, связанные с тем или иным периодом жизни, могут существенно отличаться от навязываемых обществом стандартов. Этот субъективный опыт также может осмысляться и выводиться в речь с помощью метафоры [6. С. 158-159]. Таким образом, дискурсивное пространство того или иного этапа жизни приобретает разнородность, включая в себя как культурно санкционированные, конвенциональные дискурсивные метафоры, так и индивидуальные, идиосинкре-тичные лингвоконцептуальные формы. Целью исследования, отраженного в данной статье, было выявление тех метафорических способов осмысления феномена «детство», которые бытуют на низовом уровне американской культуры, в условиях повседневного бытового общения. Мы попытались установить, в какой степени индивидуальные, субъективные осмысления детства резонируют с конвенциональными дискурсивными метафорами, и насколько однородным выглядит дискурсивное пространство детства в обиходном общении. К более частным задачам исследования относилось выявление ценностных характеристик детства, характерных для современной американской культуры. Для анализа метафор, используемых в обиходноразговорных дискурса детства, нами был проведен опрос на онлайн-платформе Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com/). Эта платформа используется для проведения массовых опросов и позволяет не только создавать вопросы разных типов (открытые, закрытые, с использованием визуальных элементов и т.п.), но и задавать необходимые демографические параметры респондентов. Опрос был проведен 12 февраля 2020 г. В нем приняли участие 58 американцев в возрасте от 18 до 80 лет. Мы сочли нецелесообразным вводить ограничение по возрасту, так как тема «детство» в одинаковой мере релевантна для представителей всех возрастных групп, и любой респондент старше 18 лет может предложить собственные ее интерпретации. Из 58 респондентов, принявших участие в опросе, 26 человек (44,83%) -мужчины и 32 (55,17%) - женщины. При составлении опроса мы взяли за основу модель, предложенную А.В. Нагорной [7]. Опрос содержит девять открытых вопросов. Каждый вопрос представляет собой незаконченное утверждение, которое респонденту необходимо закончить любым приемлемым для него способом. Список вопросов приведен ниже: Q1: Childhood reminds me of... Q2: In childhood you mostly feel like a... Q3: Being a child is similar to... Q4: All children are like... Q5: Some kids resemble... Q6: Growing up is like. Q7: Growing up can be compared to... Q8: Being a girl means... Q9: Being a boy means... Структура вопроса представляет собой форму образного сравнения. Такая форма была выбрана для того, чтобы побудить респондентов к использованию образного языка и предотвратить использование прямых неинформативных ответов, а также простых предикативных структур типа Growing up is hard. Несмотря на то, что в заданных вопросах отсутствует классическая метафорическая структура А - это В, их формулировка не противоречит цели извлечения из дискурса индивидуальных метафорических представлений. Здесь уместно сослаться на так называемую теорию жизни метафоры (Career of Metaphor Theory). Согласно ей, метафора и сравнение представляют собой одну целостную категорию мышления, отражающую возможность человеческого сознания к построению аналогий [8. С. 726]. Сравнение предстает как первый этап («первоначальный акт») конструирования метафор. Далее оно имеет шансы перейти в метафору по мере укоренения в сознании, а при активном употреблении в публичном дискурсивном пространстве пройти процесс конвенционализации, став частью общего лингвокультурного репертуара. Способность конструировать образные сравнения говорит о наличии сформированной метафорической проекции в сознании респондента [9]. В 51 случае из 522 результат не может быть использован при анализе, так как несет в себе отрицательный материал. Среди них можно выделить ответы, содержащие тавтологическое определение (In childhood you mostly feel like a child), буквальное осмысление (Being a parent means having kids), оценочно отрицательное высказывание, касающееся содержания вопросов (These questions are total nonsense; These questions are stupid), уход от ответа (Not sure; no idea). Все полученные результаты можно разделить на две группы в зависимости от наличия или отсутствия метафорического компонента. Идентификация метафоры производилась с помощью метода MIP (Metaphor Identification Procedure) [10. С. 29]. Значимой в анализе результатов проведенного опроса является концепция метафорического ландшафта. Основным инструментом символического моделирования является метафора, а совокупность метафор, организованных определенным образом, составляет уникальный метафорический ландшафт [11. С. 17]. Анализируя результаты, необходимо разделить вопросы на три группы. Первая группа вопросов (Q1-Q5), на которую приходится 290 ответов, направлена на осмысление детства; следующие два вопроса (Q6-Q7) (116 ответов) сконцентрированы на идее взросления, а последние два вопроса (Q8-Q9) (116 ответов) помогут выявить разницу в восприятии детей мужского и женского полов (или ее отсутствие). Анализируя первую группу ответов, стоит обратить внимание на то, что 37% из них несут в себе позитивные оценочные смыслы, 16% ответов наделены негативными коннотациями и 22% представляют собой эмоционально нейтральные суждения (рис. 1). Остальные 25% ответов первой группы содержат отрицательный результат и не несут в себе информации, необходимой для анализа. В группе ответов, посвященной взрослению, наблюдаются противоположные тенденции. Можно охарактеризовать как позитивное видение8% ответов данной группы, в то время как 25% ответов несут в себе негативные эмоциональные характеристики (рис. 2). ■ Позитивная ■ Негативная Нейтральная Рис. 1. Эмоциональная окраска ответов в блоке вопросов о детстве, число ответов ■ Позитивная ■ Негативная Нейтральная Рис. 2. Эмоциональная окраска ответов в блоке вопросов о взрослении, число ответов В ряде ответов первой группы отражена тенденция к восприятию детства как счастливого беззаботного периода. Данная группа ответов характеризуется позитивной эмоциональной окраской, носит положительные коннотации. Детство описывается как хорошее время (Q1/R14 (здесь и далее: Q (question) -вопроса, R (respondent) - респондент. - Прим. авт.). Better times; Q1/R25. The good old days; Q1/R54 Good times), а дети характеризуются как счастливые люди (Q2/R1. Happy person; Q3/R2. Feel confident and optimistic about life; Q2/R44. happy go lucky person). При этом для детского счастья не нужна особая причина; предполагается, что дети счастливы по определению (Q3/R30. Being happy just being you). В двух ответах можно встретить использование сленга, что добавляет оценке детства особую эмоциональную окраску (Q2/R25. Million bucks; Q5/R5. Awesomeness). Отдельного упоминания заслуживает блок из 11 ответов, содержащих в определении детства лексемы, входящие в семантическое поле веселья (Q1/R34. Fun and easy; Q1/27. A lot of fun times). Интересным представляется случай, где вербальным репрезентантом вышеупомянутого осмысления детства становится известный парк развлечений в США: Q3/R1. Cedar point. Ответивших вышеуказанным образом респондентов можно подразделить на две основные группы: те, чьи ответы в блоке вопросов о взрослении (Q6-Q7) контрастируют с предыдущим блоком о детстве (т. е. эмоциональная окраска ответа меняется с позитивной на негативную) и те, кто положительно характеризует оба периода. Например, респондент № 3 и детство (Q1), и взросление (Q6) описывает как времена веселья, используя одно слово для характеристики обоих периодов: fun. Респондент № 25 также сохраняет позитивный настрой, описывая детство как хорошие старые деньки (Q1/R25. The good old days), а взросление - как лучшие воспоминания (Q6/R25. The best memories ever). Некоторые респонденты склонны выделять детство как положительный период жизни на фоне негативно окрашенного процесса взросления. Так, респондент № 1 описал ребенка как счастливого человека, детство охарактеризовал как веселые времена (Q1/R1. Fun times), а затем в ответах на вопросы о взрослении употребил отрицательно окрашенную лексику, сначала использовав слова в их прямом значении: Q6/R1. Hard times, а затем дав метафорическое осмысление процесса взросления, сравнив его с автомобильной аварией: Q7/R1. Car crash. В данном случае, используя в качестве метафоры «автомобильную аварию», автор отмечает, что осознание взросления наступает внезапно, это тяжелый и болезненный как в физическом, так и ментальном смысле процесс, от которого тяжело оправиться. При описании периода взросления активно использовалась негативно окрашенная лексика для того, чтобы подчеркнуть растущий уровень напряжения, который переживает подросток (Q6/R12. Growing stress). Два респондента акцентируют внимание на трудностях взросления, предлагая метафорическое сравнение взросления с «поднятием камня на гору» и «занятием спортом с утяжелителями и кардиотренировками», при этом в последнем ответе с помощью сравнительной степени прилагательного hard делается уточнение, что период взросления преодолеть еще тяжелее. Ср.: Q6/R33. Pushing a rock up a hill; Q6/R33. Working out really hard with weights and cardio but harder. Лексема pain активно используется для вербализации опыта взросления: Q6/R55. A painful experience. Один из респондентов предлагает метафору «причиняющих боль туфель»: Q6/R33. Painful shoes. Другой дает образное сравнение процесса взросления с процессом выдергивания зубов: Q6/R55. Pulling teeth. Стоит добавить, что в англоязычной культуре существует традиция ассоциирования неприятного и болезненного жизненного опыта со стоматологическим вмешательством [6. С. 214-215]. Наиболее любопытным является сравнение взросления с «операцией без наркоза»: Q6/R13. Surgery without anesthesia. Для того, чтобы выразить негативные эмоции, вызываемые этой болью, этот же респондент использует сленг Q7/R13. Getting kicked in the balls repeatedly. Респондент № 14 описал детство как лучшие времена (Q1/R14. Better times), а при характеристике взросления сравнил данный период с местом, которое является символом невыносимых мук - с адом (Q6/R14. Hell), а также отметил тот факт, что взрослеть достаточно непросто (Q1/R14. Learning the hard way). Противопоставляя взросление детству, этот же респондент сравнивает последнее с раем Q3/R14. Heaven. В данном контексте необходимо обратить отдельное внимание на достаточно распространенную в английском языке метафору контрастирующих между собой рая и ада. Два респондента сравнивают детей с ангелами, скорее всего подразумевая под этим черты невинности (Q4/R4. Angels; Q5/R24. Angels). При этом оба респондента связали процесс взросления со смертью (Ср.: Q4/R4. Dying slowly; Q6/R24. Death; Q6/R24. Dying). Помимо метафорического сравнения с ангелами, идея невинности выражена другими респондентами эксплицитно. В семи ответах первой группы присутствует лексема innocence, а также ее производные. Ср.: Q1/R41. A time of innocence and learning; Q3/R44. Innocence; Q4/R3. An innocent, optimistic cheerful little person. При этом один из респондентов в первом блоке вопросов (Q1-Q5), отметив невинный характер ребенка, отвечая на вопрос из второй группы, взросление описал как потерю этой невинности и принятие несправедливости и обыденности. Ср.: Q3/R43. Innocence and great possibility; Q7/R43. Losing innocence and accepting the unfair and mundane. Однако некоторые ответы показали прямо противоположное видение детства и негативное восприятие детей. Например, респондент № 11 на вопросы № 4 и 5 ответил Mini annoyances и Demons. В ответе на четвертый вопрос использована метонимия: респондент переносит одно из возможных качеств ребенка - его способность вызывать раздражение - на всю его сущность и использует в качестве синонима к понятию «дети». Во втором случае мы можем наблюдать метафорическое сравнение детей с демонами - существами, олицетворяющими зло и воплощающими в себе все плохое. Таким образом, респондент гиперболизирует отрицательную природу детей, сводя все разнообразие их возможных качеств к негативным характеристикам. Можно сделать предположение, что определенный вклад в такое восприятие детей вносит религия, которая утверждала, что дети греховны по своей природе. До XVIII в. ребенок воспринимался как маленький человек, рожденный в грехе. Согласно Кальвинистской доктрине, человек не рождается хорошим, а становится таким в процессе воспитания [12. С. 14]. Комментируя данную группу ответов, стоит отметить, что в современном английском языке существует множество синонимов, использующихся для обозначения непослушных детей (scamp, imp, monkey, rapscallion, rascal, scalawag, urchin, scallywag) [13. С. 59]. Возвращаясь к идее невинности, стоит обратить внимание на то, что в ряде ответов чистота ребенка выражена при помощи метафоры о белом листе. Ср.: Q3/R45. A blank slate; Q4/R22. New clean slate; Q7/R43. A blank canvas; Q2/R35. An open vessel waiting for the next big adventure. Использование этих метафор в обиходно-разговорном дискурсе восходит к теории Джона Локка Tabula Rasa. Идея о том, что ребенок представляет собой чистый сосуд, который наполняется по мере взросления, выражена в ряде ответов при помощи метафорического сравнения детей с губками, которые готовы впитывать новый опыт. По результатам опроса насчитывается 10 ответов подобного рода. Ср.: Q3/R53. Absorbing; Q4/R19. Eager sponges, soaking up things and full of wonder; Q4/R40. Sponges absorbing experiences; Q4/R45. Sponges to absorb life. Отдельного внимания заслуживают два ответа респондента № 57. Описывая ощущения ребенка, он использует слово «впитывающий» (Q3/R57. Absorbing). Позитивное видение детства отражено и в использовании лексем с семантикой приключения. Ср.: Q2/R26. Adventurer; Q1/R35. Happy outdoor adventures; Q2/R41. Traveler, finding new trails to new places and experiences. Прибегая к сравнению различных периодов жизни с путешествием и дорогой, некоторые респонденты используют метафоры различных видов транспорта, что является достаточно типичным для американской лингвокультуры [14. С. 12]. В контексте обсуждения детства используется транспортная метафора велосипеда, что предсказуемо, так как это один из немногих видов транспорта, который доступен несовершеннолетним гражданам и пользуется среди них наибольшей популярностью. Один из респондентов при описании взросления сравнивает данный период с ездой на велосипеде с постепенным ускорением (Q6/R9. Riding a bike you start slow then speed up). Образ велосипеда также появляется в форме свободных ассоциаций в ответах двух других респондентов (Q1/R24. Big wheels and bikes, sunshine and the 70's; Q1/R26. Bike riding and water). Стоит отметить восемь ответов, в которых процесс взросления описан как поездка на американских горках (Q6/R6. A roller coaster). Такая метафора позволяет сделать акцент на эмоциональной нестабильности подростков, сравнив резкие перепады полярных психических состояний с быстрой сменой направления и скорости движения, на которой базируется этот аттракцион. В 16 ответах, представленных в первой группе вопросов Q1-Q5, присутствует семантическое поле игры и игровых элементов (Q1/R49, R21. Playing outside; Q1/R46. Toys toys toys; Q1/R2. Playing with barbies; Q1/R2. Television and Toys; Q3/R33. Playing in a puddle). В контексте игры в четырех случаях из 16 употребляется лексика, связанная с теплым временем года (Q1/R36. Playing outside in the summer; Q1/R38. Playing outside in the heat; Q1/R55. Summers in the park). Интересным с точки зрения метафорической креативности в данном случае представляется сравнение детства с тропическим островом (Q1/R7. Tropical island), выражение, которое в большинстве случаев используется для обозначения приятного времяпрепровождения. Трое из этих 16 респондентов упоминали беззаботность и свободу в ответах на вопросы о ребенке (Q1/R33. No worries, carefree; Q3/R38. Being free; Q3/R19, 56. Being carefree). При ответе на вопрос о взрослении один из респондентов связал его с потерей вышеупомянутых качеств (Q7/R49. Leaving carefree days behind). Отдельного внимания заслуживает метафорическое сравнение взросления со «столкновением с поездом ответственности» (Q7/R11. Being hit by a train of responsibility). Автор данной метафоры не только отразил смену беззаботности на ответственность в период взросления, но и показал резкий и болезненный характер этих изменений. В ряде ответов формулируется осмысление детства через мир взрослых. Некоторые респонденты при описании детей использовали распространенную метафору, построенную на оксюмороне, «ребенок - маленький взрослый» (Q5/R8. Little adults; Q5/R52. Miniature adults; Q4/R16, R46. Little people; Q4/R16, R46. Small people; Q2/R20. Little person). Стоит отметить, что в современных англоязычных произведениях, описывающих средневековое детство, часто используется оксюморон «little adults» или «miniature adults» [15. С. 379]. Часть респондентов при описании детей использовала антитезу, градуальные антонимы: «маленький» и «большой». Респондент № 27 построил свое осмысление детства на контрасте «маленький человек -большой мир» (Q2/R27. Small person in a big world). Респондент № 47 определил ребенка как «маленького человека, который хочет стать большим» (Q2/R47. Little person who wants to be big). Отдельно следует прокомментировать ответ респондента, который ставит детей в пример взрослым, сравнивая первых с напоминанием о том, каким человеком нужно быть и какие поступки совершать для построения светлого будущего. Эта метафора также базируется на противопоставлении детей и взрослых (Q4/R43. Reminders as to what adults need to be and do to serve the future). В англоязычном дискурсе действительно циркулирует гиперболизированная метафора о детях, сражающихся против всего остального мира: the children against the rest of the world [16]. Отдельно следует упомянуть респондентов, которые осмысляют детство через взаимоотношения с миром взрослых. Большинство ответов здесь несет в себе идею зависимости, несвободы детей. Респондент № 3 описывает самоощущение ребенка как раба, возможно, подразумевая под этим отсутствие правосубъектности и вынужденную необходимость выполнять то, что говорят взрослые (Q2/R3. Slave). Особого внимания заслуживает идея о том, что ребенок представляет собой собственность своих родителей (Q2/R17. Belonging of your parents). Используя данную метафору, респондент лишает его воли, делая акцент на том, что все решения за него принимают родители. Такое видение может обусловливаться как культурными нормами, так и действующим законодательством, согласно которому ребенок лишен полной дееспособности до наступления его совершеннолетия [17]. Ср.: Q3/R55. Having bigger people make all your decisions. Зависимость детей от взрослых также выражена в ответах респондентов № 46 и 55 (Q3/R46. Being dependent; Q2/R55. Small, dependent being). 6 ответов содержат в себе лексему prison и ее производные (Q3/R10. Being a prisoner). Лишение ребенка человеческих качеств также выражено в сравнении его с бременем: Q2/R4. Burden. Эта же тенденция отражена в ответах двух респондентов, которые описывают детей как второсортных граждан, скорее всего имея в виду привилегии взрослых над детьми (Q3/R31,52. Being a second class citizen). Контрастирующим с группой, описанной выше, выступает ряд ответов, в которых дети представлены как сильные люди, которые способны практически на все. Три респондента сравнили ребенка с супергероем (Q2/R2. Superhero who can do anything). Для американской культуры супергерой является важным прецедентным феноменом, являющимся символом лидерства, героизма и надежды [18]. Другой респондент определил ребенка как «человека, который завоюет мир» (Q2/R33. Person who will conquer the world). В одном из ответов возможности ребенка крайне гиперболизированы и выражены при помощи контраста между гением и посредственной средой, в которой он обитает (Q2/R31. Genius among idiots). Антитеза, использованная автором, подчеркивает ощущение самоуверенности и превосходства над окружающими, которое может испытывать ребенок. Феномен гениального ребенка действительно является важным для англоязычной культуры, что выражено в таких часто используемых словосочетаниях, как child prodigy, infant prodigy, wonder child [13. С. 59]. В семи ответах тем или иным образом подчеркивается ценность ребенка. Респондент № 9 использует гиперболу и отмечает, что, будучи ребенком, человек ощущает себя «самым важным человеком в мире», а затем дает метафорическое сравнение детей со звездами (Q2/R9. You are the most important person in the world; Q4/R9. Stars). Респондент № 56 отмечает важность детей с помощью номинативной метафоры - «ребенок - центр внимания» (Q3/R56. Being the center of attention). На высокую ценность и важность детей также указывает их сравнение с драгоценными камнями (Q4/R27. Precious stones). Один из респондентов сравнил детей с «неогра-ненными алмазами» (Q4/R17. Diamonds in the rough). Данная метафора является общеязыковой и используется для описания человека, обладающего исключительными качествами или потенциалом, которые необходимо развить [19]. Другой респондент сравнивает ребенка с «открытием, ожидающим своего часа» (Q4/R47. A discovery waiting to be made). Семантически схожими с вышеупомянутой метафорой является определение детей как формируемой глины (Q4/R48. Moldable clay). Идея постоянных изменений и процессов формирования личности также заложена в таких индивидуальных метафорах, как «личность в разработке» и «работа в процессе» (Q2/R30. Person in training; Q2/R45. Work in progress). Несмотря на то что данные метафоры были предложены двумя разными респондентами, они схожи по своей семантической структуре, которая позволяет подчеркнуть незавершенность процесса формирования личности у ребенка и акцентировать внимание на том, что ребенок существует не в реальном мире, мире взрослых, а в упрощенной, «тренировочной» версии этого мира, созданной специально для развития детей и их подготовки к реальной жизни. Похожее восприятие детства выражено в ответах, где используется лексика школы и обучения. Три респондента ассоциируют детство с этими феноменами (Q1/R58. School; Q2/R22. Student). Заметим, что один из них дает метафорическое осмысление и говорит о ребенке как об «ученике жизни», расширяя границы специального учебного заведения - школы - и распространяя модель обучения на все сферы жизни (Q2/R41. Student of life). Упоминание образования и школы также может быть обусловлено тем, что они являются одними из основных инструментов бюрократизации возраста на первых этапах жизни человека, в результате чего становятся незаменимыми атрибутами детства и взросления [20]. Интересным с точки зрения лингвистической креативности представляется ответ респондента № 50, который сравнил детство с «поиском своего пути через лабиринт» (Q3/R50. Finding your way thru a maze). В данной метафоре детство рассматривается не как состояние, а как процесс поиска себя, формирования собственной личности, а образ лабиринта символизирует непростой, запутанный путь с множеством ответвлений. Отдельного комментария заслуживает сравнение детей с цветами. Такая метафора типична для большинства культур, в том числе и англоязычной, так как цветы, растения и деревья с незапамятных времен являлись важной частью человеческой жизни, в результате чего они стали важнейшими символами, с помощью которых люди выражали свои эмоции, чувства, взгляды, страхи [21. С. 100]. Во всех ответах при использовании метафоры цветка был сделан акцент на процессе его роста. Таким образом, в такое осмысление детства уже заложено понятие взросления (Q5/R47. A flower trying to bloom; Q7/R50. A very slow growing plant). Один из респондентов предлагает развернутую метафору и сравнивает необходимость в заботе о детях и их воспитании с поливанием и подпиткой цветка (Q6/R42. A flower that need to be feed and watered and nurtured). Описывая основные тенденции в восприятии и описании детей, отдельно стоит прокомментировать гендерные различия, которые можно определить при анализе ответов на вопросы Q9-Q10. Ряд ответов построен на противопоставлении двух полов. Часть респондентов избрали стратегию контраста, строящегося на противопоставлении более и менее легкой жизни. Например, респондент № 3 использовал градуальные антонимы «легкий, тяжелый» для того, чтобы подчеркнуть, насколько тяжела жизнь мальчика по сравнению с жизнью девочки (Q9/R3. Easy life; Q9/R3. Hard life). Похожую стратегию оппозиций избрал респондент № 1, который ассоциировал жизнь девочки со строгими правилами, а жизнь мальчика - с весельем (Q9/R1. Strict rules; Q10/R1. Having fun). С той же целью респондентом № 40 была использована сравнительная степень прилагательного «тяжелый» (Q9/R40. Trying harder; Q10/R40. Trying). Два респондента посредством использования прилагательных со значением «менее значительный, низший» выразили социальные предрассудки, с которыми приходится сталкиваться девочкам. Оба ответа отражают тенденцию к восприятию одного пола через оппозицию с другим, при этом один из них воспринимается как более значимый (Q9/R55. Being thought of as inferior to boys; Q9/R49. Being considered the lesser sex). Мнение о том, что девочкам приходится преодолевать стереотипы, навязанные обществом, также было выражено в ответе респондента № 17 (Q9/R17. Having to deal with body stereo types and feeling comfortable in your own skin). В то же время при описании жизни мальчика респондент использовал детерминанты «меньше» и «больше», для того чтобы подчеркнуть более легкую жизнь мальчика в сравнении с девочкой (Q10/R17. Less drama, more acceptance). Тенденция к оппозиции в восприятии мальчиков и девочек в ряде ответов была вербализирована при помощи атрибутов, с которыми ассоциируют тот или иной пол. Например, респондент № 57 раскрыл контраст между полами, используя существующий стереотип о том, что девочки играют с куклами, а мальчики - с машинками, в качестве символов двух гендеров (Q9/R57. Dolls; Q10/R57. Trucks) [22]. Тактика метонимического переноса была также использована другими респондентами на основе смежности пола ребенка и чертам характера, с которыми их принято ассоциировать [23] (Q9/R10. More crying and more feeling; Q10/R9. Sports fighting and getting into trouble). При описании девочек акцент был сделан на внешности, в двух ответах были использованы лексемы, составляющие данное семантическое поле: pretty, dresses. Также используются лексемы (часто прилагательные), входящие в семантическое поле чувственности и эмоциональности: sensitive, gentle, graceful, nice, feeling. Мальчишеская среда вербализируется при помощи лексики, обозначающей более активные действия или состояния: getting dirty, outgoing, loud, rough and tumble. Ср.: Q9/R18. Feeling pretty; Q10/R18. Getting dirty. Q9/R19. Being sensitive, learning social rules Q10/R19. Being outgoing, rowdy. Q9/R25. Dresses, pig tails; Q10/R25. Rough and tumble mixed with a little dirt. Q9/R38. Gentle and graceful; Q10/R38. Rough and loud. Q9/R44. Always playing nice; Q10/R44. Tough. Отдельного комментария заслуживает ряд ответов, в которых респонденты намеренно дали одинаковые ответы при описании обоих полов, подчеркнув тем самым отсутствие влияния гендерных различий на отношение к ребенку. Такие ответы подкрепляются теорией гендерной нейтральности, которая утверждает, что биологический пол не обязательно определяет социальные, психологические и интеллектуальные характеристики человека [24]. Например, респондент № 8 отметил, что все вышеперечисленные различия между мальчиком и девочкой социально навязаны и единственное, чем они отличаются - это части тела (Q9/R8. Being a girl means you have to be pretty, quiet, nice; Q10/R8. Being a boy means you can be loud, rough, tough and never cries. According to society. Not my opinion. To me a boy or girl is only different by body parts. They should all be kind and good kids first). Такого же мнения придерживаются двое других респондентов, которые в своих ответах иронично свели все возможные различия между девочкой и мальчиком к физическим признакам (Q9/R5, 11. Having a vagina; Q10/R5, 11. Having a penis). Такие ответы отражают современную идею, которая признает, что понятие пола включает в себя лишь физические различия, а гендер, который определяется на индивидуальном уроне, затрагивает психические, социальные и культурные характеристики. Таким образом, эти респонденты различают понятия пола и гендера и не берутся описывать последнее в рамках оппозиции «мальчик или девочка», оставляя эти характеристики для определения каждым отдельным ребенком: Q9, 10/R30. Being yourself; Q9, 10/R31. Whatever each child is experiencing; Q9, 10/R32. Being a child who should be allowed to be a child, not a “little man” or “little woman”; Q9, 10/R35. Being true to yourself. There is no inherent difference in meaning. Языковые примеры, подкрепляющие вышеописанные тенденции, изобилуют в современной американской культуре. Например, иронично обыгрывается идиома boys will be boys, значение которой заключается в том, что неудивительно, когда мужчины или мальчики ведут себя энергичным, грубым или неподобающим образом, так как это неотъемлемая часть их характера [25]. В одной из статьей Columbia News Services данное изречение деконструируется следующим образом: Boys Will Be Boys. Unless They're Girls [26]. Идея гендерно нейтрального воспитания приобрела важное значение среди либерального американского общества. В результате было предложено новое местоимение для обозначения ребенка, которое позволяет избежать гендерной идентификации. Вместо традиционных he и she предлагается последовать общемировой тенденции инклюзивного языка, например, при помощи замены местоимений третьего лица единственного числа на множественное they [27. С. 110]. Либеральными активистами был предложен неологизм theyby -местоимение, которое строится на основе контаминации местоимения they и существительного baby [28]. На основании представленного в статье материала можно сделать ряд общих выводов. 1. Большая часть ответов, в которых отражено восприятие детства, являются эмоционально окрашенной и несут позитивные или негативные суждения. В пределах одного ответа встречаются прямо противоположные формулировки, что свидетельствует о неоднозначности и противоречивости субъективного опыта переживания детства (Q1/R15. Pain, wonder, innocence). 2. Восприятие феномена детства на современном этапе развития не является однородным, так как оно впитало в себя все ранее предложенные в дискурсах интерпретации. 3. Несмотря на контроль со стороны общества и попытки бюрократизации, опыт детства и взросления является феноменом субъективной реальности, который допускает множество различных трактовок. 4. Помимо эксплицитного способа вербализации детства и взросления, одним из основных инструментов концептуализации этого опыта среди носителей современной американской лингвокультуры является метафора. 5. Наблюдается гетерогенность дискурсивного поведения, которая выражается в разнородности используемых метафор. Носитель американской культуры как адаптирует уже существующие, распространенные в лингвистическом пространстве конвенциональные метафоры с учетом своих когнитивных особенностей, так и создает индивидуальные, креативные метафоры. В результате их совокупность формирует уникальный метафорический ландшафт.
Коршунова А.И. Дискурсивное конструирование феномена «детство» в англоязычной культуре // Человек: Образ и сущность. 2020. № 2 (42). С. 21-39.
Нефедова Л.К. Феномен детства в основных формах его репрезентации (философия, миф, фольклор, литература) : автореф. дис.. д-ра филос. наук. Омск, 2005.
Evans S., Garner J. Talking over the years: A handbook of dynamic psychotherapy with older adults. New York : Routledge, 2004. 304 p.
Нагорная А.В. Дискурсивное конструирование феноменов старости и старения: опыт англоязычных стран // Межкультурная коммуника ция в эпоху глобализации: свое, чужое, универсальное. М. : ИНИОН РАН, 2019. С. 77-88.
Zinken J., Hellsten I., Nerlich B. Discourse metaphors // Body, Language and Mind. 2008. Vol. 2: Sociocultural Situatedness. P. 363-385.
Нагорная А.В. Дискурс невыразимого: Вербалика внутрителесных ощущений. М. : ЛЕНАНД, 2014. 320 c.
Нагорная А.В. Метафоры старения и старости в обиходно-разговорных дискурсах современной Америки // Вестник Томского государ ственного университета. Филология. 2021. № 69. C. 142-165. DOI: 10.17223/19986645/69/7.
Gentner D., Colhoun J. Analogical Processes in Human Thinking and Learning // Towards a Theory of Thinking: Building Blocks for a Conceptual Framework. Berlin : Springer, 2010. P. 35-48.
Bowdle B.F., Gentner D. The Career of Metaphor // Psychological Review. 2005. Vol. 112, № 1. P. 193-216.
Pragglejaz Group. MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse // Metaphor and symbol. London : Lawrence Erlbaum Associates, 2007. P. 1-39.
Lawley J., Tompkins P. Metaphors in Mind: Transformation Through Symbolic Modelling. London : Crown House Pub., 2000. 226 p.
Bunge M. The Child in Christian Thought. Grand Rapid : Wm. B. Eerdmans-Lightning Source, 2001. 527 p.
Бабарыкина Т.С. Характеристика английского концепта child на основе словарных дефиниций // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 4. С. 57-61.
Lumsden K. Boy Racer Culture: Youth, Masculinity and Deviance. New York : Routledge, 2013. 208 p.
Beales R.W. In Search of the Historical Child: Miniature Adulthood and Youth in Colonial New England // American Quarterly. 1975. Vol. 27, № 4. P. 379-398.
Bayliss S. Innocent or Not So? The Shifting Visions of Childhood // The New York Times. 1999. URL: https://www.nytimes.com/1999/03/14/arts/art-artchitecture-innocent-or-not-so-the-shifting-visions-of-childhood.html (дата обращения: 06.01.2021).
Family and Parenting Institute. Is It Legal? A Parents' Guide to the Law. URL: https://www.rbkc.gov.uk/pdf/FPI%20is%20it%20legal%20Feb_08.pdf (дата обращения 20.01.2021).
Dubois L. Superheroes and «the American Way»: Popular Culture, National Identity, and American Notions of Heroism and Leadership. Richmond University. URL: https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2397&context=honors-theses (дата обращения: 20.12.2020)
Diamond in the rough // Электронный словарь Merriam Webster. URL: https://www.merriamwebster.com/dictionary/diamond%20in%20the%20rough (дата обращения: 15.12.2020).
Aries P. Centuries of Childhood: A Social History of Family. New York : Random House, 1965. 448 p.
Lehner E., Lehner J. Folklore and Symbolism of Flowers, Plants and Trees. New York : Dover Publications, 2003. 128 p.
Columbia News Service. Parenting Goes Gender Neutral // Columbia News Service. 2011. URL: https://columbianewsservice.com/ 2011/04/parenting-goes-gender-neutral/(дата обращения: 20.01.2021).
UNICEF. Early Childhood Early Gender Socialization, 2007. URL: https://www.unicef.org/earlychildhood/index_40749.html (дата обращения: 23.01.2021).
Dragseth J. Thinking Woman: A Philosophical Approach to the Quandary of Gender. Cambridge : Lutterworth Press, 2016. 214 p.
Boys will be boys // Электронный словарь Merriam Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/boys%20will%20be%20boys (дата обращения: 15.12.2021).
Columbia News Service. Boys Will Be Boys. Unless They're Girls // Columbia News Service. 2011. URL: https://columbianewsservice.com/ 2011/04/parenting-goes-gender-neutral/(дата обращения: 20.01.2021).
Blake B.J. English Vocabulary Today: Into the 21st Century. New York : Routledge, 2019. 192 p.
Theyby // Электронный словарь Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. URL: https://www.macmillandictionary.com/diction-ary/british/theyby (дата обращения: 15.12.2020).
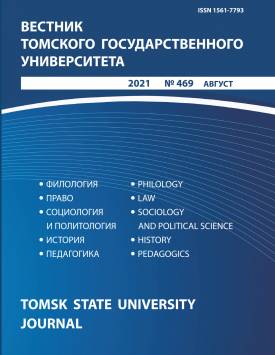

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью