Баранта как способ разрешения локальных конфликтов в юго-восточном фронтире России в 40-50-х гг. XVIII в.
Рассматривается обоснование и использование российскими властями баранты (заложничества) в качестве правового института в отношениях с кочевыми народами юго-восточного фронтира в 40-50-х гг. XVIII в. Инициатором ее применения выступил правитель Младшего жуза хан Абулхаир. Отмечается, что в контексте геополитических реалий XVIII столетия баранта, как способ пресечения локального конфликта, ограничивала потенциал его дальнейшего распространения, обеспечивала правовую базу для ведения переговоров и удовлетворения претензий конфликтующих сторон.
Baranta as a Way to Resolve Local Conflicts in the South-Eastern Frontier of Russia in the 1740s-1750s.pdf «История под ударом» - именно так следует трактовать коллизии исторической памяти, наблюдаемые в последнее время в странах, еще недавно гордившихся своей принадлежностью к европейской цивилизации. Их смысл заключается в переносе ценностей современного гражданского общества на процессы и события прошедших эпох. В результате вчерашние герои становятся изгоями, сносятся поставленные в их честь памятники, их имена вычеркиваются из названий улиц и других социальных объектов. Вина этих людей заключается в том, что они принадлежали к сословиям господ в эпоху рабства или феодализма либо являлись яркими представителями колониальных империй. К числу таких государств многие историки из стран ближнего и дальнего зарубежья относят Российскую империю [1; 2. С. 112-114; 3]. При этом они часто оперируют фактами, вырванными из исторического контекста, за что современная российская историография их обоснованно критикует как с теоретических [4-5], так и с конкретно-исторических позиций [6-8]. В настоящей статье данная проблема будет рассмотрена на примере внедрения российскими властями практики применения баранты (заложничества) в качестве правового института в отношениях с кочевыми народами юго-восточного фронтира к середине XVIII в. Документальной основой для проведения исследования послужили материалы из фонда «Оренбургской губернской канцелярии» Государственного архива Оренбургской области. Наиболее значимыми из них являются: «Выписка из доношений тайного советника и оренбургского губернатора Неплюева от 12 по 25 октября и бригадира Тевкелева от 24 сентября по 24 декабря 1748 года с рассуждением Коллегии иностранных дел 1749 года» о целесообразности использования баранты [9. Л. 101-107], распоряжения И.И. Неплюева и донесения офицеров о ее фактическом применении [10. Л. 3334; 11. Л. 119-120, 133-134 об., 365]. В конце 1748 г., через 18 лет после вхождения Младшего казахского (киргиз-кайсацкого) жуза в российское подданство, в числе прочего Коллегия иностранных дел запросила мнение оренбургского губернатора И. И. Неплюева и авторитетного военного администратора и дипломата, бригадира А.И. Тевкелева об использовании баранты как средства силового воздействия на родовую казахскую знать. Причем, как следует из переписки, «баранта» понималась в более узком смысле, по сравнению со словарным толкованием этого термина. Вопрос ставился о правомерности захвата заложников из представителей тех родов, чьи родственники были заподозрены в совершении преступлений в отношении российских подданных или экономических интересов Российской империи. Это могли быть разбойные нападения на населенные пункты, захват скота и пленение людей, ограбления российских и иностранных купеческих караванов. Как выяснилось, отношение к баранте, как средству умиротворения степного народа, у высокопоставленных оренбургских чиновников сложилось диаметрально противоположное. Алексей Иванович (Кутлу-Мухаммед) Тевкелев происходил из рода татарских мурз. Знание восточных языков и незаурядные способности позволили ему, рядовому переводчику при Коллегии иностранных дел, выдвинуться в число выдающихся российских дипломатов своего времени. К началу 1730-х гг. А. И. Тевкелев имел опыт дипломатических сношений с Персией, Турцией и Калмыцким ханством. В 1731 г. Тевкелев возглавил дипломатическую миссию, направленную в Казахскую степь для заключения договора с ханом Младшего жуза Абулхаиром. Он не только добился подписания присяги казахским ханом и знатными старшинами о вступлении в российское подданство, но и сумел наладить с Абулхаиром доверительные отношения, которые сохранялись между ними до смерти хана в 1748 г. В период обострения отношений между ханом Абулхаиром и губернатором И. И. Неплюевым «приятельство» Тевкелева с казахским правителем позволило избежать значительных военных конфликтов. Неоднократные поездки А. И. Тевкелева в ханскую ставку не ограничивались одними лишь представительскими обязанностями. По поручению правительства он занимался сбором сведений, касавшихся истории, экономики, социальных отношений, права и других аспектов жизни казахского народа и его правителей, а также их отношений с соседними странами и народами [12. С. 68-76]. В результате ни одно значимое правительственное решение по «киргис кайсацкому» вопросу не обходилось без запроса мнения А. И. Тевкелева. Бригадир Тевкелев решительно поддержал идею задержания невиновных сородичей преступника. Ба-ранту он назвал нужным делом, без которого «сколько не трудиться, киргис кайсацкий народ от предерзостей удерживать и в послушание в скором времени привести никак не возможно» [9. Л. 98]. Далее А.И. Тевкелев в четырех пунктах, ссылаясь на исторический опыт, обосновывает правомерность применения баранты. В первую очередь бригадир сослался на мнение Нурали-хана, который неоднократно и в письмах, и при личных встречах «оную баранту за весьма нужное признавал». Предвидя замечание о том, что сами казахи людей в баранту не берут, а только скот отгоняют, Тевкелев пояснил, что у скотоводов просто нет возможности держать заложников в заточении или под постоянным присмотром. Далее он призвал не опасаться негативной реакции родовых старшин против мнения хана и султанов. Они возражать не станут, «ибо у них, киргизцов, то и право, что баранта» [9. Л. 98 об.]. Содержать заложников Тевке-лев предполагал как в Оренбурге, так и в Орской крепости. Даже если из-за дальности расстояния от их кочевий и угрозы баранты казахи станут пренебрегать оренбургским торгом, то от поездок в Орск за нужными товарами они отказаться не смогут. В заключение в качестве примера бригадир Тевке-лев сослался на опыт правления калмыцкого Аюки-хана, который, даже став почти самовластным правителем, без баранты обойтись не мог [9. Л. 98 об.]. Оренбургский губернатор И.И. Неплюев считал, что баранта в качестве средства давления на казахов и другие азиатские народы не только бесполезна, но даже вредна для интересов России. Свое представление в Коллегию иностранных дел он изложил в восьми пунктах. В первых двух пунктах губернатор рассмотрел использование баранты самими казахами и в соседних с ними «городских» странах. Казахи прибегали к баранте всякий раз, когда между ними случались ссоры или убийства. Как уже говорилось выше, пострадавшая сторона отгоняла принадлежавший обидчикам скот и лошадей. Баранта удерживалась ими до тех пор, пока враждующие стороны между собой не договаривались самостоятельно. В противном случае претензии истцов должны были разрешаться в третейском либо ханском суде. Однако случалось и так, что вражда между родами и семьями затягивалась на 20-30 лет. Применение баранты со стороны бухарских и хивинских правителей И.И. Неплюев расценивал как проявление слабости. Они практиковали удержание приезжавших в их города казахских торговцев до тех пор, пока их сородичи не возвратят награбленное имущество. В качестве образца поведения, достойного подражания, оренбургский губернатор ссылается на действия джунгарских и волжских калмыцких нойонов (владельцев). Всякий раз, когда у них случались ссоры с казахскими ханами и прочими султанами и старшинами, они собираются всей ордой и «всегда с ними не барантою, но военною рукою управляется» [9. Л. 99]. Чтобы лучше понять воинственную риторику И. И. Неплюева, обратимся к некоторым аспектам его послужной дипломатической деятельности и специфике выстраивания отношений с ханом Абулхаиром и другими казахскими правителями на посту оренбургского губернатора. На государственную службу Иван Неплюев попал в силу петровского указа о недорослях от 20 января 1714 г. К тому времени «недорослю» Неплюеву уже исполнился 21 год. Учеба в Нарвской навигационной школе, Петербургской морской академии, стажировка на военно-морских судах в Венеции, наконец, покровительство самого императора Петра I, казалось, предрекали И. И. Неплюеву блистательную карьеру морского офицера. Но в январе 1721 г. он неожиданно получает назначение на должность резидента при дворе турецкого султана. Российскую миссию в Константинополе И.И. Неплюев возглавлял до 1734 г. Военно-морская служба в период славных побед русского флота на Балтике, внушаемая с гардемаринской скамьи вера в несокрушимую мощь Российской державы, оказали влияние на отношение И.И. Неплю-ева к дипломатической службе. Как чиновник и дипломат он был весьма инициативным, но только в пределах дозволенного вышестоящим начальством, и, одновременно, послушным и исполнительным. Решать дипломатические проблемы предпочитал с позиции силы, порой переоценивая возможности ее использования. Именно И. И. Неплюев в 1735 г. выступил решительным сторонником войны с Османской империей. Он уверял правительство, что выдвижение к турецкой границе одного малого русского корпуса будет достаточно, чтобы султан запросил мира [13. С. 192-193]. В результате военные расходы казны и многотысячные людские потери русско-турецкой войны 1735-1740 гг. не шли ни в какое сравнение с ничтожными территориальными приобретениями на черноморском побережье Северного Кавказа. В 1742 г. И. И. Неплюев был назначен начальником Оренбургской комиссии, а в 1744 г. оренбургским губернатором. Как главе приграничного региона ему были поручены дипломатические сношения с казахскими жузами и другими центральноазиатскими странами и народами. На протяжении семи лет его ведущим дипломатическим партнером и оппонентом выступал хан Абулхаир. Из донесений дипломатических агентов, выезжавших с поручениями в казахские кочевья, писем казахских султанов и старшин, наконец, после личной встречи с ханом, И.И. Неплюев сделал вывод, что Абулхаир не обладает достаточной силой и авторитетом для удержания в узде строптивой казахской знати. Собственно, правитель Младшего жуза и не скрывал непрочность своего положения. Выполнение обязательств перед Россией и Оренбургской администрацией он ставил в прямую зависимость с рас-протсранением своей власти на весь казахский народ [14. С. 171]. В донесении в Коллегию иностранных дел от 27 сентября 1742 г. И.И. Неплюев характеризовал Абулхаир-хана как человека лживого и высокомерного, сознательно опорочившего хана Среднего жуза Абулмамбета [15. С. 254]. Негативное отношение И. И. Неплюева к Абулхаир-хану со временем только усиливалось. В свою очередь Абулхаир также не скрывал своих претензий к оренбургскому губернатору, он их изложил в личном послании императрице Елизавете Петровне, доставленном в Санкт-Петербург в ноябре 1747 г. Хан обвинял И.И. Неплюева в том, что он злонамеренно, на протяжении многих лет держит его сына Кожахмета в аманатах. Не позволяет ему, хану, иметь резиденцию в Оренбурге, городе, который, по его убеждению, был для него построен русским правительством. Наконец, он возмущался тем обстоятельством, что его недругов из Среднего жуза -Абулмамбет-хана и Барак-султана - губернатор выше него почитает [16. Л. 25-26]. Были и другие поводы для недовольства, возникавшие и затихавшие по мере развития политической ситуации. К тому же Абулхаир выражал уверенность, что губернатор Неплюев намеренно не информирует правительство о его нуждах и скрывает от него самого содержание высочайших указов. Последнее замечание относилось и к баранте. Именно Абулхаир-хан выступил инициатором задержания и содержания в заложниках в русских крепостях родственников казахов, провинившихся перед ним и российскими властями. О распространении у казахов этого правового обычая правитель Малого жуза дал русской императрице следующее пояснение (1743 г.): «А у нас, у дикого народа, такой обычай, что в котором роду какое будет дело, то ис того роду людей удерживать надлежит, как же то окончается, то и оные удержанные выпускаются» [15. С. 298]. В качестве предлога Абулхаир-хан решил воспользоваться требованием русского правительства о задержании Карасакала, одного из главных предводителей башкирского восстания второй половины 1730-х гг., который скрывался у казахов Среднего жуза Бурма-Найманского рода. По распоряжению хана были задержаны и отправлены в Оренбург тридцать представителей этого рода. В качестве ответного жеста он надеялся получить от тогда еще начальника Оренбургской комиссии военную поддержку под расплывчато обозначенную задачу «для отправления кайсац-ких дел». И.И. Неплюев распорядился заложников отпустить и никаких войск в степь не посылать [15. С. 291]. Следующий подобный демарш по склонению оренбургской губернской администрации к задержанию указанных им казахов хан Абулхаир предпринял в 1747 г. На этот раз он воспользовался строгим требованием российской стороны о возвращении более 600 калмыков и других российских подданных, плененных казахами в низовьях Волги в 1746 г. Из Оренбурга для поиска и возвращения пленных в ханскую ставку был направлен переводчик Арслан Бехметев. Вот тогда и предложил Абулхаир губернатору И.И. Неплюеву задержать до тридцати казахских торговцев, находившихся в то время в Оренбурге. Причем переводчик А. Бехметев заверял, что «оной хан, сколько ни старался о выборе пленных, но киргизцы на то добровольно не склонялись» [9. Л. 102 об.]. Губернатор связал просьбу хана с обидой за содержание в аманатах его сына и стремлением вызвать озлобление в народных массах. Абулхаир, недовольный бездействием И.И. Неплюева, приказал задержать переводчика Бехметева, а собранных для отправки в Оренбург российских пленников вновь раздать казахским хозяевам. Мотивы своего поведения казахский правитель оправдывал не только нанесенным ему оскорблением, но и заботой о сохранении политического авторитета. Требованиям казахского хана оренбургский губернатор дал следующее объяснение: «Абулхаирханские о баранте требования с того времени начались, когда он вознамерился усиливать себя над владельцами Средней орды и сего домагался, чтоб по его письмам удерживать и освобождать из чего его интрига и намерки к усильству довольно видимы были. Но сходно ль с интересом Ее Императорского Величества, чтоб над столь многочисленным народом, каковы обеих орд киргизцов, владельцов их к таким мерам допушать, чрез которые они могут один над другим усиливаться» [9. Л. 100]? Скептическое отношение к баранте И.И. Неплюев связывал и с собственным, как он считал неудачным, опытом ее применения. В 1743 г. возле крепости Рассыпной казахи захватили и увели в плен 82 черкасов (украинских переселенцев), основавших будущее крепостное поселение. Неплюев был уверен, что подстрекателем разбойного набега был Абулхаир-хан, и в качестве ответной меры приказал атаману Яицкого войска, к которому были приписаны черкасы, взять в плен казахов из родов Младшего жуза. Яицкими казаками были задержаны четырнадцать знатных казахов. Несколько лет казахские заложники содержались в казацком плену. Двое из них за это время умерли, оставшиеся, по просьбе казаков, «что корм на них напрасно происходил», были отпущены в родовые кочевья [9. Л. 99 об.]. Основываясь на этом инциденте, И.И. Неплюев пришел к выводу, что удержание небольших групп заложников родовая казахская знать оставляет без внимания. Если же удерживать в заложниках по пятьдесят, сто и более человек, то из опасения потери свободы казахи откажутся ездить на оренбургский торг, но вряд ли откажутся от захвата в плен российских подданных. Видимо, последний аргумент и являлся определяющим, ведь вопрос стоял о сохранении Оренбурга как центра экономической жизни губернии, а возможно, и ее столицы. Абулхаир, а вслед за ним и его наследник Нурали-хан ходатайствовали перед правительством о переносе торга в Орскую крепость, находившуюся недалеко от кочевий Младшего жуза. За сохранение торга с казахами в Орской крепости выступал и бригадир Тевкелев [9. Л. 107 об.]. Опасаясь прослыть в глазах правительства решительным противником баранты, так как в Коллегии иностранных дел у нее могли найтись сторонники, И.И. Неплюев предложил своего рода компромиссный вариант. Он заключался в использовании для баранты крепостей за пределами Оренбургской губернии, например в Сибири. Исключение делалось для располагавшейся на Уйской пограничной линии Троицкой крепости, где велась активная меновая торговля с казахами Среднего жуза. Главное условие - заложников содержать в отдалении от Оренбурга, яицких форпостов и Гурьева с его казенными рыбными промыслами. Главному начальнику Оренбургского края И.И. Неплюев отводил роль посредника, что также должно было привлекать казахских старшин к посещению губернского города [9. Л. 101]. Коллегия иностранных дел доводы И.И. Неплюева не поддержала. Ее резолюция напоминает выговор высокопоставленному чиновнику регионального уровня за упущения в работе. Те аргументы, которые, как считал оренбургский губернатор, свидетельствовали против использования баранты, Коллегия оценивала в пользу ее применения. Так, опыт Хивы и Бухары показал, что она, как менее затратное средство по сравнению с применением войск, позволяет добиваться нужных результатов. И.И. Неплюеву напомнили его же донесение от 30 июня 1747 г., в котором говорилось, что после того, как казахи совершили грабительский набег на живших вблизи Хивы аральцев, в Хиве были задержаны 150 казахских торговцев и вскоре все награбленное их сородичами имущество было возвращено. В том, что джунгары предпочитали действовать против казахов не барантой, а военной силой, объяснялось их планами покорения казахских жузов [9. Л. 101 об.]. По-иному виделись в Коллегии иностранных дел и последствия использования баранты в 1743 г. Будто бы сам хан Абулхаир, когда убедился, что русское правительство не подчинится его условиям и в обмен на освобождение пленных россиян не отпустит из аманатов его сына, вызвался содействовать их освобождению. Именно хану, а не И.И. Неплюеву, как это следовало из донесений оренбургского губернатора за прошлые годы [15. С. 305], приписывалась инициатива задержания трех его посланников: «дабы между тем свойственники их в отыскании тех пленных ему, хану, помогли, почему оные в Москве и продержаны» [9. Л. 101 об.]. Свою лепту внесло и задержание четырнадцати казахов в Яицком городке. Под влиянием этих акций, по сведениям Коллегии, за три года из казахского плена в Оренбург были отпущены 57 человек, и сам И.И. Неплюев признал, что «россиян в киргис-кайсацких улусах, кроме умерших и в другие владения запроданных, не осталось» [9. Л. 102]. Ответственность за задержание Абулхаиром переводчика и не возвращенных в 1747 г. российских пленных Коллегия иностранных дел также возложила на Неплюева. Своим недоверием губернатор оскорбил и озлобил хана. Казахский правитель, минуя главного начальника Оренбургского края и своего непосредственного куратора, разъяснял чиновникам дипломатического ведомства, что задержание по его указанию казахов, приезжавших на Оренбургский меновой двор, было призвано обеспечить безопасный проход торговых караванов. Абулхаир-хан уверял, что баран-та - лучшее средство принуждения казахов к исполнению императорских указов: «от такого киргис кай-саков задержания, не только в Оренбургском торгу помешательства не будет, но и других худых никаких следствий быть не может» [9. Л. 104]. Далее в качестве примера для подражания приводился введенный при Аюке-хане порядок рассмотрения жалоб жителей Астраханской губернии на «воровские поступки» калмыков в Калмыцком ханстве. Русские истцы могли обратиться в учрежденный ханом суд (зарго), в котором заседали зайсанги из всех калмыцких улусов. Если суд выносил решение в пользу русского истца, то устанавливался срок удовлетворения иска, заключавшийся, как правило, в производстве платежа (возвращении скота и имущества). Если платеж в указанный срок не производился, истец имел право, удостоверенное в письме с ханской печатью, забрать из улуса ответчика баранту. Обычно практиковался захват истцами нескольких улусных людей, из которых один, самый неимущий, отправлялся в улус с ханским письмом. Были случаи, когда и без ханских писем русские брали в баранту заложников. В периоды таких конфликтов калмыки до удовлетворения иска прекращали ездить на ярмарки в российские города. В таких случаях в калмыцких кочевьях распространялись слухи, что в баранте удерживаются только калмыки из тех улусов, в которых укрываются ответчики, и торговые отношения вскоре возобновлялись. Поиск облегчало то обстоятельство, что жители соседних с калмыцкими кочевьями селений разбирались в их улусной принадлежности и имели среди калмыков много знакомых. Нередко сами калмыки за небольшую плату помогали русским истцам отыскивать их калмыцких обидчиков [9. Л. 104-105]. После исторического экскурса, обосновывавшего правомерность использования баранты в отношениях с кочевыми народами, Коллегия иностранных дел пришла к однозначному заключению: «По вышепи-санным обстоятельствам рассуждается и у киргис кайсак отныне баранту брать» [9. Л. 105 об.]. Прибегать к ней допускалось, когда становилось известно о захвате казахами людей, угоне скота и лошадей, грабеже или укрывательстве в казахском улусе (родовом кочевье) беглых российских подданных. За основу был взят порядок, сложившийся в отношениях с калмыками у администрации Астраханской губернии. Баранту допускалось производить с ведома оренбургского губернатора. Но прежде предписывалось донести хану о чинимых его подданными обидах и требовать возмещения убытков и наказания виновных. Ханское согласие на задержание заложников в российских крепостях требовалось в том случае, если казахский правитель не был в состоянии принудить ответчиков удовлетворить претензии потерпевших либо когда связаться с ханом не представлялось возможным. Главным условием задержания заложников была их родственная связь с лицами, подозреваемыми в совершении преступления. Частично были учтены и опасения И.И. Неплюева по поводу возможного усиления одного казахского правителя над другими. Коллегия иностранных дел подтверждала, что баранту можно «чинить»/по требованию Нурали-хана, но только «по учиненным к российской стороне обидам». Как фактор сдерживания хана от злоупотребления властью указывалось содержание в аманатах его сына и сыновей казахских старшин. С другой стороны, принижение ханской власти признавалось еще более опасным, чем ее возвеличивание: «А ежели хана до малого над киргизцами усиления не допускать, то уже и звание ево будет пустое и иждивение, употребленное при конфирмации ево пропадет напрасно, ибо он киргизцов от обыкновенного их воровства унимать будет не в состоянии и так того и взыскать будет не на ком» [9. Л. 107]. Как верно подметил знаменитый историк литературы и культуролог Ю.М. Лотман, И.И. Неплюев по характеру был человек «точный, расположенный к документам, фактам, а не к переживаниям» [17. С. 344]. К тому же он не имел покровителей при елизаветинском дворе. Оренбургский губернатор не только подчинился правительственному требованию использования баранты в качестве способа умеренного силового воздействия, но и стал ее активным поборником. В архивных документах, датированных первой половиной 1750-х гг., отложились сведения о двух конфликтных ситуациях, для разрешения которых И.И. Неплюев требовал задержания заложников. Первый из них был связан с обострением политической ситуации в Хивинском ханстве. Туда в 1753 г. с торговым караваном были направлены из Оренбурга переводчики Яков Гуляев и Петр Чучаев - в качестве посредников для разбора претензий хивинского купечества на разграбление их караванов казахами Младшего жуза. Незадолго до прибытия русской миссии Каип-хан расправился с предводителями нелояльного узбекского клана мангытов. По его приказу было казнено 60 представителей этого рода [18. С. 109], в том числе и Хораз-бек (в документе - Курасбек С.Д.). В стране начались народные волнения. Под подозрение попали и русские переводчики. У них были найдены и отобраны письма бригадира А. Тевкелева к Хораз-беку. Это обстоятельство навело Каип-хана на мысль, что русская миссия направлена к нему не для посредничества в разбирательстве ссор, а исключительно с разведывательными целями. Переводчики были задержаны. К ним запрещалось допускать находившихся в Хиве русских людей. Одновременно хан распорядился отобрать у русских купцов товары, оцененные в 6 тысяч червонцев. Купцам по этому поводу было объявлено, что товары у них взяты в долг и после прекращения народных волнений и возвращения долга они смогут вернуться на родину. Деньги понадобились хивинскому правителю для подкупа туркменской знати, которая помогла ему сохранить трон [18. С. 109]. В сложившихся обстоятельствах баранта оказалась единственным средством, способным оказать давление на хивинского хана. Губернатор Неплюев предложил Коллегии иностранных дел начать действовать с двух направлений: с одной стороны, требовать от Нурали-хана приложить старания к пленению хивинцев, с другой - задержать в Оренбурге приехавших на оренбургский торг четверых хивинцев и трех туркмен, подданных хивинского хана. Пребывание в России последних предполагалось затягивать под предлогом проволочек с производством таможенных сборов [10. Л. 33-34]. Коллегия одобрила предложение И.И. Неплюева с незначительными уточнениями. У взятых в баранту хивинских купцов в Хиве должны проживать родственники не из «подлых» людей, а из таких, которые в состоянии убедить Каип-хана освободить переводчиков и вернуть отобранные у российских купцов товары. На усмотрение оренбургского губернатора было оставлено и право распорядиться о взятии в плен знатных старшин Среднего жуза из ведомства Батыр-султана, отца Каип-хана [10. Л. 34-34 об.]. Однако прибегать к демонстрации силы не пришлось. Каип-хан, чье положение на хивинском престоле по-прежнему оставалось непрочным, осознал опасность вступления в войну с Нурали-ханом, за спиной которого стояла великая Российская держава. Переводчики и купцы в начале декабря 1754 г. благополучно возвратились в Оренбург. Более того, Каип-хан направил в Россию своего посланника Ширмухамета. В знак примирения хивинский правитель освободил и отпустил в Оренбург пятерых российских невольников -четырех христиан и одного татарина. Один из них, московский поляк Василий Михайлович Чернышев, состоявший денщиком при князе А. Бековиче-Черкасском, находился в хивинском плену 37 лет. В Оренбурге он дал подробные показания о гибели князя и разгроме возглавляемой им миссии в 1717 г. [11. Л. 365]. Второй случай применения баранты, имевший локальный фронтирный характер, был произведен в полном соответствии с прописанным Коллегией иностранных дел сценарием. В том же 1754 г. в Военную походную канцелярию оренбургского губернатора И.И. Неплюева по заграничной экспедиции поступило донесение, поданное в Гурьеве казаком Красногорского городка Алексеем Верчиным. А. Верчин просил содействия в освобождении сына Василия, плененного казахами еще в 1747 г. Как выяснил Верчин, сын его находился в кочевье у знатного старшины из Бер-шинского рода Сахандык Берши. Донесение подсказывало и способ к освобождению Василия Верчина. И сам старшина, и казахи из его улуса часто приезжали по торговым делам и другим нуждам в Гурьев городок и другие яицкие форпосты, что давало повод к их задержанию. В круг предполагаемых к задержанию лиц И.И. Неплюев включил самого Сахандык Берши, его сыновей и родственников, с обязательным для всякого случая применения баранты пояснением: «но люди были бы не подлые, чтоб родственники их прилежнее стараться за них принуждены» [11. Л. 119 об.]. 30 марта 1755 г. походный атаман Яицкого войска Филипп Мусатов рапортовал о задержании и отправке в Гурьев сына Сахандыка Берши, Тугунай-батыра и двух его родственников. Операция по обмену заложниками завершилась в течение двух дней. 2 апреля гурьевский комендант капитан Рогов поручил посреднику Каракулу Клычеву доставить Василия Вер-чина в Гурьев. На следующий день, 3 апреля, сам Ну-рали-хан передал пленного яицкого казака, служившего при яицких форпостах, поручику князю Урако-ву. В свою очередь, капитан Рогов распорядился отпустить из Гурьева всех казахских заложников, а Василия Верчина отправить к отцу [11. Л. 133-134]. Таким образом, баранта, как способ разрешения локальных конфликтов в зоне Юго-восточного фронтира Российской империи, была заимствована у кочевых народов Евразийской степи. Инициатором ее применения в Оренбургском пограничье выступил правитель Младшего жуза хан Абулхаир. Ему, его сыну, Нурали-хану, и бригадиру А.И. Тевкелеву удалось убедить правительство в целесообразности применения этой меры для разрешения конфликтных ситуаций. Напрасными оказались опасения оренбургского губернатора И.И. Неплюева, что баранта приведет к озлоблению казахской знати, отказу казахов от поездок на меновую торговлю в Оренбург, блокированию ими караванных путей и, наконец, к их отказу содействовать в освобождении взятых в баранту родственников. Безусловно, с точки зрения международного гуманитарного права применение круговой поруки, лишение свободы и возложение ответственности на невинных людей за преступления, совершенные их родственниками, по самой своей сути является преступным. Однако в реалиях XVIII столетия этот способ пресечения локального конфликта ограничивал потенциал его дальнейшего роста, обеспечивал правовую базу для ведения переговоров и удовлетворения претензий конфликтующих сторон.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 36
Ключевые слова
баранта, губернатор, заложничество, конфликт, право, фронтирАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Джунджузов Степан Викторович | Оренбургский государственный педагогический университет | д-р ист. наук, профессор кафедры истории России | djund@yandex.ru |
Ссылки
Абдурахимова Н.А. Колониальная система власти в Туркестане : автореф. дис.. д-ра ист. наук. Ташкент, 1994. 46 с.
Абдилдабекова А.М. Россия и казахстан (XVII - начало XX века) : вопросы историографии : учеб. пособие. Алматы : Казак университету 2007. 136 с.
Отепова Г. Е. Правовые основы колонизации Казахстана : учеб. пособие. Павлодар : ПГПИ, 2012. 229 с.
Любичанковский С.В. Аккультурационная модель понимания империи как методологическая альтернатива колониальному подходу // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. URL: https://history.jes.su/s207987840006065-0-1/(дата обращения: 20.08.2020).
Lyubichankovskiy S., Dmitriev V.V. The Southern Periphery of the Russian Empire and a Problem of Colonialism (on materials of National Policy of Russia in Relation to the Crimean Tatars at the end of XVIII - the beginning of the 20th century) // Bylye Gody. 2017. Vol. 45, is. 3. P. 1010-1024.
Избасарова Г.Б., Любичанковский С.В. Приставства на окраинах Российской империи в XVIII - первой половине XIX в. : от администра тивного лица к системе управления // Российская история. 2018. № 2. С. 13-21.
Lyubichankovskiy S., Akanov K. Orenburg in the History of Integration of Kazakh Steppe in the Russian Imperia XVIII - beginning of XX century // Bylye Gody. 2018. Vol. 48, is. 2. P. 484-495.
Dzhundzhuzov S.V., Lyubichankovskiy S. The Influence of the Imperial Policy of Acculturation on the Formation and Evolution of the Power Elite among the Stavropol Christened Kalmyks (1737-1842) // Bylye Gody. 2018. Vol. 49, is. 3. P. 970-979.
Государственный архив Оренбургской области (далее - ГАОО). Ф. 3. Оп. 1. Д. 19.
ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32.
ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 33.
Избасарова Г.Б. Государственная деятельность А.И. Тевкелева по реализации юго-восточной политики Российской империи в XVIII в. // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 430. С. 68-76.
Государева М.Ю. К вопросу о дипломатической подготовке русско-турецкой войны 1735-1739 гг. // Человек, образ, слово в контексте исторического времени и пространства : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23-24 апреля 2015 г. Рязань : Концепция, 2015. С. 192-193.
Басин В.Я. Россия и казахские ханства в XVI-XVIII вв. Алма-Ата : «Наука» Казахской ССР, 1971. 273 с.
Казахско-русские отношения в XVII-XVIII веках : сб. док. и материалов. Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1961. 741 с.
ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14.
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). СПб. : Азбука-Атикус, 2016. 608 с.
Почекаев Р.Ю. Государственность и право среднеазиатских ханств в записках российских путешественников XVIII в. // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 414. С. 108-113.
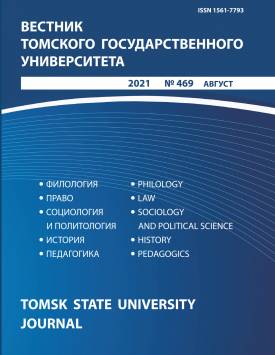
Баранта как способ разрешения локальных конфликтов в юго-восточном фронтире России в 40-50-х гг. XVIII в. | Вестник Томского государственного университета. 2021. № 469. DOI: 10.17223/15617793/469/14
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 505

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью