Рассматривается комплекс проблем и противоречий, накопленный за три десятилетия при развитии сотрудничества регионов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Проанализированы причины негативных результатов экономического взаимодействия , в частности низкая реализация инвестиционных проектов с участием китайского капитала в Сибири либо отсутствие реализации как таковой, при наличии большого соглашений и взаимной заинтересованности сторон в сотрудничестве.
Problems and Paradoxes of Cooperation Between the Regions of the Russian Federation and the People's Republic of Ch.pdf В 2014 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин провозгласил «поворот России на Восток» [1]. Особенности этого «поворота» лежали в геополитической плоскости, и были обусловлены не столько собственно решением руководства страны, сколько сложившейся международной обстановкой. Неудачи России и Китая в плодотворном налаживании отношений с Западом в первое десятилетие двадцатого века способствовали сближению стран, а также наращиванию двустороннего сотрудничества. Кроме непосредственно региональных приоритетов был обозначен и вектор развития, который определил основную специализацию и направления развития сотрудничества. Ведущая роль здесь принадлежала регионам России, находящимся в непосредственной близости к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). При этом, по мнению ряда специалистов-востоковедов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук, дальневосточные инициативы России и совместные проекты в ближайшей перспективе не стали локомотивами экономического роста [2]. Потенциал сближения двух стран выглядел сравнительно более масштабным, чем их фактический результат. Весной 2017 г. на российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», который в качестве одной из целей рассматривал российско-китайское сотрудничество, прозвучал неутешительный вывод о том, что «российский бизнес, по сути, слабо представляет нужды Китая» [3]. Следовательно, в настоящее время у него нет понимания, в каком направлении перспективно развивать сотрудничество с КНР, а также какие проблемы ожидают бизнес при выстраивании связей. При этом новости, звучавшие от большого количества российских СМИ (в том числе федеральных) в период с 2001 г., с определенной периодичностью сообщали о двусторонних проектах России и Китая, инициированных то в одном, то в другом регионе РФ, преимущественно в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах [4]. Так, ряд опросов, проведенных среди томских предпринимателей, имеющих опыт совместной работы с коммерческими кругами КНР, показал, что наибольшие трудности, которые они испытывали на начальных этапах работы - трудности информационного порядка: с чего начинать поиск партнеров в странах Азии, какие могут возникнуть сложности правового порядка и т.п. [5]. Подобный парадокс требует внимательного изучения со стороны российских государственных, деловых и научных кругов, а также со стороны властей всех уровней. От понимания причин подобного феномена двусторонних отношений России и Китая на региональном уровне зависит успешность реализации региональной политики РФ на азиатском направлении в целом и программ развития [6]. В качестве одного из примеров можно рассмотреть данные по Томской области, располагающей огромным количеством ресурсов, в которых так остро нуждается Китай (дерево, газ, нефть). Область, в числе прочих регионов Российской Федерации, имеет собственный опыт взаимоотношений с КНР. Однако, при ближайшем рассмотрении макроэкономических показателей и статистики можно обнаружить, что в экспорте продукции Томской области во втором десятилетии XXI в. лидировали США (37,2% от общего объема экспорта, по данным на 2016 г.), в то время как доля Китая составляет лишь 21,2% (для сравнения: Казахстана - 14,4%, Узбекистана - 7,6%, Японии -5,2%) [7]. Несмотря на большое количество международных соглашений, заключенных Томской областью, развитие получил всего один крупный проект - соглашение с провинцией Шаньдун, которое послужило основой реализации проекта создания комплексного лесопромышленного предприятия на территории города Асино Томской области [8]. У предпринимателей существовал устойчивый запрос на поиск партнеров и реализацию проектов при участии китайской стороны [5], для этого даже были созданы специализированные организации, оказывающие поддержку для регионального экспорта, такие как, например, Российский экспортный центр [9]. Материалы по данной проблематике характерны в основном для крупнейших научных и научноисследовательских центров, представляющих Центральную Россию (исследования ограничены структурными подразделениями РАН), либо для двух дальневосточных структур - Дальневосточного отделения РАН и ДВФУ. Отдельные материалы представлены в ходе различных научно-практических мероприятий (Сибирский экономический форум в г. Новосибирске, Красноярский экономический форум, Дальневосточный экономический форум, ежегодная конференция «Россия и Китай», материалы клуба «Валдай»), статьями и комментариями в российских периодических изданиях федерального уровня («Россия в глобальной политике», «Международная жизнь» и т.д.) [10]. Исследования, затрагивающие двусторонние отношения Китая с регионами Сибири и Дальнего Востока, проводились такими учёными, как В.Г. Дацы-шен, И.Ю. Зуенко, К.Н. Батанов, Д.В. Ганжуров, М.В. Александрова, Е.В. Савкович, А.Г. Данков, С.А. Иванов, И.В. Олейников и рядом других. Актуальные в аспекте данной темы исследования из КНР представлены за авторством Ли Цзинюй, Чжу Хэнсю, Лю Бо, Вен Сюе, Ли Синь, Ню Янпин, Чан Нуо, Ван Бинин, Ма Литянь и др. Все указанные материалы содержат в себе лишь небольшие сообщения и факты, характеризующие ту или иную сферу взаимодействия регионов Сибири и КНР, либо рассматривают в качестве объектов исследования приграничные контакты России и Китая. В иных случаях предметом исследования выступает уровень межгосударственного взаимодействия без учёта региональной специфики. Материалы же, представленные в китайской научной периодике, нередко вообще не отражают реального положения дел как в новой российской экономике в целом, так и ее региональной составляющей [11]. В большинстве они сосредоточивают внимание либо на сотрудничестве в сфере энергоресурсов [12], либо на перспективах более глубокой интеграции Китая и регионов Сибири и Дальнего Востока, с описанием выгоды для обеих сторон, не приводя при этом никаких научных обоснований для нее [13]. В иных случаях научное обоснование в исследованиях присутствует, однако выгодополучателем в них выступает исключительно китайская сторона, без учёта интересов сибирских и дальневосточных регионов [14]. В конечном итоге региональные исследования двустороннего сотрудничества Сибири и Китая датированы не позже чем 2014 г. [15], а большая часть из них проведены в первом десятилетии XXI в. То есть с момента радикальных перемен в российской внешней политике и «разворота на Восток» в Китае не проводилось ни одного крупного научного исследования, предметом которого выступили бы региональные отношения с Сибирью и Дальним Востоком. Проблемы реализации регионами Сибири собственных программ развития экономико-геогра-фического потенциала во взаимоотношениях с КНР не выступали в качестве центральной темы проводимых исследований. Количественные исследования, в частности оценки накопленных китайских инвестиций в регионах, направления и формы реализации сотрудничества в рамках текущей деятельности государственных органов, представлены только на уровне профильных департаментов областных администраций и совместных выездных мероприятий региональных чиновников в различных регионах Китая [16]. При этом научной оценки качества данных мероприятий, а также необходимой рефлексии так и не было проведено. В то же время при осуществлении реального взаимодействия с КНР у региональной власти отсутствовало понимание особенностей работы с представителями деловых кругов КНР, а у последних нет представления о специфике каждого отдельного региона РФ. Практическая подготовка непосредственно участников переговорного процесса была ограничена рядом семинаров для предпринимателей, проводимых на региональном уровне [17]. При этом очевидным является тот факт, что начиная с 2014 г. такие практики, кроме накопления и распространения необходимых знаний об экономике стран Востока, нуждались и нуждаются в постоянном обновлении [3]. Кроме того, организация доступа на внутренний региональный рынок для китайских контрагентов (в основном, мелкого и среднего бизнеса), которые могли бы стать потенциальными инвесторами в региональную экономику, со времени распада СССР сдерживалась отсутствием необходимых источников информации, причём носящих научный характер. Период, начавшийся в 2014 г., характеризовался существенным изменением ситуации в экономической, политической, культурной, научной сферах двусторонних отношений российских регионов с Китаем. Стимулирующим фактором данных изменений стали действия российских и китайских властей, которые, как уже говорилось ранее, предприняли ряд последовательных, однако совершенно различных с точки зрения мотивации шагов по сближению друг к другу. Правительство РФ за последние пять лет объявило о создании в Сибири и на Дальнем Востоке большого количества зон с особыми экономическими (в первую очередь - налоговыми) условиями для партнеров из КНР [18], запустило мегапроекты по поставке в Китай газа и нефти, пригласило подрядчиков из Китая для реализации проектов национального масштаба (прокладка промышленных кабелей по дну Черного моря к Крымскому полуострову [19], строительство скоростной железной дороги Москва-Казань и т.д. [20]). Китай же к 2019 г., фактически, стал выводить из РФ капитала больше, чем инвестировать - согласно данным Банка России за 2018 г. - китайский бизнес вывел из России более 900 млн долл., из которых 774 млн долл. -из капитала российских компаний [21]. Упор в укреплении сотрудничества был сделан на отдельные коммерческие контакты, которые представители центральной власти стремились наращивать, и, что самое главное, - контролировать. В России этот вектор развития, направленный на интенсификацию процесса сближения со странами Востока, был вынужденным в связи с событиями начала 2014 г., которые спровоцировали отток капитала западных стран и освобождение ниши, которая требовала заполнения. В Китае, в свою очередь, не могли не отреагировать на появившиеся в силу глобальных геополитических и экономических изменений возможности, и после того, как экономический кризис пошёл на спад, в разных частях страны, от Дальнего Востока до Калининградской области, стал заметен массовый приток делегаций, представляющих крупные китайские компании, у которых появился огромный интерес к вновь открывшемуся инвестиционному потенциалу России. Одновременно с этим, начиная с 2013 г., в Китае стартовала реализация стратегической глобальной программы-инициативы председателя Си Цзинпина «Один пояс - один путь», в которой России отводилась если не ключевая, то крайне важная роль [22], поэтому у китайских предпринимателей появился дополнительный стимул вкладывать свои инвестиции в российскую экономику, получая торгово-экономические преференции от обеих сторон. Предприниматели из Китая всегда обращали внимание на обеспечение собственных прав и преференций. Это касалось как торговли, с которой в 1990-е гг. начинались экономические отношения посткоммунистической России с переживавшей политику «реформ и открытости» Китайской Народной Республикой, так и инвестиционных проектов двадцать первого века. С российской стороны в обеспечении прав инвестора была заинтересована главным образом государственная власть, её же ключевая задача - создание благоприятного информационного сопровождения деятельности иностранной компании в любом российском регионе. Преференции китайские компании склонны были искать в таких областях, как налоговая нагрузка, иммиграционная политика государства, использование таможенной бюрократии, коррупции региональных и местных чиновников и т.д. Одновременно с пониманием отсутствия у восточных регионов РФ адекватной альтернативы китайским инвестициям, представители китайского бизнеса стали в мягкой форме настаивать на таких преференциях, а в отдельных случаях - требовать их [23]. Таким образом, появились беспрецедентные случаи появления в России ограниченных районов с особыми экономическими условиями и такими наименованиями, как «Особая экономическая зона», «Территория опережающего развития (далее - ТОР)» и им подобные. Фактор уступок, на которые шла Федеральная власть для бизнеса из КНР с целью привлечения его в регионы РФ, сыграл в государственной политике создания подобных территорий ключевую роль. Лучше всего этот тезис подтверждается географией ТОР -подавляющее их большинство расположены в Сибирском и Дальневосточном регионах [4]. Более того, многие из них создавались без участия компаний-резидентов, а некоторые - непосредственно для одной-двух конкретных зарубежных (китайских) компаний, которые ранее уже вели переговоры с представителями власти региона расположения ТОР по реализацию крупного инвестиционного проекта [24]. Первостепенными целями участия российской стороны в любом подобном инвестиционном проекте были: 1) развитие территорий либо объектов, которые эти инвестиции требуют; 2) создание новых рабочих мест; 3) развитие региона и бизнеса в нём; 4) освоение качественных, целевых вложений в экономику региона и страны [25]. Президент России В.В. Путин на различных экономических форумах, политических площадках, саммитах с участием представителей бизнеса Китайской Народной Республики неоднократно лично призывал последних делать вложения в РФ, обещая и налоговые преференции, и таможенные льготы, и прибыль, во много раз превышающую вложения инвестора [26]. Это говорит о том, что на фоне общего инвестиционного климата России после 2014 г., любой крупный инвестор, планирующий вложения в российскую экономику, оценивался очень высоко, часто для него делались определённые уступки, в некоторых случаях -существенные, нарушающие федеральное или местное законодательство. В комплексе это создавало впечатление гораздо большей заинтересованности России в инвесторах из Китая, чем наоборот. Здесь же необходимо еще раз отметить уже упоминавшийся тезис, касающийся отсутствия в начале 10-х гг. XXI в. региональной системы поиска зарубежных партнеров в странах Азии и оценки их кредитоспособности [27]. В совокупности указанные два фактора привели к ситуации, в которой деятельность компаний из КНР в России характеризовалась не иначе как экспансия коммерческих интересов китайской стороны в регионы Сибири и Дальнего Востока, форсированная за счёт негативной для РФ внешнеполитической конъюнктуры и реализуемая без учёта интересов российских партнёров. С целью изучения общих закономерностей недобросовестного исполнения представителями китайской стороны своих коммерческих обязательств в рамках инвестиционных проектов с РФ, реализуемых после 2014 г., было проведено данное историко-экономическое исследование. Другой целью исследования стало выявление алгоритма работы представителей коммерческих кругов КНР в регионах РФ, которая идет вразрез с получением обеими сторонами взаимной выгоды, и решает исключительно внутрикитай-ские (в иных случаях - незаконные) задачи. В качестве основы для проведения данного исследования был выбран междисциплинарный подход. Более узким методом послужил разработанный на уровне МГИМО (у) МИД РФ кросс-региональный анализ (автор - А.Д. Воскресенский). Он позволяет рассмотреть основные факторы, способствовавшие и препятствующие развитию сотрудничества на разных временных отрезках, деятельность основных формальных, а также неформальных институтов, которые в случае азиатских стран имеют определяющее значение, позволяет сделать региональный срез. Исследование проводилось на примере инвестиционных проектов, реализуемых в Челябинской, Кемеровской и Томской областях. Реализация всех изучаемых проектов замыкалась на компаниях совместного капитала, созданных представителями китайской стороны в России. Проекты в Челябинской и Кемеровской областях за два года не получили даже базового старта. Всё завершалось на уровне документооборота: соглашений с региональными властями, контрактов с муниципальными чиновниками. Причём в одном случае (Кемеровская область) вариантом сотрудничества являлось вхождение китайского инвестора в Территорию опережающего социальноэкономического развития, специально созданную на уровне федерального правительства под проект китайской стороны - создание крупного логистического центра в г. Юрга с последующим включением его в проект «Один пояс - один путь» [24]. Существуют и такие примеры, когда проект всё же получил старт и полноценное развитие, однако утратил рентабельность в течение нескольких лет. Подобные примеры можно найти и в работах китайских исследователей, однако в них отсутствует глубокий анализ причин подобного исхода перспективного проекта, как и научная оценка деятельности других предприятий с китайским капиталом в сибирском регионе на предмет потенциального повторения данных прецедентов. При этом в качестве основного вывода приводится тезис о позитивных тенденциях развития российско-китайского регионального сотрудничества в Сибири и на Дальнем Востоке, а также о незначительности последствий подобных негативных кейсов в масштабе этого сотрудничества [28]. Актуальность данной проблемы заключается в том, что в настоящее время, как уже было сказано выше, большое значение приобретает выход китайского капитала на рынок российских инвестиционных проектов, и от того, насколько качественно полезным будет этот выход, зависит будущее социально-экономическое развитие как отдельных регионов России, так и всей страны в целом. В случае прихода в проект ответственных, и, главное - честных предпринимателей, проект форсировано, не без участия местных и федеральных властей, но получает мощный толчок в развитии. В качестве примеров можно привести корпорацию Angel East, которая успешно реализовала проект биотехнологического предприятия в Липецкой области, компанию Great Wall, запустившую в 2019 г. завод в Тульской области, Шанхайскую индустриальноинвестиционную группу, получившей в долгосрочную аренду 205 га земли в г. Санкт-Петербурге и построившей на них свыше 1 млн м2 жилой недвижимости [29]. В иных случаях, лица, пришедшие в проект, являются либо не конечными инвесторами (выгодополучателями или стейкхолдерами), а лишь представителями промежуточной инстанции-посредника, которая сама не располагает достаточным количеством финансовых средств, необходимых для долгосрочных капиталовложений, либо представители КНР, добившиеся участия в проекте, вовсе не являются предпринимателями и не нацелены на развитие проекта. Стоит отметить, что вопрос налоговой нагрузки на инвестиционные проекты крайне важен для инвесторов из Китайской Народной Республики и поднимался одним из первых на переговорах [23]. При этом китайская сторона предъявляла если не ультимативные запросы, то как минимум требования по снижению налоговых квот на различные стороны реализации проекта [23]. Поскольку, по законодательству, никакими иными способами кроме как создания какого-либо вида особой экономической зоны на территории проекта удовлетворить их требования было невозможно, местным властям приходилось идти на уступки, чтобы не потерять потенциального инвестора, в то же время действовать в рамках закона. Создание ТОР было возможно только при наличии соглашения инвестора с первым лицом субъекта РФ, исследования рынка, технико-экономического обоснования проекта, а также подробного бизнес-плана. Китайская сторона такого рода информацию часто не предоставляла, а проектная работа не проводилась. При этом ТОР в г. Юрга Кемеровской области не просто была создана в короткий срок, но и с формулировкой основной цели - «привлечение иностранных инвесторов, для создания в городе одного из логистических центров Сибири» [24]. По итогам оценки деятельности предприятий, созданных китайской стороной в регионах Западной и Восточной Сибири, практических результатов, способствующих развитию экономики и инфраструктуры населённых пунктов и регионов, не обнаружено. Этот факт подтверждается даже отдельными китайскими исследователями, несмотря на общую тенденцию игнорирования ими всех резко негативных сторон сотрудничества Китая с сибирскими регионами [30]. Несмотря на данный факт, уход китайских компаний из регионов по причине провала проектов также не был отмечен. Например, 22 января 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подписал соглашение с ООО «Объединённая деревоперерабатывающая торгово-промышленная компания» соглашение о создании на 50 га ТОР (г. Юрга) фабрики по производству мебели евростандарта [31]. В данном случае китайская компания могла рассчитывать на налоговые льготы, поскольку проект реализуется в ТОР, однако для региона означает только одно -крупный логистический проект, с которым изначально пришла в регион эта компания и под который создавалась зона с особыми экономическими условиями, реализован не будет. В Томской области проект лесопромышленного комплекса города Асино, о котором уже шла речь, стартовал в 2011 г. и развивался вплоть до 2016 г., когда первый инвестор продал компанию, курирующую данный проект. Результат - сокращение объемов заготовок, практически 90-процентная остановка предприятия и крайне неприятные переговоры с первыми лицами областной администрацией, которые к 2019 г. ничего не изменили [32]. Суммируя все вышеуказанные факты, можно сделать два вывода: 1) компании, которые являлись инициаторами проектов, не преследовали целью фактическую их реализацию; 2) если целью не ставилась реализация проектов и при этом компании не уходили из регионов, создавая видимость деятельности, продолжительное пребывание компаний в регионах, владение ими финансовыми активами и объектами в этих регионах уже само по себе можно охарактеризовать как цель, поскольку других реальных целей у китайских компаний определить не удалось. Помимо этого, ещё раз необходимо отметить тот факт, что при сложившейся ситуации местные муниципалитеты в лице руководителей населённых пунктов и даже губернаторов крайне инертно реагировали и не предпринимали никаких практичных шагов по стимулированию китайских компаний и соглашались на описанный выше статус-кво. В чем может заключаться практическая выгода подобной противоречивой деятельности? Ни для кого не секрет, что с приходом в Китае к власти Си Цзин-пина началась новая волна борьбы с коррупцией на всех уровнях, что является условием экономического развития страны [33]. Чиновники и предприниматели вынуждены были отчитываться перед бесчисленными вновь созданными антикоррупционными комитетами в буквальном смысле за каждый юань, находящийся в обороте. Однако из истории Китая известно, что коррупционная система в Китае складывалась не одну тысячу лет, превратившись из экономического явления в своеобразный культурный пласт, и чем строже становится борьба с ней, тем более хитроумными и смелыми - способы избежать наказания. После экономического кризиса 2014-2015 гг. и разворота России «на Восток» в сфере экономики и инвестиций, Россия автоматически стала площадкой для испытания этих новых способов для недобросовестных предпринимателей из КНР. Этому способствовал ряд факторов, создаваемых и поддерживаемых, прежде всего, российской стороной: 1. Открытая востребованность российской стороны, особенно в регионах, в инвестициях из Китая как следствие отсутствия других источников одинаковых по размерам финансовых вложений в регион. Данный запрос позволил китайской стороне выдвигать на переговорах неравные условия, после чего, часто - в ультимативной форме, требовать их удовлетворения. Причём в иных случаях данные требования прямо нарушали российское законодательство. Региональной власти, в свою очередь, приходилось идти на уступки, отказываясь от положения равноправного партнера. 2. Безальтернативность проектов китайской стороны. Этот фактор напрямую вытекал из сложившейся внешнеполитической конъюнктуры, основанной на плане «разворота на Восток», а также из предыдущего фактора. 3. Прямые указания представителей федеральной власти муниципальным чиновникам о привлечении в регион иностранных инвестиций для его развития и контроль за исполнением этих указаний. Очевидным является предположение, что наиболее простым решением для регионов Сибири и Дальнего Востока станут инвесторы именно из КНР, с которыми в указанных регионах осуществляется огромное количество как официальных, так и межличностных контактов. 4. К косвенному, но не менее важному фактору следует отнести фактическую неграмотность региональных чиновников в вопросах взаимоотношения с китайской стороной. В большинстве случаев глава муниципального образования или муниципальной организации, ведущий переговоры с российской стороной, не обладал достаточными знаниями о культуре, менталитете и коммерческих традициях противоположной стороны. Принимая во внимание предыдущие три фактора, это позволяло китайской стороне форсировать переговоры и, как уже было сказано ранее, лоббировать свои условия. В ситуации, когда описанные факторы рассматриваются в совокупности, мы констатируем увеличение количества так называемых мёртвых проектов, с которыми связан китайский капитал. Для представителей КНР данные проекты и объекты под них - крайне эффективный способ придания собственным денежным средствам, приобретенным во многих случаях преступным путём, законного происхождения для многочисленных проверок по линии противостояния коррупции в Китае. А та лёгкость, с которой им удалось реализовать схемы приобретения этих объектов и земель без обязательной реализации, собственно, проекта, заставляло их всё чаще и чаще обращать внимание на регионы Сибири. Основная причина этой лёгкости - отсутствие у российской стороны адекватной оценки проекту и компании, которая с ним приходила. Из описанных в статье проектов можно заметить, что муниципальными властями принимались такие ключевые решения, как, например, подписание с китайской стороной контрактов, соглашений и меморандумов (иногда в обход установленных норм) в ситуациях, когда китайская сторона даже не предоставляет общего бизнес-плана, не говоря уже о других необходимых документах. Подобное стимулирование неправомерной деятельности приводило к соблазну избегать всех установленных законами уже Российской Федерации порядков в будущем. При этом подобные алгоритмы работы не являются единичными случаями. К настоящему моменту они сложились в замкнутую систему взаимоотношений между представителями китайского бизнеса, российского бизнеса и муниципальных властей. На примере описанных проектов можно кратко описать основные этапы реализации данного алгоритма с российской и китайской стороны: 1) на начальном этапе в регион прибывали представители китайской стороны, как правило, на основании хороших межличностных отношений с лицом, представляющим либо крупный бизнес региона, либо его муниципальную власть, с целью осуществления в регионе перспективного инвестиционного проекта; 2) в переговорном процессе представители КНР сразу захватывали инициативу и лоббировали свои условия, которые, как правило, были связаны с налоговыми преференциями, особыми правами на имущество, землю и т.д.; 3) местные средства массовой информации распространяли среди местного населения информацию о проекте, что сопровождалось появлением цепочек, иногда противоречащих друг другу слухов, тем не менее, способствующих укреплению положения китайской стороны среди населения региона, за счет ожиданий появления большого количества рабочих мест в крупном проекте; 4) укрепленная вышеуказанным фактором положительная репутация китайской стороны способствовала развитию ситуации, при которой местное население (а также заинтересованные компании) оказывали определенное давление на местные власти, требуя скорейшей реализации проекта, и под этим давлением региональные чиновники удовлетворяли все требования китайской стороны, заключая все запрашиваемые ею соглашения и контракты на ее условиях; 5) в конечном итоге информационное поле вокруг проекта внезапно сходило на нет, активность китайской стороны падала, а в иных случаях ее представители и вовсе покидали регион, представители правоохранительных органов и органов безопасности не предпринимали никаких действий, представители органов исполнительной власти региона не делали никаких заявлений, и ситуация, в целом, так и оставалась неразрешенной на неопределённый промежуток времени. Говоря о практически направленных итогах исследования, необходимо в первую очередь отметить, что для местных властей тех регионов, в которых планировалось или планируется осуществление инвестиционных проектов с привлечением китайского капитала, очень важно учитывать исторический опыт регионов Сибири. Необходимо на ранних этапах выявлять подобную схему работы и прикладывать усилия, чтобы избежать её и не повторить ошибок совсем недавней истории. Для этого необходимо, опять же, на начальных этапах переговоров делать следующие практические шаги: 1) оговаривать для китайской стороны основной принцип совместной работы: все этапы будущего проекта должны осуществляться в строгом соответствии с законодательными и правовыми нормами Российской Федерации, любое отступление от них недопустимо. Как правило, добросовестные предприниматели в большинстве случаев соглашаются на такой ход работы; 2) требовать от китайской стороны все необходимые документы по реализуемому проекту (таких как технико-экономическое обоснование проекта, расширенное исследование рынка, развёрнутый бизнес-план и т . д .) до подписания с ней каких- либо соглашений и контрактов; 3) не затягивать переговоры. Если китайской стороне важен практический результат, а не контракты как таковые, она будет предоставлять все требуемые материалы, максимально стараясь уложиться в указанный российской стороной срок. В данном случае не нужно препятствовать развитию переговорного процесса бюрократическими проволочками; 4) тщательно изучать бэкграунд компании, реализующей проект, и лица, ведущего переговоры в частности, обращая особенное внимание на то, какие проекты и в каких регионах России и Китая компания реально довела до логического завершения. 5) после подписания соглашений и контрактов необходимо создавать совместную рабочую группу для контроля за исполнением в срок всех намеченных работ по проекту. В случае невыполнения или задержки каких-либо работ проводить двусторонние встречи, а при необходимости - расследование причин данных фактов; 6) на начальном этапе переговоров избегать освещение будущего проекта в средствах массовой информации для контроля за информационным фоном в регионе, касающимся проекта. Любые слухи сыграют на руку китайской стороне и дадут им дополнительное преимущество на переговорах; 7) необходимо прилагать все усилия для того, чтобы избежать ситуации, когда кто-либо из заинтересованных лиц с российской стороны вступает в личные взаимовыгодные отношения с представителями китайской стороны, поскольку последние могут использовать данный факт как средство давления в переговорном процессе; 8) в процессе переговоров необходимо создавать у китайской стороны ощущение конкурентной борьбы с некоей стороной, которая также заинтересована в данном проекте, чтобы у китайской стороны был стимул предлагать наиболее выгодные для российской стороны условия, а не наоборот. Это сразу исключит опасность, что в переговорах участвует недобросовестный предприниматель, который, как правило, узнав о конкуренте, сразу выйдет из игры; 9) в процессе переговоров необходимо привлекать в качестве консультантов и переводчиков, квалифицированных специалистов-регионоведов с опытом работы в подобных проектах, поскольку правильное понимание партнёров с точки зрения моральных и культурных ценностей, их интенций, выраженных во время переговоров, а также адекватные формы ответов на их запросы крайне важны. Феномен, обнаруженный в ходе исследования инвестиционной деятельности КНР в регионах Сибири за последние два десятилетия, не имеет аналогов в истории российско-китайских отношений, в которых региональное партнерство и региональная торговля всегда выступали краеугольным камнем, укрепляющим двусторонние связи уже на государственном уровне. При этом и партнерство, и торговля были гораздо важнее именно для Китая в разных формах его государственности, поскольку и экономика, и промышленность до конца ХХ в. всегда были отраслями догоняющими по сравнению с российскими аналогами. Однако за одно десятилетие ситуация, складывающаяся сотни лет, кардинально изменилась - российская экономика и промышленность находились в глубоком кризисе, в то время как китайские отрасли совершали исторический рывок. В 2014 г., после начала санкционной политики США и Европы по отношению к России, завершилось формирование экономической зависимости России от инвестиций из Китая. Регионам Сибири в подобной ситуации, несмотря на весь негатив, было что предложить соседнему государству, а именно огромное количество природных и человеческих ресурсов как гигантскую площадку для инвестиционной деятельности. Для многих субъектов РФ объективно не было другой возможности привлечь настолько огромные финансовые вливания в свою инфраструктуру, кроме как через реализацию совместных проектов. В то же время для КНР это была уникальная историческая возможность на самых выгодных условиях вывести избытки капитала из страны, обеспечив их колоссального масштаба производством на территории России. Цена на продукты этого производства, а также на сырье, полученное в ходе реализации совместных проектов, была бы конкурентноспособной уже на китайском рынке, исходя из низкой себестоимости данных товаров, обеспеченной выгодными условиями их производства и добычи. Китайские политики и учёные не могли не увидеть эту историческую возможность, поэтому китайские сибирские исследования периода 1990-2010-х гг. имеют одну схожую отличительную черту, а именно игнорирование негативных сторон и кейсов сотрудничества Китая с регионами Сибири и Дальнего Востока, которые, как видно из данного исследования, заметно превалировали над положительными. Причина подобного подхода проста - все описанные негативные стороны касались исключительно российской стороны при одновременном выгодополучении китайской стороной. Поэтому китайские исследования этого периода оканчиваются схожими выводами о необходимости более тесной интеграции Китая с регионами Сибири и Дальнего Востока [34]. Такая интеграция стала возможной в период после 2014 г., с началом так называемого «Поворота на Восток». В этот новый период большинство крупных предпринимателей из Китая пришли в регионы Сибири, чтобы воспользоваться сложившейся ситуацией не для решения инвестиционных задач, но для реализации деятельности, которая не представляется возможной в их собственном государстве, поскольку не укладывается в рамки, определённые законодательством. Это противоречие превратило Сибирь для КНР из масштабной инвестиционной площадки в масштабную площадку внешней теневой политики. Основная причина подобного феномена лежит в отсутствии полноценного контроля со стороны государственной власти за деятельностью китайских компаний в регионах Сибири, причем как со стороны Федерального правительства РФ, так и со стороны Государственного Совета КНР. Проекты, находившиеся под контролем этих институтов власти (т. е. реализующиеся на государственном уровне), доводились до необходимого результата в указанные сроки. Однако на региональном уровне возможность реализации новейшего исторического потенциала двусторонних отношений по-прежнему утрачивается.
Поворот на Восток // РИА Новости. 21.05.2014. URL: https://ria.ru/20140521/1008730350.html (дата обращения: 09.02.2020).
Поворот России на Восток - иллюзия геополитического выбора. Авторская колонка Леонида Козлова // Новости Владивостока и Примо рья. URL: https://primamedia.ru/news/500879/?from=8 (дата обращения: 10.10.2019).
Российско-китайская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай перед вызовами глобальных из менений». URL: https://ru.valdaiclub.com/events/own/rossiyskokitayskaya-konferentsiya-valday/(дата обращения: 24.11.2019).
Проекты, которые китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке, оцениваются в $30 млрд // Финмаркет. URL: http://www.finmarket.ru/news/4729788 (дата обращения: 07.06.2019).
Опросы. Администрация Томской области. URL: https://tomsk.gov.ru/questionnaires/front?type=2 (дата обращения: 07.06.2019).
Зуенко И.Ю., Иванов С.А., Лун Чанхай, Ма Юцзюнь, Олейников И.В., Цинь Дун. Программа сотрудничества восточных регионов России и Северо-Восточного Китая 2009-2018: итоги и дальнейшие перспективы // У карты Тихого океана. 2018. № 3. С. 1-26.
Отчет // Администрация Томской области. URL: https://tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/87 (дата обращения: 09.08.2019).
Лесопромышленный кластер // ИНО Томск. URL: https://ino-tomsk.ru/ru/peredovoe-proizvodstvo/lesopromyshlennyy-klaster (дата обраще ния: 27.02.2019).
О Российском экспортном центре. URL: https://www.exportcenter.ru/company/(дата обращения: 30.10.2019).
Российско-китайская конференция «Россия и Китай: современные вызовы развития» // Валдай. URL: https://ru.valdaiclub.com/ events/own/rossiysko-kitayskaya-konferentsiya/(дата обращения: 05.02.2020)ю
Dong Lisheng. China's Drive to Revitalise the Northeast. URL: http://chinaperspectives.revues.org/462 (дата обращения: 15.03.2017) (In Chin.)
Li Jinyu, Zhu Hengxu.Russian-Chinese projects of Siberian and Far Eastern energy resources development // Dalian Technology University Periodical. 2000. № 4. P. 43-49 (In Chin.).
Chen Nuo, Wang Binyin. The state and prospects of economic cooperation between the northeastern regions of China and the Siberian and Far Eastern regions of Russia // Markets of Russia, Eastern Europe and Central Asia. 2011. № 11. P. 40-45 (In Chin.)
Li Xin. Favorable opportunities for China in Siberia and Far East development // Siberian research. 2013. № 3. P. 32-36 (In Chin.).
Ma Litian. Issues and contradictions of energy cooperation between Chinese northeastern regions and Siberian regions // Economic and Culture. 2014. № 12. P. 33-35 (In Chin.).
Делегация Томской области работает в Китае. URL: https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/98192 (дата обращения: 09.02.2020).
Малый и средний бизнес г. Томска. Семинары и тренинги. URL: http://mb.admin.tomsk.ru/seminars (дата обращения: 23.09.2019).
Россия, Китай и «баланс зависимости» в Большой Евразии. URL: https://globalaffairs.ru/articles/rossiya-kitaj-i-balans-zavisimosti-v-bolshoj-evrazii/(дата обращения: 12.03.2020).
Мост к энергетической независимости. В мае крымский энергомост заработал на полную мощность // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3093842 (дата обращения: 28.08.2019).
Китай нашел деньги на ВСМ «Москва - Казань». Инвестиции в проект составят 300 млрд рублей // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3093842 (дата обращения: 28.08.2019).
Банк России. Годовой отчёт за 2018 год. URL: http://www.cbr.ru/collection/collection/file/19699/ar_2018.pdf (дата обращения: 30.08.2019).
Си Цзиньпин: «Один пояс и один путь» откроет новые горизонты мечты. URL: http://politics.people.com.cn/n/2014/0811/c1001-25439028.html (дата обращения: 10.10.2019).
Протоколы переговоров между администрацией Кемеровской области и главой ООО «Объединённая деревоперерабатывающая торговопромышленная компания». Чжу Сяосинем. Кемерово, 2015-2016.
Юрга получит статус территории опережающего социально-экономического развития // Кемеровская область (1 октября 2015 г.). URL: http://kemoblast.ru/news/e-konomika/2015/10/01/yurga-poluchit-status-territorii-operezhayushhego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya (дата обращения: 27.02.2019).
Что нужно знать об условиях ТОР и СПВ на Дальнем Востоке // РБК. URL: https://pro.rbc.ru/demo/5cffaabd9a7947f38461e657 (дата обращения: 03.11.2019).
Выступление президента России В.В. Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 19.10.2017, г. Сочи // Президент России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/55882 (дата обращения: 09.02.2020).
Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Зарубежные и отечественные подходы к оценке кредитоспособности заемщика // Финансы и кредит. 2002. № 10. С. 3-5.
Niu Yangping. General analysis of trade cooperation between Chinese provinces and the Siberian Federal District // Siberian research. 2006. № 6. P. 12-15 (In Chin.).
Топ-11 китайских инвестиций в Россию. URL: https://raspp.ru/business_news/top-11-kitayskikh-investitsiy-v-rossiyu/(дата обращения: 19.11.2019).
Wen Xue. Paradoxes of Siberia and the Far East development trends and their impact on bilateral Russian-Chinese relations // Beijing university.International Relations Institute Periodical. 2008. № 6. P. 16-21 (In Chin.).
Двустороннее соглашение между Администрацией Кемеровской области и ООО «Объединенная деревообрабатывающая торговопромышленная компания». 12.12.2016. Кемерово.
Китайского лесозаготовителя обязали восстановить лес в Томской области. URL: https://proderevo.net/news/corp/kitajskogo-lesozagotovitelya-obyazali-vosstanovit-les-v-tomskoj-oblasti.html (дата обращения: 08.12.2019).
Китай развернул антикоррупционную кампанию, одну из самых масштабных в мировой истории. URL: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/129419/kitai-razvernul-antikorruptsionnuiu-kampaniiu-odnu-iz-samykh-masshtabnykh-v-mirovoi-istorii (дата обращения: 24.11.2019).
Liu Bo. Siberian Research and Siberian Studies Center results review // Siberian Research and Siberian Studies Center Periodical. 1998. № 3. P. 51-55 (In Chin.).
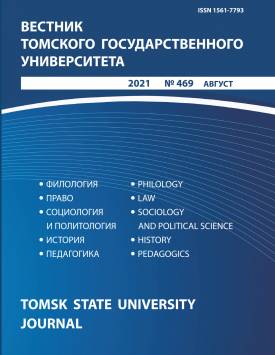

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью