Рассматриваются образы красных сестер, являвшихся и медицинскими работниками, и солдатами, формируемые партийной пропагандой (А. Коллонтай, И. Арманд) и адаптированные в мемуарах участниц Гражданской войны. Констатируется, что в феномене «красной сестры» не закладывалась дихотомия женское/мужское, в нем происходило расширение фемининной идентичности, когда к традиционным женским добродетелям (утешение, забота, вдохновение) добавлялась мужская доблесть и воинственность.
Red Nurses in the Russian Civil War: Ideology and Self-Presentation.pdf Красные сестры - уникальное явление, возникшее во время Гражданской войны в России и прекратившее существовать с наступлением мирной жизни. Впервые женщины массово участвовали в войне и в качестве медицинских работников, и в роли бойцов. Неизученными остаются как сущность феномена, так и восприятие образа красной сестры в культуре. В данной статье мы попытаемся выявить специфику данного феномена, формируемого партийной пропагандой, и в первом приближении проследить его рецепцию в мемуарах красных сестер. Крупнейшее изменение гендерного порядка в начале XX в. было вызвано Первой мировой войной. Произошла дестабилизация традиционных моделей маскулинности и фемининности, нарушилась норма, при которой мужчинам отводилась господствующая, активная роль, а женщинам - пассивная, подчиненная [1. С. 386]. В связи с тотальностью войны и массовостью призыва мужчин женщины заменили их на профессиональном поприще в тылу, а также стали проникать на фронт, и не только в качестве обслуживающего и ухаживающего персонала, но и в качестве воинов. Но если в Первую мировую войну норма была разрушена, то во время последовавшей за ней Гражданской войны произошло дальнейшее ее переосмысление, и изменения затронули еще большее количество женщин. Красные сестры: сущность феномена. Кратко остановимся на истории появления красных сестер в России, изучим наполнение термина и ответим на вопрос, как конструировалась фемининность данного феномена. Явление «красные сестры» возникает в 1917 г.: еще во время Февральской революции начинает действовать первая пролетарская санитарная помощь. А в течение 1917 г., когда на фабриках и заводах начинают создаваться отряды Красной гвардии, возникают санитарные женские отряды. Началась запись рабочих и работниц для подготовки их к оказанию первой помощи, которая проходила на краткосрочных курсах в красногвардейских отрядах. Все это было достаточно спонтанно, и уже первые «красные сестры» участвовали в обороне Петрограда и в боях в Москве. Красные сестры набирались из работниц и крестьянок. Это были малограмотные, ничего не сведущие в медицине женщины. Обучение некоторых из них в начале Гражданской войны бывало настолько кратковременным, что сводилось к однократному показу профессиональной сестрой, как делать перевязки. И новоявленные сестры сразу пускались в работу: «Я была “красной сестрой”, и у меня не было подготовки, потому что, когда нас мобилизовали, то в скором времени прямо направили на Южный фронт» [2. Л. 2]. Организованный призыв женщин в армию начинается в 1918 г. Советской власти были нужны лояльные ей медики, стать ими были призваны работницы. Тогда был создан новый план обучения и программы школ сестер милосердия, и на некоторое время сохранялось название «сестра милосердия» [3. С. 34]. Во время Гражданской войны большее распространение получило наименование «красные сестры», что отсылало к религиозно-христианскому происхождению понятия. Об этом свидетельствует и появляющееся в некоторых источниках упоминание «красные братья и сестры». Только в 1920 г. появился циркуляр народного комиссариата здравоохранения РСФСР № 1026, исключивший слово «милосердие» из названия профессии. Позже закрепилось название «медицинская сестра», хотя предлагались и другие варианты (зам-врач, помврач и др.) [4. С. 93]. Важной составляющей обучения красных сестер была политическая грамота. В программе курсов объяснялись причины Гражданской войны и ее отличие от войны империалистической. Следующим пунктом было разъяснение политики советской власти, особенно в отношении женщин: работниц и крестьянок. Рассказывалось о революционном движении работниц, о роли коммунистической партии. Также говорилось непосредственно о работе красной сестры [5]. Но такая подготовка была у сестер спустя два года после начала Гражданской войны, в самом начале войны они не успевали обучиться всему перечисленному. Прежде профессионального обучения сестринскому делу шла агитация по привлечению их в ряды Красной армии. Именно в пропагандистских высказываниях формировался новый образ «красной сестры», который получил распространение на фронтах Гражданской войны. Нужно отметить, что изменение восприятия сестер милосердия происходит не одномоментно. Если в начале Первой мировой войны они были символом патриотического и христианского долга, то уже к концу войны образ становится более грубым и реалистичным, что предвосхищало репрезентацию участниц Гражданской войны [6. С. 116]. Вместе с тем расширение функций сестер - не только лечить, но и воевать - происходит именно в большевистских требованиях. Сущность феномена формировалась в высказываниях партийных активисток. Больше всех внимания организации красных сестер уделила А.М. Коллонтай. В своей работе «Работницы, крестьянки и Красный фронт» она писала: «Красный фронт нуждается в пролетарских сестрах милосердия, в сознательных и преданных делу рабочего класса санитарках» [7. С. 21]. Риторика создания образа красных сестер основана на противопоставлении их сестрам империалистической войны. В первую очередь важна была классовая разница. Сестры предыдущей войны были выходцами из буржуазного класса. Они шли на войну, так как та была в интересах их класса: «Во главе общин сестер чаще всего стояли княгини, графини, всякие титулованные особы. И дух у сестер был определенный: за царя, за буржуазное отечество» [7. С. 21]. Сестры и солдаты принадлежали к разным классам: «У солдат с этими сестрами нет общего языка, нет дружбы, доверия, понимания» [7. С. 22]. Сестры приравнивались к офицерам, и были выше солдат по званию. По утверждению Коллонтай, сестра нового типа должна быть того же класса, что и солдат, а это в ситуации Гражданской войны означало принадлежность к той же воюющей стороне. Общность социального происхождения определяла наличие общих задач и возможность взаимопонимания. К выполнению непосредственных обязанностей медицинского работника присоединялась еще функция интеллектуального и духовного обслуживания: «Сестра не только санитарка, она невольно является и агитатором. Раненому нужно поддерживать его дух и направлять его мысли, чтобы он забывал о своих страданиях и помнил о великом деле. Надо, чтобы «красная сестра» умела показать умирающему брату-солдату, что он - народный герой, погибающий за великое дело освобождения своего класса» [7. С. 22]. Тратя свою энергию на духовный подъем бойца, сестра идейно сближалась с солдатом и становилась его соратницей в борьбе за освобождение рабочего класса. Схожим образом высказывался один из организаторов системы здравоохранения в СССР Н.А. Семашко. Он, не имея в виду исключительно женщин, пояснял, что только рабочие и крестьяне могут быть ухаживающим персоналом: «Ибо они знают, что здесь, в палате на койке, лежит не «несчастный солдатик», о котором нужно «пещись для спасения души», а такой же крестьянин и рабочий, плоть от плоти, кость от костей их, их действительный брат по духу и телу» [8. С. 28]. Духовное родство внутри класса он мыслил совершенно мистическим образом - через телесное, формулируя его языком библейского текста. Еще одно отталкивание от типа сестер прежней войны у Коллонтай происходит в плоскости пола. По ее мнению, которое не совсем подтверждают факты, для сестер милосердия Первой мировой войны половая идентичность была важной. Многие из них отправлялись на фронт найти жениха или заводили там близкие отношения, что способствовало распространению венерических заболеваний [7. С. 22]. Таким образом, сестры милосердия Первой мировой войны в речах Коллонтай становятся пропагандистским символом, олицетворяющим непристойное поведение на фронте. Характерно, что такое же противопоставление типично и для другой воюющей стороны: в представлении бойцов германских добровольческих корпусов медсестры большевиков были профессиональными проститутками [6. С. 122]. То есть Коллонтай в данном случае оперирует не действительными фактами, а формирует символическое поле, в котором сестры милосердия олицетворяют порочность и высокомерие, а красные сестры становятся прекрасными борцами за лучшую жизнь. Представление о сестринстве времен империалистической войны как об одной из возможностей реализации женственности в ее традиционном понимании станет характерным для советского времени: «Считалось особым родом франтовства быть сестрой милосердия. Удачная, хоть и временная карьера! Как же? Красивая форма, всеобщее внимание, возможность флиртовать в госпиталях с офицерами.» [9. С. 52-53]. Первоочередной задачей Коллонтай видела агитацию среди сестер, чем она и занималась. Создаваемая ею образность, безусловно, эффективно влияла на женщин. Они были вдохновлены ее выступлениями, в которых им внушалась очень высокая миссия, и под их влиянием шли в санитарки. Так, сестра Т.В. Малыгина вспоминала, что после выступления Коллонтай на Центральной телефонной станции в 1918 г. и призывов ее оказывать активную помощь Красному фронту 20 телефонисток тут же записались в красные сестры [9. С. 26-27]. Для новых сестер, по мнению Коллонтай, принципиальной становится внегендерность. Сближение полов, по ее утверждению, нехарактерны для фронта. Она исключает возможность половых отношений между сестрами и солдатами, объясняя это тем, что перед лицом смерти все другие человеческие чувства теряют значение, а невзгоды роднят бойцов вне зависимости от пола. Еще одним аргументом в пользу преодоления признаков пола, стирания границ между мужчинами и женщинами было нахождение их в армии на равном положении. Здесь она снова обращается к понятию класса, утверждая, что буржуазия боится уравнения женщины и мужчины в правах (поэтому при Керенском были созданы отдельные Женские батальоны, что неизменно дразнило воображение солдат). Наступающее социальное равенство способно победить гендерное неравенство и гендерные отличия: «Работница в шинели перестает быть женщиной, прежде всего она “боевая единица”» [7. С. 26]. По мнению Коллонтай, конец зависимости женщины наступит тогда, когда она будет владеть винтовкой. Утверждение гендерного равенства на фронте вменялось в обязанность женщине. Коллонтай считала, что «задача красной сестры - научить уважать каждую санитарку, как человека и товарища» [7. С. 23]. Своей серьезностью и строгим поведением, осознанием того, что она тоже «солдат на посту», сестра могла бы приучить красноармейцев смотреть на женщину как на человека. Ее дело - своим примером показать разницу с сестрами царского времени. В качестве образцов женщин на войне Коллонтай приводит Флоренс Найтингейл, положившей начало Красному Кресту, и Жанну д'Арк, вдохновлявшую солдат. В Гражданскую войну Коллонтай видит задачей тысяч девушек поднимать дух товарищей, разжигать сердца солдат верой в победу. Вообще, Коллонтай полагала, что вовлечение женщин в военное дело - это не временная задача, ограниченная периодом Гражданской войны, а «жизненная задача класса», так как участием женщин на фронте преодолеваются предрассудки, питающие неравенство [10. С. 7]. Через общий призыв в войска мужчины и женщины становятся равноправными членами государства. Эти взгляды на роль женщины в Гражданской войне разделяла и другая известная революционерка - И. Ф. Арманд. Она утверждала, что работницы должны пойти на фронт в качестве сестры милосердия, агитатора и красноармейца [11. С. 68]. То, что воевать может только мужчина, она признает предрассудком. Работница должна стать солдатом революции [11. С. 70]. Типичным становится формирование красной сестры через отрицание значимости сестер милосердия Первой мировой войны. Оно логично продолжает цепочку противопоставления: Гражданской войны -войне империалистической, интересов рабочего класса - интересам буржуазии, становясь одним из элементов негативной пропаганды советского времени. Хотя сам феномен «красные сестры» был настолько ограничен во времени, что не успел попасть в словари [12. С. 311], само понятие остается актуальным на протяжении достаточно долгого периода обращения к этому явлению. Например, упомянутое противопоставление фигурировало в книге видной партийной функционерки Софьи Смидович 1927 г. издания: «Красные сестры - это не сестры милосердия старого времени, которые набирались из разных дам и под охраной красного креста, даже попадая в плен к неприятелю, щадились по военным законам, как люди, не имеющие к военным действиям непосредственного отношения. Нет. Наши красные сестры были в то же время и боевыми товарищами . Они шли на фронт не для того, чтобы благотворительствовать» [13. С. 33-34]. Таким образом, отвергалось представление о роли сестры на фронте, которая не воюет, а спасает, находясь над схваткой, при случае готовая прийти на помощь и врагу. Понятия о нейтральности больше не существовало, все подчинялось делению воюющих на своих и врагов. Женщины-воины: существовавшие до Гражданской войны практики. Несмотря на то что формирование образа красной сестры происходило в соотношении с образом сестры милосердия, кажется целесообразным выделить черты, которые были заимствованы из образа женщины-воина, ведь красные сестры, в отличие от сестер милосердия, с винтовкой участвовали в боях. Издревле женщина становилась воином, мимикрируя под мужчину, отказываясь от фемининной идентичности. Так, женщины присваивали мужские стереотипы поведения: «Молодые женщины отрезали свои косы, старались затемнить цвет лица (загаром или косметикой), начинали курить, чтобы голос стал более грубым, затем приобретали солдатскую форму и пробовали устроиться в войска действующей армии» [14. С. 42]. «Присваивая мужское имя, женщины-солдаты формировали важный психологический конструкт вписывания своей личности в гендерную норму окружения, тем самым присваивая самость Другого, реализуя, таким образом, одну из стратегий нивелирования гендерного напряжения в военной среде (в мужском сообществе)» [15. С. 146]. Самой известной такой женщиной-воином столетием ранее стала кавалерист-девица Надежда Дурова. В Первую мировую войну подобные случаи были не единичны: среди тех, о ком известно, - спортсменки Кудашева и Мария Исаакова, кубанская казачка Елена Чоба [16. С. 428-429] и др. Но самый яркий пример женщины-солдата в Первую мировую войну - Мария Бочкарева, которая знаменует изменение этой принятой практики перевоплощения женщины в солдата. Она получила высочайшее разрешение от царя на службу солдатом, а потому находилась в армии легально. Бочкарева создала свой гендерный проект, постепенно добиваясь равноправия с мужчинами в армии, и обрела субъектность. Она вела себя по-мужски, просила называть себя «Яшкой», но при этом сохраняла в себе характерную для женщин жертвенность: вытаскивала раненых с поля боя, перевязывала их. То есть отвергнутая ею при поступлении на фронт фемининность (она отказывается быть сестрой милосердия, предпочитая воевать с оружием в руках) все же остается неотъемлемой характеристикой ее как женщины-воина. С именем Бочкаревой связана и подхваченная впоследствии большевиками идея восприятия женщин на фронте как способных вдохновить деморализованных бойцов на продолжение войны. Идея была реализована при создании женских воинских подразделений летом и осенью 1917 г. Этот уникальный проект по созданию специальных женских войск, инициированный Бочкаревой и одобренный Керенским, был предпринят главным образом в пропагандистских целях: женщины должны были своим примером вдохновлять мужчин, поднимать их моральный дух или стыдить их. В Женских батальонах смерти пример Бочкаревой стандартизируется и формирует второй тип женщины-воина. Женщина законно находилась в армии под своим именем, следовательно, фемининность образа сохранялась, так как для всех крайне важным было то, что это женщина. Оставаясь в своем женском обличии, женщины присваивали себе «мужскую» функцию - воевать. Здесь официальная риторика решила поиграть с типичными представлениями о слабости-силе, приписываемыми женскому и мужскому полу, и через переворачивание этих характеристик вернуться к принятому варианту. Фемининность женщины-воина традиционно означала ее слабость, которая в условиях разваливающейся армии должна была послужить силой, способной вернуть на фронт «настоящих» солдат (не женщин). Пропаганда опиралась на то, что даже хрупкие и слабые женщины готовы защищать отечество, и именно это должно было уязвлять мужское самолюбие, ведь ставило их ниже женщин в традиционной иерархии полов: слабая женщина, становясь воином, обретает силу, значит, мужчина, который отказывается быть воином, становится «хуже бабы». Вместе с тем сами женщины-воины вполне ощущали свою субъектность и в большинстве своем добросовестно выполняли возложенную на них задачу защиты родины, они воспринимали себя как последний оплот защиты отечества, и для них идея их «слабости» не работала. Таким образом, если в первом случае фемининность полностью замещается маскулинностью, то во втором - сохраняемая фемининность присваивала «мужские» черты, что бросало вызов существующей маскулинности. Теперь посмотрим, что же нового в отношении женского опыта участия в войне было в понятии «красной сестры». В него изначально не закладывалась дихотомия женское/мужское, что было в существовавших до Гражданской войны двух типах женщин-воинов. В рамках марксистского феминизма борьба полов виделась менее важной, чем война классов. Хотя существование неравенства полов признавалось, классовая общность в условиях Гражданской войны была важнее существующей несправедливости по отношению к женщинам. Феномен «красная сестра» формировался на основе фемининности. Но здесь нивелировался эффект провокативности, характерный для восприятия обществом женских батальонов смерти. В рамках данного понятия к традиционным женским добродетелям (утешение, забота, вдохновение) добавляется мужская доблесть и воинственность. Фемининная идентичность расширяется, что трактуется не как вызов обществу, а как стремление к равноправию полов. В Первую мировую войну примером такого поведения был подвиг сестры милосердия Риммы Ивановой, которая после смерти командира повела полк в атаку. Этот известный случай был исключительным. В Гражданскую войну расширенная фемининность переставала быть уникальной и для многих ее участниц становилась нормой. Таким образом, чаяниями партийных функционерок, исключение в предыдущие периоды становится распространенным явлением в Гражданскую войну. Образы красных сестер в их собственных воспоминаниях. Посмотрим, как формируемые агитацией образы красных сестер адаптировались ими и впоследствии отражались в их собственных воспоминаниях. Одной из типичных особенностей подобных мемуаров становится часто возникающее коллективное «мы», когда мемуаристка пишет не только и не столько о себе и своем опыте, сколько ассоциирует себя с группой, к которой в тот момент принадлежала. Таким образом, можно утверждать, что партийное обращение к работницам как некоей общности, коллективу единомышленниц, было ими апроприировано и, в случае красных сестер, формировало некий коллективный опыт, который через «мы» рассказчицы представал как объективный. Собственная значимость формируется в воспоминаниях за счет нивелирования опыта предшественниц, а собственный образ создается через негативный образ Другого. Сестрам милосердия приписывается зацикленность на себе («больше занимались своими делами, чем красноармейцами» [17. Л. 3 об.]). Мемуаристка Родченко прямо отвергает опыт прежних сестер. Она упоминает, что в империалистическую войну не было женщин-работниц: «Правда, у них тоже были “сестры милосердия”, но разве это такие же сестры, какие были в гражданскую войну. Разве они могли работать в тех условиях, в каких работала наша женщина-работница в гражданскую войну. Конечно, нет» [2. Л. 1]. О чем же шла речь? Гражданская война отличалась от Первой мировой неизмеримо худшими условиями работы сестер. Если в годы империалистической войны сестры имели отдельные помещения, возможность содержать себя в чистоте, хорошее питание, необходимые медикаменты, то в условиях Гражданской войны они были этого лишены [4. С. 96]. Например, Е.П. Михайлова-Лисенкова вспоминала о состоянии оборудования в одном из госпиталей: «Операционные инструменты были настолько затупившиеся, что ими приходилось не резать, а пилить» [18. Л. 12]. Между тем условия работы были совсем не ограничивающим фактором для новых медработников, сестры осознавали свое классовое единство с солдатами и были воодушевлены на помощь им: «Мы, женщины-работницы, можем работать и работаем лучше, чем те сестры, которые раньше работали в госпиталях» [2. Л. 2]. Наглядное противопоставление двух типов сестер появляется в воспоминаниях Михайловой-Лисенковой, где возникает образ сестры Журавской: «Это была старая сестра, участвовавшая на Германском фронте, неоднократно за эту войну награжденная медалями и Георгиевскими крестами, увешанная которыми она и ходила» [18. Л. 7]. Но она отказалась находиться в боевых цепях, когда ее назначили на позицию. «Красногвардейцы считали, что спокойнее идти в бой, когда рядом есть сестра для перевязки. Журавская не пошла и во время всего боя сидела в эшелоне вся позеленевшая, и от ужаса ничего не могла делать, т.к. рядом с эшелоном все время рвались снаряды, и спокойных мест не было» [18. Л. 7]. Показательно здесь, что мемуаристка создает зримый образ сестры Журавской, хотя сама в то время, видимо, была в бою. Это подтверждает мысль о том, что основной способ подчеркнуть собственную значимость и пользу для общего дела в отсутствие медицинского профессионализма - это опорочить сестер времен Первой мировой войны как безыдейных белоручек, не имея на то особых оснований. Дискредитация сестер Первой мировой войны -пропагандистский конструкт, который из речей партийных лидеров переходит в эго-документы. При этом в мемуарах проговаривается и другая реальность, идейно не осмысленная ни их авторами, ни тем более партийными функционерками. Речь идет о том, что зачастую красных сестер обучали медицинскому делу примкнувшие к революции сестры империалистической войны. Михайлова-Лисенкова вспоминает о том, что искусству делать перевязки учила их Александра Гилярова - студентка медицинского института, бывшая до революции сестрой милосердия; а санитарный отряд был сильным, потому что в него входили, помимо санитарок, две студентки-медички и один медик [18. Л. 1]. Образ сестры - идейной вдохновительницы бойца также переходит из большевистской агитации в мемуары. В воспоминаниях возникает образ сестры-пропагандистки, которая при любой возможности агитирует за ведение Гражданской войны. Е.И. Васильева вспоминает, что агитация была возможна только при установлении достаточно спокойной обстановки на фронте, сестрам «разрешалось читать газеты и беседовать с ними по текущему моменту, даже в окопах» [19. Л. 13]. Родченко пишет: «Во время перерыва, когда не было стрельбы, мы, женщины, ходили среди красноармейцев и говорили им о том великом деле, которое возложено на них. Делали это так: брали махорки, бумаги и шли. И вот так с ними разговоришься, и слушают они внимательно и расспрашивают. Потом угостишь их махоркой, они еще более разговорчивы становятся. Так мы, сестры, старались влить бодрость в солдат, изжить дезертирство среди них» [2. Л. 3]. Таким образом, функция борьбы с дезертирством, вменяемая женским батальонам смерти, продолжала быть актуальной и для женщин, служащих в Красной армии. Итак, сестры нового типа объединяли в себе фемининные и маскулинные качества. Они обслуживали раненых (в том числе интеллектуально и эмоционально) и сами выступали в роли бойцов. Таким образом, они несли нагрузку, никогда ранее не требовавшуюся ни от медицинских работников, ни от женщин, оказавшихся на фронте. Хотя в партийной риторике и в самовосприятии участниц феномен красных сестер формировался на отвержении образов сестер милосердия предыдущей войны, но, по сути, их опыт учитывался и дополнялся характеристиками, свойственными воинам женских батальонов. Само понятие «красной сестры» вполне объяснялось марксистским феминизмом, представительницами которого были упомянутые партийные лидеры, но отрицалось наличие у женщин отдельных от своего класса потребностей. В Гражданскую войну в образах красных сестер происходило расширение традиционной модели фемининности, которая впоследствии будет положена в основу формирования типа «советской женщины».
Большакова О.В. На восточном фронте без перемен: зарубежная русистика о гендерной истории Первой мировой войны в России // Тру ды по россиеведению. 2014. № 5. С. 383-396.
Родченко. Воспоминания бывшей работницы ткацкой фабрики об участии в гражданской войне против Деникина, Махно и в подавлении кронштадтского мятежа в составе санитарного отряда в 1919-1921 годах // Центральный государственный архив историкополитических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Ф. Р -4000. Оп. 12. Д. 331.
Акодус Я.И. Медицинская сестра Советского Красного Креста. М. : Медгиз, 1955. 64 с.
Конохова А.С. Сестры милосердия в годы революции и гражданской войны // Новейшая история России. 2012. № 1. C. 91-99.
Программа политической грамоты для курсов Красных сестер: Вступительные занятия. М. : Гос. изд-во, 1920. 1 л. // РКП(б). Централь ный комитет. Отдел по работе среди женщин. Сборник инструкций отдела ЦК РКП по работе среди женщин / Российская Социалистич. Федеративная Советская республика. М. : Гос. изд-во, 1920. 51 с.
Колоницкий Б.И. Образ сестры милосердия в культуре эпохи Первой мировой войны // Большая война России: Социальный порядок, публичная коммуникация и насилие на рубеже царской и советской эпох : сб. статей / ред. К. Бруиш, Н. Катцер. М. : НЛО, 2014. С. 100-126.
Коллонтай А.М. Работницы, крестьянки и Красный фронт. М. : Изд-во Всерос. Центр. Исполн. Комитета Советов Р.,С.,К. и К. Депутатов, 1919. 32 с.
Семашко Н. Красная армия и красный медицинский персонал // Коммунистка. 1920. № 1. С. 28-29.
Товбин М.М. Санитарные дружинницы и красные сестры. М. : [Моск. рабочий], 1958. 56 с.
Коллонтай А.М. Классовая война и работницы // Коммунистка. 1920. № 5. С. 5-9.
Арманд И.Ф. Статьи, речи, письма. М. : Политиздат, 1975. 287 с.
Русев И.Т., Скрябина Н.В., Михеев А.В. История термина «сестра» в отечественной медицине // Вестник Российской Военномедицинской академии. 2015. № 3 (51). С. 309-313.
Смидович С. Работница и крестьянка в Октябрьской революции. М. ; Л. : Гос. изд-во, 1927. 148 с.
Щербинин П.П. Женщины в русской армии в период Первой мировой войны 1914-1918 годов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2004. № 3. С. 42-49.
Перельман И.В. Влияние Первой мировой войны на развитие российского гендерного порядка. Феномен Марии Бочкаревой // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 9 (83). C. 142-148.
Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII - начале XX века. Тамбов : Юлис, 2004. 508 с.
Аникович З.Л. Воспоминания бывшей сестры милосердия об участии в гражданской войне петроградских женщин-работниц против Юденича в 1919 году // ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 12. Д. 285.
Михайлова-Лисенкова Е.П. Воспоминания бывшей работницы Петроградского завода об Октябрьской революции 1917 года в составе санитарного отряда в боях под Пулково // ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 12. Д. 442.
Васильева Е.И. Воспоминания Васильевой Екатерины Ивановны о работе сестрой милосердия на германском фронте в 1915-1917 гг., в комиссариате печати, агитации и пропаганды в Петрограде в 1918-1919 гг. // ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 18. Д. 331.
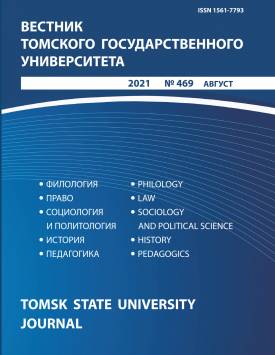

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью