Политические репрессии против интеллигенции Европейского Севера России в 1920-1930 гг.
На базе документов региональных архивов выявлена динамика политических репрессий против интеллигенции Европейского Севера России в первой трети ХХ века. В рассматриваемый период было выделено три ключевых этапа репрессивной политики советской власти по отношению к региональной интеллигенции, каждый из которых был обусловлен целым комплексом причин конкретно-исторического характера. В научный оборот введены ранее неопубликованные архивные данные, позволяющие реконструировать масштабы репрессий против интеллигенции в Северном крае.
Political Reprisals Against the Intelligentsia of the European North of Russia in the 1920s-1930s.pdf Интеллигенции свойственна склонность к теоретическому осмыслению и оценке общественных процессов, критическое восприятие действительности. В силу специфики профессиональной деятельности она менее подвержена беспрекословному подчинению официальным идеологическим установкам. Эти сущностные черты интеллектуального слоя делают его неугодным любому авторитарному режиму. За свое свободолюбие и инакомыслие Интеллигенция была объектом политического преследования как в царской России, так и в Советском Союзе. Однако масштабы зачастую ничем не обоснованных репрессий против носителей культуры и знаний, организованные властными структурами в 1920-1930-х гг., несопоставимы с периодом российского абсолютизма. Проблема политических репрессий советской власти против интеллигенции в 1920-1930-х гг. имеет давнюю исследовательскую традицию и на протяжении длительного времени волнует ученых различных отраслей научных знаний. При этом акценты постепенно смещались от оправдания террора по отношению к интеллигенции к его осуждению. В советской историографии 1930-1950-х гг. данная проблема рассматривалась преимущественно в ракурсе вины интеллигенции, исторического суда над ней. Большая часть интеллигенции представлялась в образе сознательного и бессознательного (в силу социального происхождения и материального положения) классового врага пролетариата, препятствующего построению «светлого социалистического будущего». Хрущевская оттепель приоткрыла завесу на необоснованный террор в годы сталинского режима и положила начало постепенному оправданию интеллигенции перед судом истории. Исследования крупных советских историков 1970-1980-х гг., в частности С.А. Федюкина, В.С. Волкова, В.Л. Соскина, С.А. Красильникова, положили начало более объективному анализу проблемы. Теоретические положения о том, что моральные и социально-психологические установки российской интеллигенции совпадали с интересами народа и не противоречили лозунгам большевиков, о том, что многие представители интеллигенции по убеждению, а не по принуждению встали на сторону советской власти, позволили снять вину со многих представителей интеллектуального труда [1-3]. Вместе с тем неофициальный запрет на всесторонний и комплексный анализ данной темы не позволял открыто заговорить о самом феномене репрессий, его масштабах, причинах и исторических корнях, целесообразности и степени законности. Кардинальные структурные преобразования российского общества в конце 1980-х - начале 1990-х гг. положили начало переосмыслению общественнополитических процессов 1920-1930-х гг., усилили интерес исследователей к обозначенной теме. Открытие доступа к трудам и воспоминаниям представителей русского зарубежья, архивным источникам и научным разработкам, хранившимся в спецхранах, позволили детально изучить многие политические процессы и специфику работы следственных органов в рассматриваемый в статье период. Были опубликованы труды, посвященные концептуальному осмыслению феномена репрессий, включая белый и красный террор, его причин и идейных истоков [4-9]. Вместе с тем многие современные исследования не лишены излишней эмоциональности, субъективного восприятия проблемы, что, безусловно, затрудняет научный поиск. В частности, популярной стала точка зрения о том, что со стороны государства проводилось сознательное уничтожение дореволюционной интеллигенции [10-13]. При этом данные постулаты не подкреплялись конкретными архивными данными о потерях среди интеллигенции. На рубеже тысячелетий была опубликована Книга памяти жертв политических репрессий «Поморский мемориал», включившая в себя имена репрессированных в 1920-1950-х гг. жителей Архангельской губернии [14]. Данные о социальном происхождении и роде занятий, а также примененные в отношении жертв карательные меры позволяют определить долю интеллигенции среди общего количества репрессированных и динамику реализации карательной политики в изучаемый хронологический период. Научные публикации Е.И. Овсянкина, Р.А. Ханта-лина и других региональных историков позволили изучить специфику деятельности карательных учреждений на Европейском Севере [15-18]. Однако проблема репрессий против представителей массовых профессиональных групп северной интеллигенции еще не являлась предметом самостоятельного исследования. Тема чрезвычайно трудная и деликатная, так как тесно связана с конкретными человеческими судьбами. Безусловно, заслуживает осуждения и общественного порицания каждый отдельно взятый факт расправы с инакомыслием. Тем более что большинство из них не имели под собой каких-либо оснований. Многие видные представители российской интеллигенции признали советскую власть и не помышляли о враждебной деятельности против пролетариата и нового строя. Потребность в воссоздании достоверной картины исторического прошлого вызывает необходимость более объективного подхода к анализу данной проблематики. Целью настоящей статьи является выявление динамики и масштабов политических репрессий против интеллигенции Европейского Севера России в 1920-1930-х гг., а также анализ комплекса причин, их предопределивших. Интеллигенция - работники сферы интеллектуального труда - интерпретируется авторами статьи в рамках социологического подхода. Территориальные рамки настоящего исследования определены Архангельской, Вологодской, Северодвинской и Мурманской губерниями1. В зависимости от конкретно-исторической ситуации и общественно-политической позиции интеллигенции репрессии против нее имели свою траекторию развития в отдельных регионах. В связи с этим исследования общероссийского уровня должны быть подкреплены региональными научными разработками. Ис-точниковую базу исследования составили опубликованные и неопубликованные документы. Ключевым опубликованным источником стала Книга памяти жертв политических репрессий «Поморский мемориал», позволившая авторам, применив статистический метод, подсчитать количество репрессированных представителей интеллигенции Архангельской губернии [14]. Неопубликованные источники представлены документами фондов трех региональных архивов: Государственного архива Архангельской области, Государственного архива Вологодской области и Государственного архива Мурманской области. Европейский Север России традиционно считался местом каторги и ссылки неугодных властям, независимо мыслящих лиц. На рубеже XIX-XX вв., в 2030-х гг., в этот край этапировали тысячи инакомыслящих. Однако не только представители российской интеллектуальной элиты из центра, но и местное население и его интеллигенция оказались среди жертв политических репрессий. Понять и осмыслить феномен репрессий, обрушившихся на интеллигенцию Европейского Севера России в 20-30-х гг., сложно без экскурса в революционные процессы 1917 г., период Гражданской войны и специфику их проявления в Северном крае. Социальная позиция региональной интеллигенции, ее отношение к этим эпохальным событиям во многом предопределили размах трагедии, разыгравшейся в регионе в 1930-х гг. Первые жертвы террора среди региональной интеллигенции появились на заре установления советской власти в регионе. Еще в мае-июне 1918 г. Советская ревизия, учрежденная постановлением СНК РСФСР, приступила к укреплению советской власти в Северном крае, которая устанавливалась здесь более медленными темпами в силу слабости социальной базы большевизма. Объектом преследования комиссии, возглавляемой М.С. Кедровым, стали видные деятели всех оппозиционных партий и общественнополитических организаций, продолжавших функционировать в крае легально до конца весны 1918 г. Были арестованы многие чиновники земских учреждений и городских самоуправлений, отказавшиеся сложить с себя полномочия. За неподчинение распоряжениям советской власти был взят под стражу практически весь состав Архангельского окружного суда [19. Л. 24-25; 20. Л. 3-18; 21. Л. 84-86; 22. Л. 26-38]. Однако репрессивные меры против интеллигенции региона в эти месяцы носили в основном точечный характер и были направлены против явных и открытых противников советской власти. Малочисленность интеллигенции, слабый интеллектуальный потенциал большевиков не позволяли предпринять кардинальные меры против «классового врага» [23. C. 35, 159]. Под угрозой могла оказаться деятельность многих социальных институтов и учреждений. В годы Гражданской войны на Европейском Севере России (август 1918 - февраль 1920 гг.) объектом красного террора стала интеллигенция Вологодской и Северодвинской губерний. Поводом к этому послужили события 2 августа 1918 г. в Архангельске. Здесь в результате сов-местного выступления внутренних и внешних сил антибольшевизма была свергнута власть Советов. В целях упреждения «архангельского синдрома» в вышеназванных губерниях была укреплена сеть карательных учреждений, создано 5 лагерей принудительных работ (в Вологде, Тотьме, Каргополе, Великом Устюге, Усть-Сысольске). На заседании коллегии Вологодской ГубЧК было предписано «завербовать постоянных сотрудников-осведомителей на местах». Только за период с августа по октябрь 1918 г. Вологодским ГубЧК было арестовано 510 человек. За период с июля 1919 г. по апрель 1920 г. обвинение в противодействии советской власти было предъявлено 5 338 жителям Вологодской губернии. Среди осужденных были и представители интеллигенции. В октябре 1919 г. за контрреволюционную деятельность были привлечены к ответственности ряд преподавателей и студентов Вологодского института народного образования. Серьезный удар обрушился на служителей клира, которые осмеливались выражать протест против изъятия церквей под объекты военного и культурно-просветительного назначения, против реквизиции церковного имущества. За отказ от участия в конструировании отдела здравоохранения Вологодского губисполкома за решеткой оказалась группа врачей губернского центра. В местах заключения встречались и представители сельской интеллигенции, поддержавшие своих односельчан в борьбе против политики продразверстки [24. Л. 141; 25. Л. 320; 26. Л. 7-11; 27. Л. 8; 28. Л. 125, 133]. В большинстве случаев интеллигенция Вологодской и Северодвинской губерний не предпринимала незаконных действий, поэтому эти меры властей можно считать превентивными карательными акциями, направленными на устрашение. Нужно отметить, что в годы Гражданской войны в Северном крае интеллигенция Архангельской губернии не избежала и белого террора. Под лозунгом борьбы «с агентами большевизма» «белым» правительством преследовались многие лидеры и видные деятели умеренно-социалистического крыла антибольшевистского лагеря. Такая же участь постигла часть региональной интеллигенции, не отказавшейся от участия в деятельности местных советских органов весной-летом 1918 г. Однако белый террор по сравнению с красным имел несколько иную социальную направленность и не в той степени коснулся интеллигенции. Тяжелейшим испытанием для интеллигенции Архангельской губернии явились первые годы после восстановления советской власти. Анализ, проведенный авторами статьи по «Книге памяти жертв политических репрессий», позволяет констатировать, что в течение короткого промежутка времени весны 1920 -первой половины 1921 гг. жертвами необоснованных политических репрессий стали около 400 из 4 тыс. представителей интеллектуальных профессий. Террор против архангельской интеллигенции в этот период принял характер классового возмездия за те потери и лишения, которые выпали на долю сторонников советской власти в период войны «красных» с «белыми» на Северном фронте. Интеллигенции Архангельской губернии не простилось сочувствие антибольшевистскому режиму на начальном этапе его установления. Постепенная эволюция взглядов архангельской интеллигенции в пользу Советов в годы двухлетнего функционирования антибольшевистского режима не явилась смягчающим обстоятельством. Анализ социального состава осужденных мест заключения Архангельской губернии позволяет констатировать, что репрессии коснулись практически всех профессиональных групп интеллигенции. Но наибольший удар пришелся по бывшим служащим правительственных учреждений и местных органов самоуправления. Так, к середине 1921 г. в принудительном лагере № 1 г. Архангельска состояло на учете 1 396 заключенных. Из них 18% составляли бывшие чиновники, 7% приходилось на инженеров и техников, 3,4% - на специалистов сельского хозяйства, по 0,7% - на юристов и представителей творческих профессий, 0,3% - врачи и фармацевты. В лагере томилось 68 из чуть более 1 тыс. учителей [29. Л. 138141]. Подавляющему большинству осужденных инкриминировалась контрреволюционная деятельность, которая заключалась в военной и гражданской службе «белым» правительствам. Период 1922-1927 гг. чрезвычайно сложен и противоречив в осмыслении взаимоотношений власти и интеллигенции. С одной стороны, он был ознаменован общим послаблением режима в связи с отказом от военно-командных методов управления страной. В годы нэпа многие представители интеллигенции Европейского Севера получили свободу по амнистии в честь 5-летного юбилея «Великого Октября». Свою роль в смягчении политики по отношению к интеллигенции сыграло сменовеховское движение, зародившееся в среде русских эмигрантов. Авторы сборника «Смена вех» Ю.В. Ключников, И.В. Устрялов, С.С. Чахотин и многие другие признали заслуги большевиков в спасении российской государственности, ее целостности и независимости. По мнению вышеназванных авторов, переход к политике нэпа в Советской России является наглядным свидетельством эволюции большевистского режима от идеи насилия и разрушения к созиданию, и нравственный долг интеллигенции - вернуться на родину, чтобы оказать отечеству посильную помощь в восстановлении экономики и культуры [30. C. 229, 244, 248-250]. Обращение лидеров сменовеховского движения нашло отклик в сердцах многих представителей российской интеллигенции, которым далеко не чужды были идеи служения отечеству и народу. На путь диалога с интеллигенцией встали в этот период и лидеры партии и государства. Свидетельством тому явились открытые дискуссии 19231925 гг. о месте и роли интеллигенции в социалистическом обществе. Участие в них приняли партийногосударственные лидеры, видные представители российской интеллигенции [31]. Своего рода компромиссом интеллигенции и власти стали постановления ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» (июнь 1925 г.) и «О работе специалистов» (сентябрь 1925 г.). Этими документами допускалась свободная конкуренция между различными литературно-художественными группировками и течениями, декларировался лозунг о материальной и правовой защите специалистов [32. C. 17]. В этих условиях прессинг на интеллигенцию значительно сократился. В частности, за период с 1922 по 1927 г. в Архангельской губернии подверглись репрессиям лишь 56 представителей интеллигенции. Однако в условиях восстановления частной собственности и товарно-денежных отношений большевики стремились не упустить ведущих позиций в сфере политики и идеологии. Уже в первые годы нэпа были предприняты меры, направленные на снижение влияния интеллигенции на общественное сознание. Феномен «философского парохода», когда из страны в 1922 г. были высланы около 200 видных представителей гуманитарной интеллигенции, является наглядным подтверждением этого. Заметим, что эта кампания частично коснулась интеллигенции Европейского Севера. В группу ученых, высланных из страны, попал социолог, этнограф и политолог Питирим Александрович Сорокин, уроженец Вологодской губернии [33. C. 391]. С той же целью ослабления влияния интеллигенции на массовое сознание в 1922 г. был принят ряд постановлений об административной ссылке и высылке [34. C. 76-79]. В соответствии с ними многие видные деятели науки и культуры, признанные политически неблагонадежными, высылались на окраинные рубежи страны из центра. В этой ситуации органы управления Европейским Севером оказались в двойственном положении. С одной стороны, им предстояло принять десятки и сотни представителей интеллигенции, высланных из центральных регионов, и это позволяло частично решить проблему хронического дефицита квалифицированных специалистов. С другой - принять действенные меры к тому, чтобы удержать под контролем политическую ситуацию в регионе. В качестве предохранительной меры в 1923 г. были поставлены на персональный учет все специалисты, занимающие ответственные посты. С 1924 г. во всех партийных, советских, кооперативных и хозяйственных учреждениях Европейского Севера началась чистка от «классово-чуждых» элементов, лишенных избирательных прав по Конституции СССР. Эта акция коснулась бывших чиновников и работников юстиции царского и антибольшевистских правительств, служителей клира и так называемых лиц свободных профессий, живущих на «нетрудовые» доходы. Главной целью организованного мероприятия являлось отстранение «потенциально опасной» части интеллигенции от участия в деятельности жизненно важных социальных объектов, от принятия властных решений. Одновременно с весны 1924 г. всем учреждениям и организациям предписывалось все кадровые вопросы согласовывать с губернскими отделами Главного политического управления. Проверка органами ГПУ на предмет лояльности советской власти и политической благонадежности стала неотъемлемым условием при трудоустройстве [35. Л. 2, 65; 36. Л. 81-89]. Однако в условиях острого дефицита квалифицированных специалистов эти меры предосторожности часто не достигали своей цели. На Европейском Севере, где еще не успела сложиться система подготовки советских кадров и чрезвычайно низок был удельный вес выдвиженцев, использование «буржуазных» специалистов являлось залогом успеха в восстановлении экономики и культуры региона. Свою роль сыграли и протесты руководителей хозяйственных предприятий. В частности, неоднократные обращения председателя правления треста «Северолес» К.Х. Данишевского в ЦИК СССР и ВСНХ, где указывалось, что увольнение компетентных специалистов по рекомендации ГПУ грозит полной остановкой производства, возымели свое действие. Квалифицированные специалисты были оставлены на своих рабочих местах [36. Л. 10, 53-54]. Первые признаки усиления политического нажима на интеллигенцию Европейского Севера России начинают проявляться в 1927 г., когда число судебных дел, возбужденных по статье «выступления против порядка управления», возросло в восемь раз, а осужденной за «контрреволюционные выступления» интеллигенции - в два [37. Л. 6-13]. В СССР репрессии принимают широкомасштабный характер с конца 1920-х гг. Под лозунгом «обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму» руководство страны достигало цели укрепления своей власти, используя подневольный труд узников лагерей особого назначения в годы «великого перелома» и вселяя страх через безадресный террор, жертвой которого мог оказаться каждый. В ходе их реализации разворачиваются репрессии против интеллигенции Европейского Севера. В 1928-1929 гг. в регионе начинается борьба с приверженцами нэпа. Мощнейшей обструкции подвергся партийно-советский аппарат Вологодской губернии. В регионе, где сельское хозяйство являлось основой жизнедеятельности и, соответственно, было много сторонников политики нэпа, состоялись массовые увольнения среди приверженцев новой экономической политики [38. С. 241-271]. В конце 1928-1929 гг. во всех северных губерниях, как и в стране в целом, была проведена тотальная проверка кадров учреждений. Данные по всем работникам были проанализированы специальными комиссиями с целью выявить «неблагонадежных», которые делились на несколько категорий в соответствии с инструкцией Центральной комиссии по чистке советского аппарата. К первой категории относили, как считалось, наиболее опасных для режима, уволить которых требовалось в течение недели без возможности дальнейшего трудоустройства в учреждениях и организациях социалистического сектора и получения социальных выплат. В первую очередь под эту категорию попадали служители церкви и те, кто служил в дореволюционных государственных структурах. Таких на территории Архангельской, Вологодской и Северодвинской губерний, вошедших в 1929 г. в состав Северного края, оказалось около 600 человек. Две трети из них были административными работниками 64 крупных организаций Архангельской губернии. Пострадал педагогический состав учебных заведений Архангельска: увольнению подверглись 22 учителя школ второй ступени и техникумов, что составило более 13% от их общего числа. Под кадровые чистки попали предприятия лесной промышленности. Так, были уволены треть всех служащих «Севлесстроя» и более половины (пять из восьми) членов правления «Северолесэкпорта». Кадровый состав Архангельской плановой комиссии также был урезан на треть. Среди работников губернского земельного управления более 20% были признаны «классово-чуждым элементом» [39. Л. 24-32; 40. Л. 1-4]. Не обошли стороной чистки советского и хозяйственного аппарата и Мурманскую губернию. В общей сложности здесь было уволено 6,6% от общего числа специалистов и служащих [41. Л. 370-375]. Сохранившие личную свободу имели право трудоустройства только чернорабочими. Отсутствие «реальной вины», но иное социальное происхождение, наличие частной собственности, например собственного дома, заканчивалось, как правило, понижением в должности до ранга младшего служащего или младшего технического персонала. Оба варианта фактически означали запрет на профессию. Вместе с тем следует признать, что чистка советского аппарата при всех своих негативных последствиях имела и положительную сторону. Учреждения и предприятия частично освободились от деморализованных элементов, бывших уголовников, мошенников и взяточников, лжеспециалистов и бюрократов, пришедших к должности на фоне политической нестабильности и тяжелейшей социально-экономической ситуации в стране. Для Северного края, который к этому времени стал местом не только массовой ссылки и высылки инакомыслящих, но и бегства уголовников и рецидивистов, это было актуально и способствовало оздоровлению аппарата управления. Хотя и это дело не обошлось без перегибов. Уголовно наказуемые, дисциплинарные и административные правонарушения зачастую стали классифицироваться как преступления политического характера. Рядовое пьянство, нарушение трудовой дисциплины, грубость по отношению к сослуживцам, бюрократизм и волокита часто расценивались как сознательная, вредительская деятельность против устоев советской власти и иногда заканчивались расстрельной статьей. Можно отметить, что начиная с 1928 г. в связи с делом о специалистах Донбасса недоверие к интеллигенции со стороны местных органов власти заметно возросло. Предметом досконального разбирательства и предвзятого дознания стали все аварии и технические неполадки на производстве. При этом выяснялись не столько обстоятельства, вызвавшие их, сколько личностные характеристики специалистов, допустивших просчеты. В ходе дознания уточнялась генеалогия человека, собирались характеристики от начальства, сослуживцев и подчиненных. Их субъективное мнение о человеке зачастую становилось главным аргументом обвинения. Одной из крупных кампаний, организованных в Северном крае против интеллигенции в начале 1930-х гг., явился политический процесс над группой специалистов лесной промышленности. Более 70 работников правлений трестов «Севлес» и «Севлесосплав», а также других предприятий лесопромышленной отрасли обвинялись в шпионаже в пользу иностранных фирм, сознательной порче оборудования и попытках организовать антисоветские выступления [42. Л. 323-328]. Фактически данный процесс явился попыткой протянуть на Север России нити процесса над «Промышленной партией». Под лозунгом широкого развертывания критики и самокритики, действенной работы по рассмотрению жалоб трудящихся власть инициировала доносительство, «спецеедство» снизу. Народу постоянно внушалась мысль, что главной причиной всех бед, его нищенского существования, является «вредительская деятельность врагов народа» [43. Л. 2-10; 44. Л. 2636, 111-121]. Соответственно росла ненависть к «классовым врагам пролетариата и крестьянства», народ требовал «справедливого» возмездия, поддерживал политику власти в данном направлении. Любые сбои в работе, вызванные объективными обстоятельствами, принципиальность и высокая требовательность по отношению к подчиненным грозили превратиться в акт сознательного вредительства и подрыва устоев советской власти. Эмоциональные срывы, беседы с подчиненным на повышенных тонах часто расценивались как проявления грубости, бюрократического барства и высокомерия специалистов. При этом взрывы социального недовольства власть умело отводила от себя. Обвиняя местные власти в некомпетентности и перегибах, руководство страны использовало это как предлог для борьбы с неугодными на местах. Так, в Северном крае в 1930 г. были смещены с занимаемых должностей более 4% председателей сельсоветов и 4,7% руководителей колхозов. Кадровые чистки коснулись и правоохранительных органов. Под лозунгом восстановления «социалистической законности» в 1933 г. 42,2% руководящих работников органов внутренних дел было привлечено к ответственности [45. Л. 176; 46. Л. 114-132; 47. Л. 69-75]. Вместе с тем необходимо отметить, что зачастую подстрекателями к разбирательствам, выливающимся впоследствии в репрессивные меры, становились народные массы. Подавленное психоэмоциональное состояние, тяжелый физический труд и фактор общественного страха влияли на поведение людей, усиливая чувство недоверия, зависти и злобы. Доносительство и клевета стали характерными признаками общественного поведения людей в это время. К сожалению, иногда сами представители интеллигенции становились инициаторами подобных действий. Анализ многочисленных архивных документов позволяет констатировать, что зачастую сами сотрудники доносили на своих начальников и коллег. Мотивами подобного поведения являлось стремление отвести от себя подозрения и возможные обвинения, а также продвижение по карьерной лестнице и получение дополнительных благ. Однако в целом, по подсчетам авторов, в период 1928-1934 гг. в Северном крае репрессии против интеллигенции не были широкомасштабными. Среди общего числа репрессированных лишь 10% являлись работниками интеллектуального труда [14]. Это объясняется, во-первых, кадровым голодом в регионе и необходимостью привлечения интеллигенции к реализации поставленных социально-экономических задач, во-вторых, с провозглашением курса на коллективизацию и раскулачивание объектом преследования в большей мере становились крестьяне. Глобальная задача была поставлена перед региональной властью в годы первых пятилеток. В кратчайшие сроки Северный край должен был стать «валютным цехом, всесоюзной лесопилкой страны». На необжитых и малозаселенных просторах Кольского полуострова предполагалось приступить к разработке и добыче богатейших месторождений полезных ископаемых. Интенсивное развитие промышленности и соответствующей социальной инфраструктуры были немыслимы без наличия квалифицированных специалистов. Потребность в них в регионе резко возросла, а созданные вузы не успели выпустить ни одного специалиста. В этой ситуации каждый представитель интеллектуального труда был дорог. Дефицит в них местные органы власти были вынуждены восполнять за счет привлечения административно высланных. Несмотря на официальный запрет центра, их назначали на ответственные должности в отделах исполкомов, в вузах и техникумах, культурно-просветительных учреждениях. Кроме того, край в эти годы превратился во «всесоюзный принудительный лагерь». Местным органам власти нужно было принять, расселить и трудоустроить 250-300 тыс. спецпереселенцев [48. Л. 29, 49]. Для организации их труда, удовлетворения потребностей в медицинском и социально-культурном обслуживании были нужны дополнительные специалисты. В целом масштабные гонения на интеллигенцию были невыгодны местным органам власти, так как могли привести к срыву основных хозяйственнополитических кампаний и планов пятилеток. Массовые репрессии против интеллигенции начались во второй половине 1930-х гг. Призыв ЦК ВКП (б) в начале 1937 г. к тщательным проверкам обернулся трагедией, в том числе и для интеллигенции: возвращались на дознание уголовные дела прошлых лет, любые производственные нарушения, вызванные зачастую объективными причинами, могли рассматриваться как подрывная деятельность врагов советской власти [49. Л. 1-9, 92-95]. Декларируя высокие нравственные ценности и принципы, идеи гуманизма и справедливости, внимательного отношения к человеку, взаимопомощи и взаимовыручки, представители властных структур инициировали коррозию межличностных и внутрисемейных отношений. Эти формы нравственного испытания выдерживали далеко не все. Дети публично обвиняли родителей и отказывались от них, муж доносил на жену, жена на мужа. Здоровая критика, какие-либо сомнения в правильности избранного курса, идеологических постулатов партии отметались в корне. Тотальный идейнополитический контроль, стереотипизация и унификация мышления воспринимались как залог духовного единения нации. Власть силой заставляла поверить всех в достижимость и возможность воплощения в жизнь зримой ею идеальной модели общественного устройства. Внешней ширмой стала Конституция СССР 1936 г., провозглашавшая демократические свободы и восстановившая в политических правах все категории населения. К середине 1930-х гг. в Северном крае сформировалось новое советское поколение интеллигенции, получившее образование в советских вузах и техникумах, что стало пусковым механизмом к началу репрессий против «старой буржуазной» интеллигенции: было строжайшим образом запрещено привлекать к интеллектуальному труду административно высланных. Кроме того, новые обвинения обрушились на ту часть региональной интеллигенции, которая в годы Гражданской войны выступала против установления советской власти, была осуждена за это и амнистирована в начале 1920-х гг. Авторами статьи было установлено, что наибольшим репрессиям подверглась интеллигенция Архангельской губернии, среди которой за период с 1935 по 1941 г. было арестовано около 3 тыс. человек, а это в семь раз больше, чем за предыдущие шесть лет [14]. Вопрос о способности российской интеллигенции противостоять становлению худшей формы авторитарного режима сложен и в чем-то щепетилен. Трудность его заключается в том, что исследователям предстоит разобраться в ряде сложных проблем. В частности, ответить на вопросы: 1) правомерно ли утверждение, что все политические процессы по делу о специалистах были искусственно инспирированы, имелись ли какие-то реальные основания; 2) в условиях, когда подавляющее большинство политически активной части интеллигенции полегло на фронтах Гражданской войны, эмигрировало за границу или находилось в застенках тюрем и лагерей, ситуации всеобщей подозрительности и доносительства могла ли сохраниться или появиться группа, способная встать в оппозицию складывавшемуся тоталитаризму. Гипотетически да. Вполне допустимо, что некоторые представители интеллигенции из самых благородных побуждений, из любви к родине, к своему народу, из чувства личной ответственности за будущее России, руководствуясь искренним желанием не допустить установления в стране антинародного режима, могли вынашивать планы борьбы с существующим режимом, в том числе путем вредительства на производстве. В условиях всеобщей технической безграмотности рабочих и управленцев, являвшихся в большинстве случаев выдвиженцами, это можно было сделать сравнительно безнаказанно. Об этом свидетельствуют выдержки из разговоров северных инженеров и техников между собой. Политические сводки ОГПУ Северного края показывают, что интеллигенция, в силу производственной необходимости связанная с представителями иностранных фирм, предчувствовала атмосферу надвигающейся войны. В ее среде могли воскреснуть надежды на новую интервенцию «по приглашению», на скорое падение ненавистного для всех режима. Помочь приблизить его конец путем вредительства на производстве интеллигенция, вероятно, могла. Можно не доверять протоколам допросов, показаниям самих подследственных. Всем известно, какими путями следственные органы добивались признания. Но, видимо, не следует пренебрегать уставами подпольных партийных организаций, протоколами их заседаний, ведомостями об уплате членских взносов. Например, кому было нужно фальсифицировать документы по Партии освобождения труда (ПОТ), созданной в 1934 г. тремя учителями начальной школы Едемского сельского совета Устьянского района Архангельской губернии. Эта чрезвычайно малочисленная группа не могла повлиять на ход общественно-политического развития страны. Но она была и ставила перед собой вполне определенные цели: «решительную борьбу с коммунистической партией и советской властью для полного освобождения народа от эксплуататоров» [50. Л. 182-183]. И, наконец, противостояние интеллигенции могло проявляться не только в целенаправленной организованной политической борьбе. Официальные ноты протеста против тех или иных решений или действий властей, ходатайства о снятии необоснованных обвинений со своих коллег, поручительство за сослуживцев на лояльность советской власти, выступления на производственных совещаниях, собраниях, съездах профессиональных и творческих союзов, воздействие на общественное сознание в межличностном общении с рабочими, коллегами - это тоже формы противостояния и противодействия. Примером может послужить письмо техника треста «Онегалес» Некрасова в редакцию краевой газеты «Правда Севера» о том, что декларируемый И.В. Сталиным лозунг о счастливой жизни колхозников - ничто иное как «батрацкая нищета». Аналогичным примером гражданского мужества можно считать письмо председателя Северного краевого исполкома Г.К. Прядченко в ЦКК ВКП (б) в защиту заместителя председателя Северного краевого Леспотребсоюза Ф. Г. Огибина, в котором автор настаивает на его невиновности [51. Л. 182-183; 52. Л. 288]. Таких примеров можно привести множество. Допуская, что интеллигенция была способна к оппозиционной деятельности на рубеже XIX-XX вв., в годы Гражданской войны, в 60-80-е гг. ХХ в. (речь идет о диссидентском и правозащитном движении), видимо, не стоит создавать искусственную брешь в 1930-х гг. В условиях тотального политического контроля, доносительства и осведомительства заметно осложнялась сама возможность противостояния власти. Однако интеллигенция в силу своих сущностных черт не могла не рефлексировать, хотя бы в форме мыслей вслух на партийно-правительственные директивы и их возможные последствия, на события, происходившие в стране. Резюмируя, следует отметить, что на долю интеллигенции региона, как и общероссийской в целом, в 1920-1930-х гг. выпали тяжелые испытания. Пик репрессий против представителей интеллектуального труда приходится на годы Гражданской войны и вторую половину 1930-х гг. Из-за отсутствия точных данных авторы не могут привести конкретную статистику о численности интеллигенции, репрессированной органами власти Вологодской и Мурманской губерний. В Архангельской губернии за период с 1918 по 1941 г. жертвами террора стали более 3 700 представителей интеллигенции. По стечению обстоятельств они в 1918-1920 гг. оказались в одном из центров антибольшевистского движения и подверглись жесточайшему прессингу со стороны властных структур. Для сведения заметим, что к началу 1917 г. общая численность интеллигенции Архангельской губернии едва превышала 3 300 чел [53. С. 46-152]. Однако неверным будет утверждение, что в эти годы была уничтожена вся архангельская интеллигенция дореволюционного поколения. «Чистки» советского аппарата от «классово-чуждых элементов», запрет на профессию позволили некоторым из них приспособиться к новым условиям, приобрести новую специальность. Другие -самоотверженным трудом на благо общества «снискали прощение», восстановили свое доброе имя. Трагической участи не избежала и новая плеяда советской интеллигенции. Им доверялись многие ответственные посты и должности. С них в первую очередь и был спрос. У авторов есть основания полагать, что местные органы власти настороженно относились к интеллигенции. Анализ данных о социальном составе привлеченных к ответственности по
Ключевые слова
интеллигенция,
политические репрессии,
Европейский Север России,
первая треть ХХ вАвторы
| Соколова Флера Харисовна | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | д-р ист. наук, профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии | f.sokolova@narfu.ru |
| Паникар Марина Михайловна | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | канд. ист. наук, доцент кафедры регионоведения, международных отношений и политологии | m.panikar@narfu.ru |
Всего: 2
Ссылки
Федюкин С.А. Партия и интеллигенция. М. : Политиздат, 1983. 238 с.
Красильников С.А., Соскин В.Л. Октябрь и политические позиции сибирской интеллигенции (К историографии проблемы) // Партийные организации Сибири и Дальнего Востока в период Октябрьской революции и Гражданской войны (1917-1922 гг.). Новосибирск : Наука, 1978. С. 19-42.
Волков В. С. Ленинский анализ социальной психологии интеллигенции как составная часть научно-обоснованной политики партии по отношению к старым специалистам после победы Великого Октября // Роль интеллигенции в построении и дальнейшем развитии социалистического общества. Вып. 2. Л. : ЛГПИ, 1978. С. 3-11.
Куманев В. А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. Очерки. М. : Наука, 1991. 296 с.
Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М. : Русское книгоиздательское товарищество «История», 1997. 272 с.
Голдин В.И. Россия в Гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х - 90-е годы). Архангельск : Боргес, 2000. 280 с.
Литвин А. Л. Красный и белый террор в России в 1917-1928 гг. // Отечественная история. 1993. № 6. С. 46-62.
Ершова Э.Б. Художественная интеллигенция России и репрессивный аппарат в 20-30-е годы // Интеллигенция России: уроки истории и современность. Иваново : Иванов. гос. ун-т, 1996. С. 108-114.
Толерантность и власть: судьбы российской интеллигенции. Тезисы докладов междунар. конф., посвящ. 80-летию «философского паро хода». Пермь : Перм. регион. ин-т пед. инф. техн., 2002. 350 с.
Межуев В. Интеллигенция и демократия // Свободная мысль. 1992. № 16. С. 34-47.
Логунов А. «Интеллигенция» - понятие русское // Правда. 1989. 7 августа.
Кормер В.Ф. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. М. : Традиция, 1997. 288 с.
Солженицын А.И. Образованщина // Новый мир. 1991. № 10. С. 28-45.
Поморский мемориал. Книга памяти жертв политических репрессий : в 3 т. / отв. ред. Ю.М. Шперлинг. Архангельск : Поморск. гос. ун-т, 1999-2002.
Овсянкин Е.И. Жестокая народная трагедия // Поморский мемориал. Книга памяти жертв политических репрессий / отв. ред. Ю.М. Шперлинг. Архангельск : Поморск. гос. ун-т, 1999. Т. 1. С. 3-14.
Ханталин Р.А. Репрессии в Архангельске: 1937-1938. Документы и материалы. Архангельск : Поморск. гос. ун-т, 1999. 272 с.
Смыкалин А. С. ГУЛАГ на Соловецких островах в 20-е годы // Социокультурное пространство: традиции и инновации, глобальное и региональное измерение : материалы Х Соловецкого форума. Архангельск : Соловецкий форум, 2001. С. 74-80.
Ильин В.Н. Лагеря принудительных работ - основа ГУЛАГа на Севере России // Социокультурное пространство: традиции и инновации, глобальное и региональное измерение : материалы Х Соловецкого форума. Архангельск : Соловецкий форум, 2001. С. 57-73.
Государственный архив Архангельской области (далее ГААО). Ф. 272. Архангельский совет рабочих и солдатских депутатов. 1917 1918 гг. Оп. 1. Д. 6.
ГААО. Ф. 352. Архангельский губисполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его исполнительный комитет. Оп. 1. Д. 1.
ГААО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 27.
Государственный архив Вологодской области (далее ГАВО). Ф. 53. Отдел управления Вологодского губисполкома. 1918-1923 гг. Оп. 1. Д. 84.
Архангельская областная организация КПСС в цифрах. 1917-1981 гг. / под ред. И.А. Наумова, Е.Г. Аушева. Архангельск : Северо-Зап. кн. изд-во, 1982. 176 с.
ГАВО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 48.
ГАВО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 49.
ГАВО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 53.
ГАВО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 479.
ГАВО. Ф. 585. Вологодский исполком губернского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 1917-1929 гг. Оп. 2. Д. 220.
ГААО. Ф. 286. Отдел управления Архангельского губисполкома. Оп. 1. Д. 67.
В поисках пути. Русская интеллигенция и судьбы России. М. : Русская книга, 1992. 381 с.
Судьбы русской интеллигенции: материалы дискуссий. 1923-1925 гг. Новосибирск : Наука, 1991. 222 с.
Халиуллин Г.Г. Исторические пути советской интеллигенции // Проблемы методологии истории интеллигенции: поиск новых подходов. Иваново : Иванов. гос. ун-т, 1995. С. 11-20.
Поморская энциклопедия : в 5 т. Т. 1: История Архангельского Севера. Архангельск : Поморск. гос. ун-т, 2001. 483 с.
Красильников С.А. «Философский пароход» в контексте советской охранительной политики начала 1920-х гг. // Толерантность и власть: судьбы российской интеллигенции : тез. докл. междунар. конф., посвящ. 80-летию «философского парохода». Пермь : Перм. регион. ин-т пед. инф. техн., 2002. С. 75-79.
ГААО. Ф. 71. Трест «Северолес» Оп. 9. Д. 11.
ГААО. Ф. 71. Оп. 9. Д. 34.
ГААО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 869.
Шубин С. И. Северный край в истории России. Проблемы региональной и национальной политики в 1920-1930-е годы. Архангельск : Поморск. гос. ун-т, 2000. 463с.
ГААО. Ф. 352. Оп. 7. Д. 81.
ГААО. Ф. 621. Северный краевой совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет. Оп. 1. Д. 446.
Государственный архив Мурманской области (далее ГАМО). Ф. 162. Мурманский окружной совет рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов, его исполком и представительство в Ленинграде. Оп. 1. Д. 267.
ГААО. Ф. 621. Оп. 3. Д. 200.
ГААО. Ф. 352. Оп. 7. Д. 59.
ГААО. Ф. 352. Оп. 7. Д. 73.
ГААО. Ф. 352. Оп. 7. Д. 66.
ГААО. Ф. 621. Оп. 3. Д. 337.
ГААО. Ф. 621. Оп. 8. Д. 2086.
ГААО. Ф. 1224. Прокуратура Северного края. Оп. 8. Д. 711.
ГААО. Ф. 1224. Оп. 8. Д. 2243.
ГААО. Ф. 621. Оп. 3. Д. 274.
ГААО. Ф. 621. Оп. 3. Д. 98.
ГААО. Ф. 3066. Редакция газеты «Правда Севера» Архангельского обкома КПСС и облисполкома. Оп. 1. Д. 540.
Гуркина Н.К. Интеллигенция Европейского Севера России в конце XIX - начале XX веков. СПб. : Нестор, 1998. 218 с.
Статистический сборник по Архангельской губернии за 1917-1924 гг. Архангельск : Губстатбюро, 1926. 704 с.
Народное хозяйство Архангельской области. Статистический сборник. Архангельск : Обл. кн. изд-во, 1957. 147 с.
ГААО. Ф. 1322. Плановая комиссия Севкрайисполкома. Оп. 1. Д. 659.
ГАМО. Ф. 213. Плановая комиссия Мурманского окружного исполнительного комитета. Оп. 2. Д. 4.
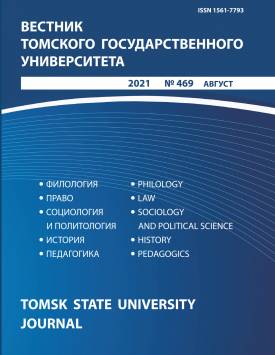

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью