Объективное время: в чем преимущества реалистического подхода к исследованию социальной темпоральности?
Предпринята попытка обосновать объектно-ориентированный подход для исследования социальной темпоральности. Показаны преимущества реализма как теоретико-методологический рамки для осмысления социального времени. Прослежены взгляды представителей неореализма и критического реализма. Показана необходимость обращения к объектноориентированному подходу для разрешения возникших ранее противоречий. Время трактуется автором как интеробъективный феномен, функция от объектов, их отношений, порядка и стремления к взаимодействию.
Objective Time: What Are the Advantages of a Realistic Approach to the Study of Social Temporality?.pdf Введение В настоящий момент конструктивистская методология представляет собой основную эпистемологическую рамку в современных гуманитарных науках. Если оставить за скобками различия среди представителей разных направлений, можно сказать, что сторонники конструктивизма исходят из того, что то, что мы называем реальностью, в определенной степени представляет собой социальный конструкт. Истоки подхода некоторые исследователи видят еще у досократиков и в римском скептицизме - представители этих направлений ставили под вопрос возможность доступа к реальности [1], однако, более оправданно будет связывать появление конструктивизма с ростом секуляризации, развитием психологии и распространением психологизма, которые стали источником новых трактовок человека как познающего субъекта и процесса познания вообще. Конструктивизм, без сомнения, позволил разрешить ряд проблем, эпистемологических ресурсов для работы с которыми ранее было не достаточно. Это касается, прежде всего, влияния различных социальных факторов и человеческого опыта, которые были осмыслены как необходимое условие объективности и достоверности. Однако применительно к современной теории познания можно говорить об определенном кризисе конструктивистской парадигмы. Постулируемая иерархия между реальностью и ее репрезентацией на деле оборачивается тем, что только репрезентация объявляется доступной познающему субъекту (а в случае крайнего конструктивизма репрезентация практически отождествляется с реальностью). В отличие от теории отражения, в рамках которой существуют конкретные критерии истинности, с позиции конструктивизма речь может идти только об образах («мир-как-выставка») [2]. В этом случае конструктивизм оказывается вариантом замкнутого круга: он признает, что действительность конструируется субъектом, но сам субъект также выступает в качестве конструкта; постулаты, на которые можно опираться в процессе познания, оказываются произвольными, а достоверность результата познания определяется только полезностью или соответствующим контекстом. Это особенно заметно в поструктуалистских теориях и работах философов-аналитиков, эвристический потенциал построений которых представляется затрудненным. Сведение философии к анализу текстов, что можно трактовать как следствие доминирования конструктивистской парадигмы, позволило решить ряд задач, недоступных для разрешения ранее, однако оставило за пределами внимания исследователей вопросы, которые волновали философов на протяжении столетий; если бытие, время, реальность оказываются только словами, то можно констатировать кризис не только эпистемологии, но и философского знания вообще. Эта ситуация стала одной из причин возврата интереса к реализму как эпистемологическому подходу. Исследование эвристических возможностей реализма и реалистического подхода к изучению социального времени является целью предлагаемой статьи. Для достижения этой цели на первом шаге будет предложена характеристика реализма как теоретикометодологической рамки, далее мы проанализируем, как сложности реалистического подхода разрешались в неореализме ХХ в. и какие трактовки социальной темпоральности содержались в этих реалистических взглядах, затем, выделив некоторые трудности проанализированных выше моделей, представим вариант их разрешения в объектно-ориентированном подходе к социальной темпоральности. Нас интересует реалистические подходы именно к социальной темпоральности, так как Хилари Пэнтам заметил, что все философские вопросы о времени были решены в специальной теории относительности и теориях последователей А. Эйнштейна [3. Р. 245], однако, добавим мы, это касается физического времени, а социальная темпоральность, на наш взгляд, продолжает нуждаться в дополнительной концептуализации. В рамках конструктивизма трактовки социального времени были перегружены разными значениями, а обоснование онтологических оснований времени находилось за пределами внимания исследователей, вследствие этого фундаментальные выводы о социальном времени были затруднены. Время, как правило, выступало как одна из функций социальных практик, что оставляло за пределами внимания исследователей его детерминирующие и конституирующие значения. Обоснование мышления о социальном времени в рамках реалистического подхода представляется нам важным, так как позволяет обосновать конституирующие значение социальной темпоральности, а также показать возможность осмысления времени за пределами функций от социальных практик и (или) социальных процессов. Реализм и неореализм в осмыслении социальной темпоральности Критика социального конструктивизма как эпистемологической рамки привела к возвращению интереса к действительности, которая все чаще трактуется в качестве онтологически присутствующего. Реализм признает существование мира, который не сводится к представлению о нем или его репрезентации в сознании действующего субъекта, т.е. реальность, с позиции представителей этого направления, наличествует вне зависимости от опыта или познавательных возможностей субъекта, наличия у него технических, методологических или логических возможностей для познания этой реальности. Субъект выступает в качестве отделенного от реальности - в отличие от социального конструктивизма, предполагающего корреляцию действительности и мышления человека об этой действительности. Возможно, выбор между реализмом и антиреализмом обусловлен теми ценностными предпосылками, которыми руководствуется исследователь, но в случае реализма он с необходимостью предполагает еще и экспликацию объективных онтологических предпосылок самого реализма. Ответить на вопрос «Что такое время?» - значит, заменить образ времени в понятийном базисе на какое-либо другое базовое понятие, опираясь на которое становится возможным обсуждать само время [4. С. 17], а вопрос о времени «с методологической точки зрения скорее сугубо метафизический по своей сути, который должен быть исследован собственными средствами метафизики» [5. С. 246]. К первым реалистам в теории познания можно отнести Парменида, настаивающего на наличии условий описания действительности; неизменность реальности оказывается у него не только ее атрибутом, но и условием для возможности ее изучения. К реализму относятся обе стороны в известном средневековом споре о природе универсалий, так как их представители настаивали на объективном существовании чего-либо, действительность которого не зависит от доступа к ней субъекту - не важно, шла ли речь о дереве как родовом понятии или реальности конкретных березы, осины, дуба или ели. Г. Гегель строит систему своей философии на объективном наличии понятия. Несмотря на сложности с концептуализацией социальной реальности, которые затрудняют реалистический подход к социальному, К. Маркс настаивает на существовании объективных исторических законов, действие которых никак не связано с возможностями их познания. Опираясь на исторический материализм Маркса, продолжали развивать реалистический подход представители советской философии истории. Об историческом реализме говорят также Э. Трельч и Ф. Майнеке. Сейчас реализм активно развивается в рамках современной философии науки. Исследователи подчеркивают, что научные теории не конструируют реальность, но описывают объективно существующие закономерности (Я. Хакинг), а реальность существует за пределами сознания познающего субъекта (А.Л. Доброхотов); об интересе к реализму свидетельствует развитие «предположительного» реализма А. Масгрейва или гипотетического реализма Г. Фоллмера, несмотря на спорность этих теорий и наличии в них осторожного компромисса с конструктивизмом. Далее мы рассмотрим, какие логические ходы были сделаны в рамках реалистических подходов и чем они полезны для исследования социального времени. Реалистические подходы ко времени можно разделить на два больших направления: реальным называется само время, вне зависимости от того, каким образом оно интерпретируется, или в качестве реального выступают основания, на которых строится время или следствием чего оно является. С позиции этого определения можно констатировать, что реализм в исследовании темпоральности выступает более распространенным, если взглянуть на всю историю философии (как и реалистические подходы к чему-либо вообще). Реальным было время как подвижный образ вечности у Платона и субстанциональные концепции теоретиков Нового времени. Однако в этих трактовках под временем имеется ввиду именно физическая, а не социальная темпоральность. Такую позицию можно связать с тем, что сам интерес к социальному, в том числе к социальному времени, проявляется только в позднее Новое время, хотя стремление к осмыслению различных проявлений нефизической темпоральности прослеживаются и ранее. Различение физического и нефизического времени можно констатировать еще в неоплатонизме, в рамках которого отдельно выделяется умопостигаемое время, определяемое только лишь как возможность для познания физической темпоральности. Средневековые философы обратили внимание на историческое время, определяемое ими как и объективное проявление божественного замысла, и субъективный человеческий выбор. Это противоречие проявляется сейчас в дискуссиях об исторических закономерностях и роли личности в истории. Развитие теории познания в Новое время приводит к распространению различения между абсолютным временем и его субъективным восприятием (И. Ньютон), но время в целом, как правило, отождествлялось с показателями часов и не осмыслялось дополнительно. Концептуализации социального как отдельного поля исследований в конце XIX в. стала источником новых трактовок темпоральности и повышения внимания к ее социальным аспектам. В работах Г. Зиммеля, М. Вебера время определялось различными аспектами социального и не трактовалось в качестве реального. Э. Дюркгейм связал время с ритмами коллективной жизни; эта трактовка надолго окажется определяющей в осмыслении социальной тем-поральности, однако такую интерпретацию нельзя отнести к реалистической. Поэтому в рамках задач, поставленных в предлагаемой статье, нас более интересуют реалистические подходы XX - начала XXI в. и идеи, связанные с социальной темпоральностью, высказанные в рамках этих направлений. Подведем промежуточный итог. На этом этапе нам важно зафиксировать следующие результаты: 1) реализм признает существование реальности, независимой от познавательных возможностей субъекта; 2) нефизические аспекты темпоральности требовали специфической исследовательской оптики; 3) социальное время выступает в качестве функции от социальных процессов. Не ставя под сомнение важность этих выводов, мы, тем не менее, подчеркнем их возможные слабые места, требующие дальнейшего обоснования. 1. Если существует реальность, которая не зависит от субъекта, то существуют ли адекватные способы доступа к этой реальности и критерии верификации полученных выводов? 2. Что может стать источником для языка описания нефизической темпо-ральности? 3. Само представление о социальных процессах, явлениях, системах оказывается достаточно дискуссионным в социальных науках, следовательно, в зависимости от разной трактовки, меняется представление о различных аспектах социального времени, а само оно ускользает от внимания исследователей. Далее мы проанализируем, какие способы разрешения указанных выше сложностей предлагали реалистические система ХХ в. Истоком нового этапа реализма стало интенсивного развитие естествознания и переосмысление идей, на которых ранее строилась теория познания. В частности, критику вызывало доминирование эпистемологического дуализма, который опирался на идеи Джона Локка. В 1912 г. вышел сборник под названием «Новый реализм. Совместные исследования по философии», в котором последовательно обосновывалось не только реальное существование каких-либо объектов, но и их непосредственная данность субъекту через трактовку познания как свойства человеческой природы [6]. Неореализм так и не стал эпистемологической парадигмой или эвристически продуктивным эпистемологическим подходом, однако некоторые его идеи (концептуализация объекта, существующего независимо от сознания познающего субъекта - Дж. Мур; возможность мышления о познании как об объекте -У. П. Монтегю) довольно успешно использовались теоретиками для достижения поставленных ими целей. Несмотря на то, что социальная темпоральность сама по себе не была в центре внимания неореалистов, отдельные идеи его представителей (или теоретиков, которые опирались на неореализм) позволили прояснить некоторые основополагающие темпоральные понятия. Альфред Уайтхед рассматривал дихотомию события и объекта, настаивая на процессуально-сти не только большинства анализируемых феноменов, но и самой природы [7]. Идеи Уайтхеда окажут влияние на акторно-сетевую теории Б. Латура и, через него, на объектно-ориентированную онтологию, о которой речь пойдет ниже. С. Александер адаптировав взгляды А. Эйнштейна для решения философских задач, оставлял статус реального только за пространством; при этом он выступал против определения пространства и времени как отношений, потому что само понятие «отношения» предполагает какие-то темпоральные аспекты, которые будут мешать осмыслению реальности пространства и пространства-времени как хронотопа в качестве движения. В система Александера пространство-время выступает субстанцией, причем эта субстанция отождествляется с движением. Материя таким образом оказывается подчиненной движению, а сознание выступает следствием эволюции хронотопа [8]. Другим реалистическим направлением ХХ в. выступает критический реализм. В 1920 г., также коллективом авторов, была выпущена работа «Очерки критического реализма» [9]. Ее авторы (среди них Дж. Сантаяна, Д. Дрейк, А. Роджерс) стремились еще дальше, чем представители неореализма, уйти от своих классических предшественников, однако остаться в рамках реалистической парадигмы. В отличие от коллег, критический реализм уделяет много внимания возможностям сознания оперировать данными, но сложности вызывало определение, что является «данными», а что уже выступает в качестве продукта их переработки. Дискуссии представителей не позволили выработать единую позицию, что выступило главной причиной распада движения уже в 1930-е гг., хотя многие авторы сборника продолжали оставаться на реалистических позициях. Как и в случае с неореализмом, представители раннего критического реализма не обращались непосредственно к социальному времени как объекту своего исследования, но развивали подходы к различным темпоральным категориям. В частности, Р.В. Селларс рассматривает пространство-время в качестве своеобразной емкости, в которой существуют материальные предметы; Сантаяна высказывался против реальности времени, так как реальным статусом могут обладать только те самые «данные». Несмотря на то, что социальное время не было объектом исследования неореалистов и ранних критических реалистов, их работы показали возможность и важность реалистических подходов, позволили переосмыслить категории субстанции и объекта. На этом этапе значимым представляется переосмысление фундаментальных онтологических оснований, с позиции которых можно говорить о социальном времени с точки зрения реализма. Однако сама темпоральность теряется за процессуальностью А. Уайтхеда, а Дж. Сантаяна оставляет статус реального только за данными (чтобы он не имел под ними в виду). Следующий этап критического реализма начинается в 1970-х гг. с прояснения некоторых аспектов научного познания и осмысления места социальных факторов в процессе познания. Р. Бхаскар исходит из базового постулата о реальности исследуемого мира. Исследователь не способен к конструированию смысла реально действующих агентов и происходящих процессов, так как каузальность, с точки зрения Бхаскара, выступает следствием самого генеративного механизма, а не каких-либо событий. В отличие от предшественников, Бхаскар смог, при помощи своей методологии, создать эпистемологическую рамку, подходящую для решения разнообразных исследовательских задач. Бхаскар также настаивает на реальности самого общества, подчеркивая, что его существование предшествует существованию индивида [10. Р. 77], а не конструируется им в процессе каких-либо взаимодействий. Жизненный мир, который вошел в социальные науки после адаптации идей Э. Гуссерля А. Шюцом, оказывается только следствием контекстов, в рамках которых индивиды зарабатывают опыт [10. Р. 97]. Поэтому люди могут только изменять или воспроизводить существующую социальную структуру, а не создавать ее [11. Р. 33-34]. Реальность социального, на которую опирается Бхаскар, сделала обоснованным исследование социального времени, хотя сам автор этого шага не делал. Последователь Бхаскара Маргарет Арчер разрабатывает «морфологический/морфостатический подход (М/М)» [12], в котором ключевое значение отводится темпоральному фактору. Продолжая, как Бхаскар, настаивать на реальности общества, Арчер, прежде всего, обращает внимание на проблему возникновения социальных акторов. Это позволяет исследовать проблемы социальной динамики, не акцентируя проблемы темпоральной синхронизации, однако акцент на возникновении заставлять Арчер интерпретировать время как линейное и однонаправленное. Таким образом, в центре ее внимания оказываются проблемы последовательности и доказательства эмержентносто-сти каузальности; постулируемая Арчер невозможность синхронности приводит к необходимости отдельного исследования социальных структур, социальных практик, взаимодействий и так далее [12]. Идеи Бхаскара и Арчер позволяют нам сделать следующий шаг в формировании реалистического подхода в исследовании социальной темпоральности. Мы можем мыслить социальное и социальное время в частности, с опорой не только на слабо концептуализированные «практики» или «системы», а через социальные акторы, исследование морфогенеза которых повышает обоснованность этой категории. Также важным представляется осмысление социального, априорная реальность которой позволяет проанализировать возможность реалистического подхода к социальной темпоральности. Однако линейность и однонаправленность времени, постулируемая в критическом реализме, сужает возможности использования этой теории. Разрешению этих затруднений будет посвящена заключительная часть нашей статьи. Таким образом, реалистический подход к изучению социального времени должен или обосновать реальность социального времени, или обосновать реальность оснований, с позиции которого возможно мышление о социальном времени. Первой вариант не получил поддержку в философских исследованиях, скорее всего, потому что обоснование реальности именно социального времени противоречит как современным научным данным, так и здравому смыслу, к тому же обосновать эвристическую продуктивность такого подхода довольно затруднено. Второй вариант должен постулировать наличие каких-либо оснований, в качестве функций от которых можно было мыслить социальное время. Материя, идея, реальность общества не могут выступать в качестве таких оснований, как мы показали выше. «Объективная» онтология и социальное время Мы считаем, что в качестве таких онтологических оснований могут выступать объекты. Мы рассматриваем объекты в трактовке Г. Хармана, т.е. объект «обозначает любую единичную реальность - будь то атомы, овощи, нации или песни - подвергающиеся изменениям или поддерживающие множество представлений, оставаясь при этом той же» [13], и подчеркиваем, что «дело не в том, что все объекты в равной степени реальны, а в том, что они в равной степени объекты» [14. С. 16]. Объект не сводится к его качествам, непознаваем; радикальный монизм Г. Хармана противостоит как идеализму, так и материализму. Реальность в соответствии с этими взглядами трактуется как мир объектов, при этом существование чего-либо признается тождественным реальности этого, а сама реальность представляет собой только реальность объектов. Опора на объекты в той или иной степени характерна также для объект-центричной социологии К. Кнорр-Цетины, corpus' Ж.-Л. Нанси, новой социальной теории М. Деланды, современных представителей плоской онтологии (Ян Богост, Тимоти Мортон и др.). Мы подчеркиваем, что объекты, при признании их реальности, могут заменить место социальных акторов Арчер, материи, идеи как фундаментального онтологического основания для мышления о социальном времени. В дальнейшем мы будем опираться на взгляды Г. Хармана и Л. Брайанта, философские идеи которых строятся на констатации фундаментального онтологического статуса объектов. Признавая реальность объектов, их самореферентность, «демократию объектов», мы можем констатировать конституирующие значение различных объектов для конструирования социального вообще и социальной темпоральности, в частности. Предлагаемый реалистический подход к исследованию социального времени строится на принципах плоских онтологий, в соответствии с которыми ни один из объектов не обладает привилегированным доступом или каким-либо статусом, который предполагает возможность иерархии; следствием этого тезиса является признание «демократии объектов» (Леви Брайант) [15], т.е. равнозначности доступа различных объектов (человека, муравья, стула, картины, песни и т.д.) к реальности. Можно сказать, что реальным оказывается только эмпирический мир, но опытом может обладать не только человек, но и любой объект. Следствием «демократии объект ов» выступает нелинейность как важный эпистемологический принцип. В нашем подходе время мыслится как интеробъективный феномен. Интеробъективность постулирует конституирующее значение различных объектов для конструирования социального [16]. В нашей трактовке это означает, что различные объекты, независимо от их статуса (люди и не-люди, материальные, идеальные объекты и т.д.), обладающие имманентно присущей им агентностью, конституируют социальность вообще и социальную темпоральность в частности. Такая трактовка с некоторыми оговорками характерна и для теоретического подхода Б. Латура, однако отологическим статусом в его системе обладают не объекты, а отношения и взаимодействия. Мы, сохраняя первоначальную интуицию Б. Латура считаем, что интеробъективность означает то, что различные объекты, независимо от их статуса (люди и не-люди, материальные, идеальные объекты и т.д.), обладающие имманентно присущей им агентностью, конституируют социальность вообще и социальную темпораль-ность в частности. Так как предлагаемая нами трактовка объектов отрицает крайний релятивизм подхода Б. Латура, получившаяся модель позволяет избежать чрезмерного актуализма акторно-сетевой теории, потому что оказывается возможным мыслить не только то, что фактически дано, но и существующие независимо от взаимодействий объекты. Также категория агентности, которая в системе Латура относится только к акторам, переносится нами на объекты и предстает их важным атрибутом. Далее важной характеристикой объектов мы считаем самореферентность. Эта категория используется вслед за Леви Брайантом, который, опираясь в свою очередь на переосмысление Луманом идей аутопой-есиса Умберто Матураны и Франциско Валерой, связывал самоописание с системой различений, которая свойственна любым объектам. Этот тезис позволяет нам избежать необходимости фигуры наблюдателя, характерной для сложившейся социальной теории, и соответствует принципам «плоской онтологии». Применительно к социальной темпоральности этот подход позволяет мыслить социальное время с опорой на фундаментальные онтологические основания, что дает возможность несколько нивелировать искажения взгляда наблюдателя. Вместо эссенциалистско-го представления о социальном, мы предлагаем мыслить социальное как следствие взаимодействий объектов. Социальное время становится функцией от объектов, их отношений, порядка и стремления к взаимодействию. В отличие от проанализированных выше моделей, опора на объекты позволяет рассматривать время не только как линейное и однонаправленное (что особенно важно для осмысления социальной темпоральности), однако сохраняется реалистическая интенция. За счет трактовки объекта, противостоящей материализму и идеализму, расширяется поле исследований социальной темпоральности, а само время может изучаться за рамками дихотомии материаль-ное/идеальное; также социальное время не противостоит физическому, так как нельзя выделить только «социальные» или «физические» объекты (материальные и идеальные, искусственные и природные и так далее). Эпистемологический вектор таким образом может переместиться с исследования социальных практик или ритмов социальной жизни на потенциал изменений, которые содержатся в объектах и объектно-ориентированных трактовках каузальности. Выводы Итак, конструктивизм позволяет акцентировать внимание исследователей на связи социального и тем-поральности, конструировании времени через социальное и социального при помощи времени. Слабостью конструктивизма оказывается невозможность найти объективные основания для концептуализации темпо-ральности, что приводит к ошибочным суждениям не только о времени, но и о социальных процессах, связанных с ним. Реализм признает реальность времени или реальность чего-либо, через что определяется время, благодаря этому оказывается возможным осмысление социальной темпоральности без связи с также слабо концептуализированными социальными процессами, функциями, явлениями, однако исследование нефизической темпоральности вызывает сложности из-за отсутствия ее объективных оснований. В отличие от проанализированных в статье интерпретаций, в нашей модели мы утверждаем, что реален объект, а не отношения, как, например, в релятивистских онтологиях, или идея, как было в классическом идеализме. Это позволяет выйти из замкнутого круга самокритики постструктурализма и еще более закрытой башни из слоновой кости крайнего социального конструктивизма, а также мыслить социальную тем-поральность с позиции онтологических оснований, позволяющих, конечно, не избежать совсем, но стараться нивелировать возможные искажения взгляда наблюдателя, также абстрагироваться от специфики, связанной с обусловленностью когнитивных процессов идеологическим и культурным контекстом, и сведения времени к аспектам социальных практик (постулируемого в социальном конструктивизме).
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 39
Ключевые слова
время, социальное время, реализм, неореализм, критический реализм, объектно-ориентированный подход, плоская онтология, объектно-ориентированная онтологияАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Головашина Оксана Владимировна | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | д-р филос. наук, ведущий научный сотрудник Уральского гуманитарного института | ovgolovashina@mail.ru |
Ссылки
Глазерсфельд Э. Введение в радикальный конструктивизм // С. Цоколов. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. Munchen : Verlag Munchen, 2000. С. 74-98
Mitchell T. Colonising Egypt. Berkeley, Los Angeles : University of California Press, 1991. 240 р
Putnam H. Time and Physical Geometry // Journal of Philosophy. 1967. № 64. P. 240-247
Левич А.П. Почему скромны успехи в изучении времени // На пути к пониманию феномена времени: конструкции времени в естествознании. М., 1994. Ч. 3. С. 15-29
Зима В.Н. Онтология материального бытия и проблема времени в философии и науке // Преподаватель XXI век. 2013. № 2. С. 238-249
Holt E.B., Marvin W.T., Montague W.P., Perry R.B., Pitkin W.B., Spaulding E.G. The New Realism: Cooperative Studies in Philosophy. New York : The Macmillan Company, 1912. 552 p
Уайтхед А.Н. Процесс и реальность // Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М. : Прогресс, 1990. С. 272-303
Alexander S. Space, Time and deity. The Gifford lectures at Glasgow 1916 -1918. London : Macmillan and co., limited, 1927. Vol. II. 462 p
Essays in Critical Realism: A Cooperative Study of the Problem of Knowledge / ed. by Durant Drake et al. London : Macmillan, 1920. 258 p
Bhaskar R. Reclaiming Reality. London : Verso, 1989. 218 p
Bhaskar R. The possibility of naturalism. A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences. London ; New York : Routledge, 1989. 208 p
Арчер М. Реализм и морфогенез // Социологический журнал. 1994. № 4. С. 50-68
Харман Г. Сети и ассамбляжи: возрождение вещей у Латура и Де Ланда. URL: http://vk.com/doc271784829_364999824? hash=13f6d21b3bd8f0f9a2&dl=974725fa2120a601ae (дата обращения: 01.03.2021)
Харман Г. Четвероякий объект. Метафизика вещей после Хайдеггера. Пермь : Гиле Пресс, 2015. 150 с
Bryant, L. The Democracy of Objects. Michigan : MPublishing, 2011. 318 р
Латур Б. Об интеробъективности // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6, № 2. С. 79-96
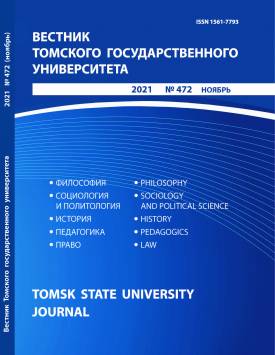
Объективное время: в чем преимущества реалистического подхода к исследованию социальной темпоральности? | Вестник Томского государственного университета. 2021. № 472. DOI: 10.17223/15617793/472/3
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 580

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью