–Ш—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ—В—Б—П —А—П–і –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ –≤—Л—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е, –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, —Н–Ї—Б–њ–ї–Є—Ж–Є—А—Г—О—В—Б—П —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є. –Ю—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї, –љ–Њ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–µ—В –µ–µ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–Є—А–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.
Theoretical Aspects of the Concept of Historical Cognition by Fernand Braudel.pdf –Т XX –≤. –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Г–Ї–∞ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–є—В–Є –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П (–≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Њ–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, —А–µ—И–∞—П –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–µ –µ–Љ—Г –Ј–∞–і–∞—З–Є). –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М —И–Є—А–µ –Є –≥–ї—Г–±–ґ–µ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—Е–µ–Љ. –≠—В–∞ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ, –≤ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П—Е –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Ь. –С–ї–Њ–Ї–∞ –Є –Ы. –§–µ–≤—А–∞, –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ —В—А—Г–і–∞—Е –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П, —З–µ–Љ –Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XX –≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ–ї–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є: –њ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—О –Ш. –Т–∞–ї–ї–µ—А-—Б—В–∞–є–љ–∞, ¬Ђ—П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М —Б–Є–ї—Г –±–µ–Ј –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ—Л—Е –≤–љ—Г—В—А—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–∞, —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –±–µ–Ј –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ—Л –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є¬ї [1. –°. 126-127]. –Ю–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –Ш. –Т–∞–ї–ї–µ—А—Б—В–∞–є–љ —Б—З–Є—В–∞–ї —В—А—Г–і –Ь. –С–ї–Њ–Ї–∞ ¬Ђ–§–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬ї [1. –°. 125]. –Ш —Н—В–∞ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ь. –С–ї–Њ–Ї –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л –µ–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П —Н—В–Њ—В –њ–Њ–і—Е–Њ–і –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —А–µ—З—М –≤ –љ–µ–є –Є–і–µ—В –Њ–± –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, –≤ –љ–µ–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–Є –Є –Њ–±—Й–µ–љ–∞—Г—З–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Э–µ–ї—М–Ј—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –∞—Б–њ–µ–Ї—В–Њ–≤, –љ–Њ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ—Б—М –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞—А–љ–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Њ—В–љ–µ—Б–ї–Є—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ –Ї –њ—А–Є–≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –≤–µ—А–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В—В–Њ–≥–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Х—Б–ї–Є –Ы. –•–∞–љ—В –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞, —З—В–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—В —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –∞ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ - –Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—В—Г—А–∞ - —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ [2. –†. 211-212], —В–Њ –Ф–ґ. –•–µ–Ї—Б—В–µ—А –±—Л–ї –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, —В–∞–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–≤ —Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є –Њ—В—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ [3. –†. 531-533]. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –°. –Ъ–Є–љ–Ј–µ—А–∞, –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞–Љ –Ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є–і–µ–µ ¬Ђ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤¬ї –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ї—О–і–µ–є, –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤–µ—А–µ–љ —Б–Є–љ—В–µ–Ј—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –љ–∞—Г–Ї–∞–Љ–Є –Њ–± –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –Љ–Њ–і–µ–ї—М ¬Ђ–≥–µ–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї —Б —Б–Є–љ—В–µ–Ј–Њ–Љ –≥–µ–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —Б —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ —В–µ–Љ–њ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е [4. –†. 64, 66, 77]. –Х—Б–ї–Є –°. –Ъ–Є–љ–Ј–µ—А –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Ї —И–Ї–Њ–ї–µ ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї –Ј–∞ –Њ—В—Е–Њ–і –Њ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤, —Б—З–Є—В–∞—П –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—М —А–Њ–ї—М –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –Љ–µ—В–Њ–і–∞ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, —В–Њ –Р. –ѓ. –У—Г—А–µ–≤–Є—З –Ј–∞–љ—П–ї –Є–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О: –Њ—В–Ї–∞–Ј –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Њ—В –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є, –Њ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ–і–µ—В –Ї –љ–µ–і–Њ–Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –љ–Њ –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Г—Б–Њ–Љ–љ–Є—В—М—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —И–Ї–Њ–ї–µ ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї [5. –°. 146147]. –≠—В–Њ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–µ–љ –љ–∞ —В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Т. –Т–ґ–Њ–Ј–µ–Ї–∞, —З—В–Њ —Ж–µ–љ—В—А —В—П–ґ–µ—Б—В–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П —П–≤–љ–Њ —Б–Љ–µ—Й–µ–љ –љ–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ [6. –°. 152-153]. –Т —Н—В–Є—Е –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞—Е –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П —В—А–Є –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞: —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Г—А–Њ–≤–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Н—В–Њ–Љ—Г —Е—А–Њ–љ–Њ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Љ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Є—Е –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –ї—О–і–µ–є –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П, –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–Є –љ–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –і–∞—О—В –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–і–µ–є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤–Є–і—П—В –≤ –љ–Є—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л—Е –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Л—Е —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–є. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –°. –°–∞–љ–і–µ—А—Б–Њ–љ–∞, –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –ї–Є—И—М –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Ж–µ–њ—М —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –љ–µ –њ—Л—В–∞—П—Б—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П. –° —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –±—А–Њ–і–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Є–і–µ—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–Љ–Њ–є –і–ї—П —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—П –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ—Л ¬Ђ–Љ–µ–≥–∞–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї [7. –°. 67]. –Ф–ґ. –Р—А—А–Є–≥–Є –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–µ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –±—Г–і—Г—В –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Љ–∞–Ї—А–Њ-, —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ- –Є –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ [8. –†. 110]. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ш. –Т–∞–ї–ї–µ—А—Б—В–∞–є–љ—Г, —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є–љ—Г—О, –Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—В—Г—А–љ—Г—О –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Г—О (–і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Г—О) –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Л–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ—М –ї—О–і–µ–є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –љ–Њ –Є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О—Й–Є–µ—Б—П —Ж–Є–Ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–Є—В–Љ—Л —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А; –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ [9. –†. 291]. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–ї—О—З –і–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М [10. –†. 168]. –Х—Б–ї–Є –Ф–ґ. –•–µ–Ї—Б—В–µ—А —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Н–≤—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ —В—А–µ—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є–є, —В–Њ –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Є–і–µ—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –µ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≤ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є, —Б–Њ–±—Л—В–Є–є–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Г–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В –Є–Ј –≤–Є–і—Г, –Ї–∞–Ї–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П. –Ю–±–Њ–±—Й–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ, —Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М: —З—В–Њ–±—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М —З–Є—Б—В–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т –љ–∞—Г—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–µ–є –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е –Ї–∞–Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –µ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Т —Б–≤–µ—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є, –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є—Е —Д–∞–Ї—В–∞–Љ –Є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –Њ—В–њ—А–∞–≤–љ—Л–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є. –≠—В–Є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –Є –љ–µ —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—А–Є—Д–Є—Ж–Є—А—Г–µ–Љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –љ–∞ –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–µ—А–Є—Д–Є—Ж–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–є. –≠—В–Њ—В –њ—Г—В—М –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Є –Њ–±—Й–µ–љ–∞—Г—З–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞—В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—Е–µ–Љ—Л, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —В–µ–Њ—А–µ-—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –љ–Њ —Н—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є—П –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В—М –µ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–µ –Є –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –µ–µ —Б —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П. –Я–µ—А–≤—Л–Љ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–і–µ—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–Њ—А–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –Є–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Т—В–Њ—А—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Љ–Є—А–∞—Е-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞—Е –Ї–∞–Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—Е. –†–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є—Е –њ—А–Є—А–Њ–і—Г, –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –њ—А–Є–≤–љ–Њ—Б–Є—В –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ–љ–∞—Г—З–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –Є–Љ–њ–ї–Є—Ж–Є—В–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ, –Њ–љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –≤ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ, –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–Є–Ї—А–Њ—Г—А–Њ–≤–љ—П –Є –Љ–∞–Ї—А–Њ—Г—А–Њ–≤–љ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г –≤ –љ–Њ–≤—Л–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Є –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≥–µ–љ–µ–Ј–Є—Б –±—А–Њ–і–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–∞–Ї –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–і–µ—П–Љ–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї, —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Є–і–µ–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤; –≤ —Б–Є–ї—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –±—А–Њ–і–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –µ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Є–Љ–µ–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Є—Е –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –°–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–Љ. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ –Њ—В—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В —А—П–і–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л—Е –Ь. –С–ї–Њ–Ї–Њ–Љ –Є –Ы. –§–µ–≤—А–Њ–Љ, –љ–∞ —З—В–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ, –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М —А–∞–Ј–≤–Є–ї —А—П–і –Є–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –≤–Є–і–µ. –Ґ–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї–Њ–Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–≤–µ—Б—В–Є –Ї –і–≤—Г–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–Љ. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Ь. –С–ї–Њ–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П - —Н—В–Њ –љ–∞—Г–Ї–∞ ¬Ђ–Њ –ї—О–і—П—Е –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї [11. –°. 18], –Ы. –§–µ–≤—А —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П - –љ–∞—Г–Ї–∞ –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, —Д–∞–Ї—В–∞—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є [12. –°. 19]. –Ъ–Њ–љ–Ї—А–µ—В–Є–Ј–Є—А—Г—П —Н—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –Ь. –С–ї–Њ–Ї –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є ¬Ђ—Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ —Г–Ј–ї–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –ї—О–і–µ–є¬ї [11. –°. 89]. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —И–Ї–Њ–ї–∞ ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—В–µ—В–∞, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є –±—Л—В–Є—П –ї—О–і–µ–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Є—Е –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є - —В–µ—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є —Б–∞–Љ–Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—О—В —Б–≤–Њ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –±—Л—В–Є–µ –Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, —Ж–µ–ї–Є –Є —Б–Љ—Л—Б–ї –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ. –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М —В–Њ–ґ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –ї—О–і–µ–є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –љ–Њ –њ–Њ–і –Є–љ—Л–Љ —Г–≥–ї–Њ–Љ –Ј—А–µ–љ–Є—П: –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–ї—О–і–Є –Є –≤–µ—Й–Є, –≤–µ—Й–Є –Є –ї—О–і–Є¬ї [13. –°. 41]. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞, –Њ–љ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О—Й–∞—П—Б—П, –≤—Б–µ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–∞—П, –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–µ—В –њ–Њ–і –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —А—Г—В–Є–љ—Л¬ї [13. –°. 38], –µ–є –њ—А–Є—Б—Г—Й–∞ –Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є–љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В—М, –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–ї—П –љ–µ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л–є –њ—А–µ–і–µ–ї, –Њ—З–µ—А—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ї—О–і–µ–є [13. –°. 37, 39]. –≠—В–Њ—В —А–∞–Ї—Г—А—Б —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М —Н—В—Г –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г –љ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В, –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А—Г—П –≤–љ–µ—И–љ—О—О —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –ї—О–і–µ–є, –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ–Љ—Г—О –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А –љ–∞ –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б–Њ–±—Л—В–Є–є¬ї –Є ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А¬ї. ¬Ђ–°—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л¬ї –≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–µ –≤—Л—А–≤–∞—В—М—Б—П –Є–Ј ¬Ђ–њ–ї–µ–љ–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є¬ї; –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є - —Н—В–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є [14. –°. 32-33, 36-37]. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Љ–Њ–і–µ–ї—М —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ —Г–ґ–µ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Є –Ј–∞–і–∞—З –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Б–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є (–Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–µ—З—М –µ—Й–µ –њ–Њ–є–і–µ—В –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ). –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Ь. –С–ї–Њ–Ї –Є –Ы. –§–µ–≤—А –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О ¬Ђ—В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ь. –С–ї–Њ–Ї–∞, –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ, ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї, ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, ¬Ђ—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—Й–Є–є –≤ —Б–µ–±–µ –Є—Е –≤—Б–µ—Е¬ї [11. –°. 86]. –Ы. –§–µ–≤—А —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–∞—П –≤–Њ –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є¬ї [12. –°. 25]. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ, –≤—Б–µ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ї—О–і–µ–є, —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤. ¬Ђ–Ґ–Њ—В–∞–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П¬ї –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–∞ –±—Л—В—М –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ (–≤ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї -—Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П). –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О ¬Ђ–≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–є –≤ –і–≤—Г—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–∞—Е. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤ —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–Є–Є —Б –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–µ–є ¬Ђ—В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї –Њ–љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –µ—Б—В—М ¬Ђ–Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤¬ї –Є ¬Ђ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є. –Х–µ –њ–Њ—З–≤–∞, –µ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Б—Г—В—М —А–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —В–µ –њ–Њ—З–≤–∞ –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –≥–і–µ –њ–Њ—Б–µ–ї—П—О—В—Б—П –Є –ґ–Є–≤—Г—В –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є - –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–∞—П, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, - –±–µ—Б–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ—Б—П, –і–∞–±—Л –µ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –ї–Є–±–Њ —Б —В–µ–Љ –ґ–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М¬ї [15. –°. 39]. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, ¬Ђ–≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є. –†–∞–Ј—К—П—Б–љ—П—П –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А—Г ¬Ђ–≤—А–µ–Љ—П –Љ–Є—А–∞¬ї, –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, ¬Ђ–Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, —А–∞–Ј—А—Л–≤—Л, –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є: ¬Ђ–≠—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Љ–µ—Б—В –Є —Н–њ–Њ—Е —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є¬ї [15. –°. 7-8]. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П –Ј–∞–і–∞—З–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Ь. –С–ї–Њ–Ї –Є –Ы. –§–µ–≤—А - –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –µ–µ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л. –≠—В–Њ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Є - –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ - –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є, –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ—И–µ–ї –і–∞–ї—М—И–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї –Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤ –µ–µ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Є —Б—Г–Ј–Є–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г, —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–≤ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –Р. –Ґ–Њ–є–љ–±–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї –±–ї–Њ–Ї–Є—А—Г–µ—В —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, –Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ. –Ф–ї—П —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї –±—Л–ї–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Г—А–Њ–≤–љ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ—А–Є–Ј–Љ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є –Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—В–µ—В–∞. –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Є–Ї—А–Њ—Г—А–Њ–≤–љ—П –Ї –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Љ–∞–Ї—А–Њ—Г—А–Њ–≤–љ—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—В–µ—В–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –і–ї—П –µ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞, —З–µ–Љ –Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –Њ—В–Ї–∞–Ј –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Њ—В —Н—В–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Г—А–Њ–≤–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Є–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є. –Ф–ї—П –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –µ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ –Є–љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Є –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є. –≠—В–Њ—В –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Є –±—Л–ї —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ –њ—Г—В–µ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Є—А–Њ–≤-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї –Є –Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ. –Т –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є—Е –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤–∞—П –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б—М —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Њ—В–ї–Є—З–љ–∞—П –Њ—В —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї (–Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–ґ–µ). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Є–Љ–µ–ї–∞ –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б –Є–і–µ—П–Љ–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –њ–Њ–і —Г–≥–ї–Њ–Љ –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–µ–є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М —В—А–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л—Е –∞—Б–њ–µ–Ї—В–∞ —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є. –Я–µ—А–≤—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В - –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Ь. –С–ї–Њ–Ї –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—Ж–Є–µ–є: ¬Ђ–Т—А–µ–Љ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є - —Н—В–Њ –њ–ї–∞–Ј–Љ–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–ї–∞–≤–∞—О—В —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ—Л, —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л —Б—А–µ–і–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ–Њ–љ—П—В—Л¬ї [11. –°. 18-19]. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ—Л: ¬Ђ–Э–µ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –љ–µ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ. –Э–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ —В—Й–µ—В–љ—Л –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –њ–Њ–љ—П—В—М –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ¬ї [11. –°. 27]. –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–ї —Н—В–Њ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і: ¬Ђ–Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–∞—О—В—Б—П¬ї [14. –°. 43]. –Ю–љ –≤–Є–і–µ–ї –Є—Е —Б–≤—П–Ј—М, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—О—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ-–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –≤–µ–і—М ¬Ђ–Ј–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–∞–Љ–Є –≤—Л—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—О—В—Б—П, –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–∞—О—В –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В—Л –Љ–Є–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ...¬ї [16. –°. 19]. –Ш ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ: –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—Е –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –ґ–Є–Ј–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є [13. –°. 34]. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—И–ї—Л–Љ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–µ—В —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤—Б–µ–Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—Й–Є–є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г—Г–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –≤—Б–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Ь. –С–ї–Њ–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є—В—М —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–µ—Б—П —З–ї–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ –≤–µ–Ї–∞–Љ –Є —А–∞—Б—И–Є—А–Є—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї –µ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П: ¬Ђ–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–ї—М–Ј—П –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–Є–є –≤—В–Є—Б–љ—Г—В—М –≤ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–Ј–Ї–Є–µ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Љ–Ї–Є¬ї [11. –°. 104]. –≠—В–∞ –Є–і–µ—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ї–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–Љ –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ ¬Ђ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Є–Љ –≤–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ—З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–∞—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В –Њ—З–µ–љ—М –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ-–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –±–µ–Ј–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ї—О–і–µ–є, –љ–Њ –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є—Е –љ–∞ –љ–Є—Е –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М: ¬Ђ–≠—В–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ—Л, –љ–Њ, –љ–∞–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ –Ї –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є—П–Љ¬ї [17. –°. 17]. –Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е, –Ь. –С–ї–Њ–Ї –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–Љ—Г —В–Є–њ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є–є ¬Ђ–њ—А–Є—Б—Г—Й–∞ —Б–≤–Њ—П, –Њ—Б–Њ–±–∞—П –Љ–µ—А–∞ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П, —Б–≤–Њ—П, —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П¬ї [11. –°. 104]. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–Њ—А–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –≠—В—Г –Є–і–µ—О –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М —А–∞–Ј–≤–Є–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –Љ–љ–Њ–≥–Њ-—Г—А–Њ–≤–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: –љ–Є–ґ–љ–Є–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї, –љ–∞–і –љ–µ–є –љ–∞–і—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ—А—Л–љ–Њ—З–љ–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞¬ї, –∞ –љ–∞–і –љ–µ–є ¬Ђ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ¬ї [13. –°. 33-34]. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞—Б–њ–∞–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —А–Є—В–Љ—Л –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є: –љ–Є–ґ–љ–Є–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В ¬Ђ—З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–∞—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї, —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–∞—П –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–µ –Њ—В –ї—О–і–µ–є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, –љ–∞–і –љ–Є–Љ –љ–∞–і—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–≤—А–µ–Љ—П –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, —В–µ–Ї—Г—Й–µ–µ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ф–≤–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—В—Г—А—Л - —Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–Є–µ ¬Ђ—В—А–µ–љ–і—Л¬ї –Є ¬Ђ—Ж–Є–Ї–ї—Л –Ъ–Њ–љ–і—А–∞—В—М–µ–≤–∞¬ї - —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—О—В—Б—П –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ [15. –°. 72-77]. –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г ¬Ђ–Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—В—Г—А—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј—Г—З–∞—В—М –≤–Њ –≤—Б–µ–є –µ–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ, –Є –±—Л–ї–Њ –±—Л –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ –Є—Б–Ї–∞—В—М –µ–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є–љ—Л—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –Є –≤ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Л—Е —Ж–Є–Ї–ї–∞—Е, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є - –≤ –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤ –≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П—Е. –Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є –≤—А–µ–Љ—П –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Є –љ–µ—А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–Љ—Л¬ї [15. –°. 79-80]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–µ–Њ—А–Є–Є: –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –љ–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є. –Т—В–Њ—А–Њ–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В - –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –њ—А–Є—А–Њ–Ф–љ–Њ–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –±—Л—В–Є–µ. –Ь. –С–ї–Њ–Ї —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –љ–µ–ї—М–Ј—П —А–µ—И–∞—В—М –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е ¬Ђ–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Б–µ–≤–і–Њ–і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г ¬Ђ–∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П¬ї –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Є–Ј—Г—З–∞—В—М ¬Ђ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Є—Е —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–Њ–є - —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –і–≤—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї—О–і–Є –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–є –Љ–Є—А –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О¬ї [11. –°. 85]. –Ш –Ы. –§–µ–≤—А, –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–µ—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О, —В–Њ –Є –Ј–µ–Љ–ї—П, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї [12. –°. 174]. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Д–∞–Ї—В–Њ—А, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –љ–Њ –љ–µ —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –±—Л—В–Є–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г ¬Ђ–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—А–µ–і–∞ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–ї—П –ї—О–і–µ–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П¬ї [18. –°. 30], –ї—О–і–Є —Б—В—А–µ–Љ—П—В—Б—П –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М –µ–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ, –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –Є –Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–Є–≤–∞—О—В –µ–µ: ¬Ђ. –Њ—В–≤–µ—В—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Л –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—О—В –µ–≥–Њ –Є–Ј –њ–ї–µ–љ–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ –Є–Љ –ґ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—В–≤–µ—В–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є—П–Љ. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞, —З—В–Њ–±—Л —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—П –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г¬ї [19. –°. 42]. –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –љ–µ –±—Л–ї —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞: —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Б—А–µ–і—Л –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–Є–≤–∞—О—В –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –ї—О–і–µ–є –љ–µ –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О, –∞ —З–µ—А–µ–Ј –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П, —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—П–≥–Њ—В–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є, –∞ –љ–µ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Њ–љ –≤–≤–Њ–і–Є—В –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–±—И–Є—А–љ–µ–є—И–Є–є –Љ–Є—А ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Г—О ¬Ђ–Ї–Њ—А–љ–µ–≤—Г—О¬ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П –ї—О–і–µ–є. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–∞ –љ–∞ —А–Њ–ї–Є –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –±—Л—В–Є–Є –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Є–Ј–≤–љ–µ, –∞ –љ–µ –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є. –°–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –∞—Б–њ–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ–љ—П—В—М —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г –§. –С—А–Њ–і–µ–ї–µ–Љ –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є: –ї—О–±–∞—П –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ, –Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ, –Њ–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г–Ї–ї–∞–і—Л, –Є–Љ–µ–µ—В —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є –Ї–∞—А–Ї–∞—Б —Б —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–Љ–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞–Љ–Є, –њ—А–Є–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї, –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ—О—В –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –Љ–Є—А–µ –Є —Б–∞–Љ–Є—Е —Б–µ–±–µ –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—О—В —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л [19. –°. 39-65]. –Т –і—Г—Е–µ –Є–і–µ–є –Р. –Ґ–Њ–є–љ–±–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –ї—О–±–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В—Б—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ ¬Ђ—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –≤—Б–µ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –і—Г—Е, —Б—В–Є–ї—М –ґ–Є–Ј–љ–Є (–≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П—Е —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞), –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ... –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Є–Ј –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е¬ї [15. –°. 60]. –Т —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞ –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–ї—Б—П –Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Д–∞–Ї—В–Њ—А–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і—Е–Њ–і—Г: —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–µ—В—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–є - –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е, —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –і–µ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, - –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ [19. –°. 49]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ–є —Б–µ—В–Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П—Е –Є –µ–≥–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. –Ґ—А–µ—В–Є–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В - –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —И–Є—А–µ - —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ - –Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П ¬Ђ—В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –Љ–µ–ґ–і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї. –Ы. –§–µ–≤—А –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Г–Ї–∞ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –њ–Њ–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є –≤–љ—Г—В—А–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–∞ —Б–Њ—Ж–Є–Њ–≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ [12. –°. 20]. –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–ї —Н—В–Њ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–µ –≤–Є–і—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї [14. –°. 32]. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –±—Г–і—Г—З–Є –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ-—Б–Њ–±—Л—В–Є–є–љ—Л–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є, –Ь. –С–ї–Њ–Ї –±—Л–ї —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О [11. –°. 89]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П –љ–∞ —З–Є—Б—В–Њ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–Є —Д–∞–Ї—В–Њ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ь. –С–ї–Њ–Ї –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–љ–Є –Њ–і–љ–∞ –љ–∞—Г–Ї–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М –±–µ–Ј –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—Ж–Є–Є. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –±–µ–Ј –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї [11. –°. 84]. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є (—А–∞–±–Њ—З–µ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л) [12. –°. 14], –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±—Г–і–µ—В –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞. –†–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—П —Н—В–Њ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і, –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј [14. –°. 42]. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –Р. –ѓ. –У—Г—А–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ —В—А—Г–і–∞—Е –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ь–Њ–љ–±–ї–∞–љ¬ї —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ–≤–ї–µ—О—Й–µ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ [5. –°. 153]. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О, —Б–Њ–±—Л—В–Є–є–љ—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї –Ї–∞–Ї –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й—Г—О –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ [14. –°. 33], –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В. –Э–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ —В—А–µ—В–Є–є —В–Њ–Љ —В—А—Г–і–∞ –Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П–µ—В –≥–ї–∞–≤–∞, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–∞—П —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Љ–Є—А–Њ–≤-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П, —Н—В–∞ –≥–ї–∞–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є ¬Ђ—В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Њ–њ—Л—В —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є¬ї [15. –°. 81], –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—П —Д–∞–Ї—В–Њ–≤. –Ф–ї—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞—Г–Ї–Њ–є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–є—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–µ–є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–Њ—А–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ–ї–љ–∞—Е –Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—В—Г—А—Л -—Н—В–Њ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ—А–Є–Ј–Љ—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—П —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–∞—П –Є—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О. –≠—В–Њ–є –ґ–µ —Ж–µ–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Љ–Є—А–Њ–≤-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї, –µ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –Њ–і–Є–љ —А—П–і —Б –Љ–Њ–і–µ–ї—П–Љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є—А–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П, –Њ–љ–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—В —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А—Г—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј—М —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П, —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –љ–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–±–µ–≥–љ—Г—В—М –Ї —П–Ј—Л–Ї—Г –њ–Њ—Б—В–њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–µ–є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ь. –С–ї–Њ–Ї –Є –Ы. –§–µ–≤—А –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞ –Ї –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Љ–∞–Ї—А–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л. –Т –њ–ї–∞–љ–µ –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї –Є—Е —З–Є—Б–ї—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Л—Е, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є–і–µ–Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г—Г–Љ–∞ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ. –Т –њ–ї–∞–љ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–љ–Њ—Б–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–≥—А–∞–µ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї –і–ї—П –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л—Е —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є, –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є—Е —Д–∞–Ї—В–∞–Љ, –≤—Л–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –≠—В–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є —Д–∞–Ї—В–Њ–≤; –≤ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞ –Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Њ–є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ, –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–≤ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є–Ј –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–є –Ь. –С–ї–Њ–Ї–∞ –Є –Ы. –§–µ–≤—А–∞, –Њ–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –і–ї—П –љ–Є—Е –љ–Њ–≤—Г—О —Б—Д–µ—А—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П - –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї–Є —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –µ–≥–Њ –Є–і–µ–Є. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Є –µ–µ —Н–≤—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї –Я–Њ–љ—П—В–Є–µ –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М –≤—В–Њ—А—Г—О –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б—М –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є - —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Г—О —Г–ґ–µ –љ–µ —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –∞ —Б —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–є –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Њ–є –≤ –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ. –Ш —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ - –≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–ї—Б—П —А—П–і —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Н–Ї—Б–њ–ї–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є—Е —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —З–µ—В—Л—А–µ –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Ь–∞–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —Ж–µ–ї–Њ–µ, –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ —Б –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Б—А–µ–і–Њ–є, –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –µ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤, –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ - –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є —Б–≤—П–Ј–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є. –Ш–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А—Г–µ—В —Г—А–Њ–≤–љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ - —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П [20. –°. 83-87]. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ—А–Є–Ј–Љ—Г —Н—В–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. –° –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є ¬Ђ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –±—Л—В—М —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є –Є –Њ–±–Љ–µ–љ—Л –њ—А–Є–і–∞—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ¬ї [15. –°. 14]. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Љ–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г–Љ–Љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –љ–µ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–µ—В –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є–љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є —В–Њ–є –ґ–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є [15. –°. 16-17]. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Г –±—Л—В–Є—П –Љ–Є—А–Њ–≤-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї: ¬Ђ–Ч–Њ–љ–∞, –Ї–∞–Ї—Г—О –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–µ—А–≤–µ–є—И–Є–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї [15. –°. 18]; —Г –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –µ—Б—В—М –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞, –Њ—В–і–µ–ї—П—О—Й–∞—П –µ–≥–Њ –Њ—В —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ–Є—А–Њ–≤-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ј–Њ–љ–∞–Љ–Є –Љ–∞–ї–Њ –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є –Є–љ–µ—А—В–љ—Л–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ї–Њ—А—П—В—М –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–і –љ–Є–Љ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є ¬Ђ–∞–љ—В–µ–љ–љ—Л¬ї —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є [15. –°. 19-20]. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А—Г–µ—В —А–Њ–ї—М –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Б—А–µ–і—Л –Ї–∞–Ї —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ (–Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–µ—З—М –µ—Й–µ –њ–Њ–є–і–µ—В –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ). –° –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Б–µ—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л (–њ—А–Є –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ –µ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П), —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–Љ–Є –і–µ–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є. –Т —В—А—Г–і–µ –Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–є —Б–µ—В–Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А —Б –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —В–Є–њ–Њ–Љ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є: ¬Ђ–Ь–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї—О—Б–Њ–Љ, –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–Љ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є—П –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–≤—И–Є—Е –µ–≥–Њ –і–µ–ї–Њ–≤—Г—О –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М¬ї [15. –°. 21]. –Т —В—А—Г–і–µ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ: –Є–Љ–µ–ї –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–і–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–∞—А—В–љ–µ—А–Њ–Љ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Ї—А—Г–њ–љ–∞—П —П—А–Љ–∞—А–Ї–∞ [21. –°. 382]. –Э–Њ –≤ –ї—О–±–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Ж–µ–љ—В—А —Б—В—П–≥–Є–≤–∞–ї –Ї —Б–µ–±–µ –≤—Б—О —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–µ—В—М –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –µ–µ –Ј–≤–µ–љ—М—П. –Ь–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —А–∞—Б—И–Є—А—П–µ—В—Б—П —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –µ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є: —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —В—А–µ—Е –Ј–Њ–љ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б—Г–±–Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–≤—П–Ј–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, - –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–∞—П —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Ј–Њ–љ–∞, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–µ –ї–Є—И—М —З–∞—Б—В—М—О –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞, –Є –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–є–љ—Л–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є [15. –°. 32]. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –Ш. –Т–∞–ї-–ї–µ—А—Б—В–∞–є–љ–∞, —Н—В–Њ —П–і—А–Њ, –њ–Њ–ї—Г–њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—П –Є –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ [22. P. 349-350]. –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–ї—Г–њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—П –∞–Ї—В–Є–≤–љ–∞ –Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –і–Њ–≥–љ–∞—В—М —Ж–µ–љ—В—А, —В–Њ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–є–љ—Л–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤—Л—И–µ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –Ј–Њ–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Њ—В—Б—В–∞–ї—Л–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ—Л, –≥–і–µ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –і–Њ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л (–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Є –і–∞–ґ–µ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ), –µ–і–≤–∞ –≤–Њ–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Г—О —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г, —Б –љ–Є–Ј–Ї–Є–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ–Љ —Ж–µ–љ, –Њ–њ–ї–∞—В—Л —В—А—Г–і–∞ –Є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є [15. –°. 32-33]. –Т–∞–ґ–љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —Н—В–∞ –њ–Њ–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П: ¬Ђ–†–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–∞ –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ (–Є–ї–Є –≤ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є) –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–≤–љ—Л—Е –њ–∞—А—В–љ–µ—А–Њ–≤, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –≤ –ї—О–±–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В. –Ю–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Ж–µ–њ—М –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–µ–є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–≤—И–Є—Е –Њ–і–љ–Є –і—А—Г–≥–Є–µ. –Э–µ—А–∞–≤–љ—Л–є –Њ–±–Љ–µ–љ, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –≤ –Љ–Є—А–µ, –Є, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–Є—А–∞, —Г–њ–Њ—А–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–≤—И–µ–µ –Њ–±–Љ–µ–љ—Л, –±—Л–ї–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ–Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є¬ї [15. –°. 43]. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е, —В–Њ —Н—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ ¬Ђ–Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–≤–ї–µ—З–µ–љ–∞ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –µ–є –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬ї [15. –°. 44]. –Т –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ—О—В –Љ–µ—Б—В–Њ —В—А–Є –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–µ—А–≤–∞—П –Є–Ј –љ–Є—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Г—А–Њ–≤–љ—П–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В—П–Љ–Є —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ-—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Н—В–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –љ–µ–њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є. –Т—В–Њ—А–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –љ–∞–і –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–µ–є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–Њ–ї—Г–њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–є–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л, –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–њ–Њ—Б—А–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А—А–µ–ї—П—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ–ґ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ–њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞. –Ш —В—А–µ—В—М—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–µ–є—Б—П —Б –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —Б–Є–ї—Г –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ —Г—А–Њ–≤–љ—П–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —В–µ–Љ–њ—Л –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Њ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–Є—А—Г–µ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л; –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л —В—А–Є –∞—Б–њ–µ–Ї—В–∞. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є: —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –µ–µ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–∞—П –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Н—В–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л. –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–Љ–µ–љ—П–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ-–і–≤—Г—Е —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є, –Є–±–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–ї—О—Б, –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є —Н—В–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–є —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Ј–Њ–љ–∞—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –љ–Њ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П [15. –°. 24, 29]. –Т–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ —Г—Б–њ–µ—Е ¬Ђ–Љ–∞—И–Є–љ—Л –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П¬ї –±—Л–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Д–∞–Ї—В–Њ—А–љ—Л–Љ. –Я–µ—А–≤—Л–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А - –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є: –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ –љ–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ, –љ–µ —З—Г—А–∞—П—Б—М –Є –љ–∞—Б–Є–ї–Є—П, —З—В–Њ–±—Л –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –њ—А–Є–±—Л–ї—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є [15. –°. 45, 47]. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А -–њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –Ї –±–∞–Ј–Њ–≤—Л–Љ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ, —В—А–µ—В–Є–є - –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є [15. –°. 57, 61]. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ-–≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –µ–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–∞—П –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–∞. –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—В—Г—А—Л —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ —Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є. –Ф–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —Н—В–Є—Е –≤–Њ–ї–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–љ: ¬Ђ...—Ж–µ–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—З—В–Є —З—В–Њ –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ, —Б–ї—Г–ґ–∞—В –ї—Г—З—И–Є–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–≤—П–Ј–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ –Њ–±–Љ–µ–љ–Њ–Љ –Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Г–ґ–µ –њ–Њ–і –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј—Г—О—Й–µ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї [15. –°. 69]. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П —Ж–µ–љ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –і–≤–∞ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞. –Я–µ—А–≤—Л–є - –≤–љ–µ—И–љ–Є–є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≤ –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П—Е —А—Л–љ–Ї–∞ –љ–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞—Е, –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П—Е —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–Є–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П—Е, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ–љ–∞ –≤–ї–µ—З–µ—В –і–ї—П —Ж–µ–љ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ [15. –°. 78]. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–љ–µ—И–љ—П—П —Б—А–µ–і–∞ –Љ–Є—А–∞-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –≤ –љ–µ–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –≤–ї–Є—П–ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ї–∞–Ї —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А - –µ–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П —Б—А–µ–і–∞: ¬Ђ–Ь–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ - —Н—В–Њ –Ї–Њ–ї–µ–±–ї—О—Й–∞—П—Б—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М —Б–∞–Љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤, —В–∞, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—В—Г—А—Г, –љ–Њ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –µ–µ –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ, –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–∞, —Н—В–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Ж–µ–љ –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞—Е, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –∞—А—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –Ї—А–Њ–≤—М –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –ґ–Є–≤–Њ–Љ—Г –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ—Г¬ї [15. –°. 79]. –Ш, –≤-—В—А–µ—В—М–Є—Е, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –§. –С—А–Њ–і–µ–ї—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—В—Г—А—Л, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤–∞—П —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П, –Є–Љ–µ—О—В –Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Є–≤–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, —Н—В–Є –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–Є–Ј–Є—Б—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Љ–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞, ¬Ђ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї—Б—П, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –≤ —Г–њ–∞–і–Њ–Ї –Є–ї–Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є —Г–њ–∞–і–Њ–Ї, –Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –і—А—Г–≥–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–є —А–∞–Ј—А—Л–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є, –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–Є–є¬ї [15. –°. 81]. –Я–Њ–і–≤–Њ–і—П –Є—В–Њ–≥–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —В—А–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–≤–Њ–і–∞. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Љ–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –љ–µ –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞, –∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–µ—В —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–є –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Д–∞–Ї—В–Њ—А–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Љ–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –Ї–∞–Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є
–Т–∞–ї–ї–µ—А—Б—В–∞–є–љ –Ш. –°–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—П // –Т—А–µ–Љ—П –Љ–Є—А–∞. –Р–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е. –Т—Л–њ. 1: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤ XX –≤–µ–Ї–µ / –њ–Њ–і —А–µ–і. –Э.–°. –†–Њ–Ј–Њ–≤–∞. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 2000. –°. 124-127.
Hynt L. French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the Annales Paradigm // Journal of Contemporary History. 1986. Vol. 21. P. 209-224.
Hexter J. H. Fernand Braudel and the Monde Braudellien // The Journal of Modern History. 1972. Vol. 44, вДЦ 4. P. 480-539.
Kinser S. Annaliste Paradigm? The Geohistorical Structuralism of Fernand Braudel // The American Historical Review. 1981. Vol. 86, вДЦ 1. P. 63-105.
–У—Г—А–µ–≤–Є—З –Р.–ѓ. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Є–љ—В–µ–Ј –Є –®–Ї–Њ–ї–∞ ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї. –Ь. ; –°–Я–±. : –¶–µ–љ—В—А –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤, –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞. 2014. 432 —Б.
–Т–ґ–Њ–Ј–µ–Ї –Т. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –§–µ—А–љ–∞–љ–∞ –С—А–Њ–і–µ–ї—П // –°–њ–Њ—А—Л –Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ: –Ф–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Є –Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –Є –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л ¬Ђ–Р–љ–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї / –Њ—В–≤. —А–µ–і. –Ѓ.–Ы. –С–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є. –Ь. : –Э–∞—Г–Ї–∞, 1993. –°. 149-155.
–°–∞–љ–і–µ—А—Б–Њ–љ –°. –Ь–µ–≥–∞–Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Є –µ–µ –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ—Л // –Т—А–µ–Љ—П –Љ–Є—А–∞. –Р–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е. –Т—Л–њ. 1: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤ XX –≤–µ–Ї–µ / –њ–Њ–і —А–µ–і. –Э.–°. –†–Њ–Ј–Њ–≤–∞. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 2000. –°. 67-71.
Arrighi G. Braudel, Capitalism, and the New Economic Sociology // Review (Fernand Braudel Center). 2001. Vol. 24, вДЦ 1. P. 107-123.
Wallerstein I. The Inventions of TimeSpace Realities: Towards an Understanding of our Historical Systems // Geography. 1988. Vol. 73, вДЦ 4. P. 289-297.
Wallerstein I. Braudel on the Longue Duree: Problems of Conceptual Translation // Review (Fernand Braudel Center). 2009. Vol. 32, вДЦ 2. P. 155-170.
–С–ї–Њ–Ї –Ь. –Р–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Є–ї–Є –†–µ–Љ–µ—Б–ї–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞. –Ь. : –Э–∞—Г–Ї–∞, 1986. 254 —Б.
–§–µ–≤—А –Ы. –С–Њ–Є –Ј–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О. –Ь. : –Э–∞—Г–Ї–∞, 1991. 629 —Б.
–С—А–Њ–і–µ–ї—М –§. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ, XV-XVIII –≤–≤. : –≤ 3 —В. –Ґ. 1: –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є: –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ. –Ь. : –Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б, 1986. 623 —Б.
–С—А–Њ–і–µ–ї—М –§. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ь. : –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В ; –Р–ї—М–Љ–∞ –Ь–∞—В–µ—А, 2015. 223 —Б.
–С—А–Њ–і–µ–ї—М –§. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ, XV-XVIII –≤–≤. : –Т 3 —В. –Ґ. 3: –Т—А–µ–Љ—П –Љ–Є—А–∞. –Ь. : –Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б, 1992. 677 —Б.
–С—А–Њ–і–µ–ї—М –§. –І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П? –Ъ–љ–Є–≥–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П: –Я—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—П. –Ь. : –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –°–∞–±–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е, 1994. 405 —Б.
–С—А–Њ–і–µ–ї—М –§. –І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П? –Ъ–љ–Є–≥–∞ –≤—В–Њ—А–∞—П: –Ы—О–і–Є –Є –≤–µ—Й–Є. –І. 1: –І–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—А–Њ–і–Њ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –µ–µ –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤. M. : –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –°–∞–±–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е, 1995. 244 —Б.
–С—А–Њ–і–µ–ї—М –§. –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Є —Б—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –§–Є–ї–Є–њ–њ–∞ II : –Т 3 —З. –І. 1: –†–Њ–ї—М —Б—А–µ–і—Л. –Ь. : –ѓ–Ј—Л–Ї–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, 2002. 496 —Б.
–С—А–Њ–і–µ–ї—М –§. –У—А–∞–Љ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є. –Ь. : –Т–µ—Б—М –Ь–Є—А, 2008. 552 —Б.
–°–∞–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Т.–Э. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ: –ї–Њ–≥–Є–Ї–Њ-–Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј. –Ь. : –Э–∞—Г–Ї–∞, 1974. 280 —Б.
–С—А–Њ–і–µ–ї—М –§. –І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П? –Ъ–љ–Є–≥–∞ –≤—В–Њ—А–∞—П: –Ы—О–і–Є –Є –≤–µ—Й–Є. –І. 2: ¬Ђ–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞¬ї –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤. –Ь. : –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –°–∞–±–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е, 1997. 511 —Б.
Wallerstein I. The Modern World-System. Vol. 1: Capitalist agriculture and the origins the European world-economy in the sixteenth century. N. Y. : Academic press, 1974. 410 p.
Wallerstein I. World-Systems Analysis // Social Theory Today / ed. by A. Giddens, J.H. Turner. Stanford (California) : Stanford University Press, 1987. P. 309-324.
–Т–∞–ї–ї–µ—А—Б—В–∞–є–љ –Ш. –†–Њ—Б—Б–Є—П –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–Є—А-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞, 1500-2010 // –°–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М. 1996. вДЦ 5. –°. 30-42.
–С—А–Њ–і–µ–ї—М –§. –Ф–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї : –Я–Њ–ї–Є–≥—А–∞–Љ–Љ–∞, 1993. 125 —Б.
Wilkinson D. Central Civilzation // Comparative Civilizations Review. 1987. вДЦ 17. P. 31-59.
Kavolis V. Nationalism, Modernization, and the Polylogue of Civilizations // Comparative Civilizations Review. 1991. вДЦ 25. P. 124-143.
Abu-Lughod J. Restructuring the Premodern World-System // Review (Fernand Braudel Center). 1990. Vol. 13, вДЦ 2. P. 273-286.
Chase-Dunn Ch.Comparing World-Systems: Toward a Theory of Semiperipherial Development // Comparative Civilizations Review. 1988. вДЦ 19. P. 29-66.
Frank A.G. A Theoretical Introduction to 5,000 Years of World System History // Review (Fernand Braudel Center). 1990. Vol. 13, вДЦ 2. P. 155248.
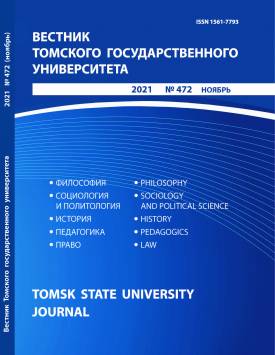

 –Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О
–Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О