Идентичность университета в условиях «текучей современности»
Рассматривается проблема эволюции университета и трансформации его идентичности в условиях «текучей современности» (З. Бауман) как одной из интерпретаций постмодерна, ассоциированной с развитием общества знаний. В ситуации проблематизации целостной идентичности университета и появления его множественных моделей обосновывается уникальность университета как социального института через единство его основных функций: исследования, обучения и социальной ответственности.
The Identity of the University in the Context of “Liquid Modernity”.pdf Понятие «идентичность», содержащее латинский корень idem (то же самое), обозначает свойство феноменов оставаться теми же самыми, сохранять свою «сущность» при всех трансформациях. Предметом специального философского исследования идентичность становится у Дж. Локка («Опыт о человеческом разумении») и Д. Юма («Трактат о человеческой природе») и используется для анализа отличительных особенностей человека. В философии эмпиризма «единство самости» впервые было поставлено под сомнение, была обозначена проблемность осмысления самотож-дественности. Классическую трактовку понятия «идентичность» как проблематику личностной идентичности принято связывать с философией сознания, социальной психологией и культурной антропологией. Позднее в исследованиях Г. Зиммеля, Дж. Г. Мида, Ч. Кули идентичность стала рассматриваться как концепт, который позволяет описать самоформирование различных систем в их социальных взаимодействиях через анализ устойчивого и изменчивого, через выявление отличительных черт и уникальности социальной системы. Когда под вопросом оказываются границы самотожде-ственности какой-либо социальной системы, говорят о кризисе идентичности этой системы, так представления об идентичности и ее кризисных состояниях распространились на все социокультурные системы. В исследованиях такого рода внимание акцентировано на процессе формирования нового с удержанием само-тождественного в любой социокультурной системе, здесь идентичность есть результат процесса идентификации. В нашем исследовании объектом идентификации является университет. Предмет исследования - идентичность университета в условиях «текучей современности» (З. Бауман). Идентичность университета уместно раскрывать через его уникальность, через то, что отличает его от прочих социальных институтов, - университет производит (в процессе исследований) и распространяет (через образование) знания, цитируя Стивена Фуллера: «университеты производят знание как общественное благо путем созидательного разрушения социального капитала» [1. С. 52]. В качестве контекста исследования идентичности университета мы выбрали условия «текучей современности» (З. Бауман) - актуальное состояние социальной реальности, порожденное техногенной цивилизацией на постсовременном этапе развития общества, ассоциированное со становлением и развитием общества знаний. Многие авторы сегодня отмечают не только появление и сосуществование множества моделей университета: классический университет, исследовательский университет, предпринимательский университет, цифровой (виртуальный) университет, экологический университет и другие, но и его распад как одного из ключевых социальных институтов в меняющемся мире. Так, Б. Ридингс пришел к выводу, что современный университет «в руинах», показав, что размывается институциональная роль университета в современном социуме, что означает наличие фундаментальных трансформаций, а именно, наличие кризиса оснований университетской идеи [2]. Другие, наоборот, видят возможности «пересборки» университета на фундаменте экофилософии университета. По мнению Рональда Барнетта, университет при всех переживаемых трансформациях сохраняет целостность, продолжая выполнять функции преподавания и исследования, но пересматривает свои взаимоотношения с миром, занимается не оказанием услуг, но расширяет символическое понимание [3. С. 227]. В ситуации проблема-тизации традиционной целостности университета и появления множественных моделей, в которых он сегодня функционирует, возникает необходимость переосмыслить вопрос идентичности университета как социального института. Начавшийся во второй половине ХХ в. постсовременный этап развития общества обозначился резким ростом объема и значения информации, формированием общества знания, в котором экспертное научное знание становится ключевым фактором промышленной революции и социальной динамики, причем контекст применения знаний становится конституирующим по отношению к процессу их производства, появляется новая форма научной деятельности - технонаука. Поскольку университет является социальным институтом, который занимается производством научного знания, столь глобальные социальные трансформации не могли его не затронуть. Рассмотрим, как повлияли вызовы технонауки и трансформации «текучей» социальной реальности на университет и его роль в обществе. Турбулентность и дестабилизация цивилизационного развития формируют «текучий характер» настоящего, связанный с глобализацией и возрастанием структурно-функциональной сложности окружающей реальности. Следствием этого становится возникновение новой идентичности, которую характеризуют как множественную, фрагментарную, «текучую». По мнению британского социолога З. Баумана, сегодня попытки добиться устойчивой нефрагментированной идентичности являются утопическими [4. С. 113, 118], «финальный аккорд» в формировании идентичности отсутствует, идентичность непрерывно актуализируется [5]. В то же время университет остается одним из немногих социальных институтов современности, сохраняющих свои главные функции, свое предназначение в обществе. Современный университет характеризуется, как правило, в трех различных аспектах: во-первых, как пространство исследований с границами, открытыми для инноваций, предпринимательства и социальной активности; во-вторых, как образовательный проект в эпоху массового высшего образования; в-третьих, как субъект, несущий социальную ответственность за вклад в устойчивое развитие меняющегося мира. Именно поэтому актуально говорить об идентичности университета как социального института в условиях «текучей современности». Анализу трансформаций идентичности современного университета следует предпослать анализ изменений в концепции знания, истоки которых просматриваются и в ракурсе заданного З. Бауманом видения современной социальной реальности. Эти трансформации обозначились релятивизацией экспертного знания, накоплением неопределенностей и рисков, парадигмальным сдвигом от науки фундаменталистского типа к исследованиям, в которых знания эпистемологически и социально конструируются. Далее покажем, что это не могло не затронуть университет, который не только производит новые знания и уточняет существующие, но и транслирует знание посредством программ обучения. Кумулятивная модель, в которой развитие знания трактовалось как постепенный непрерывный процесс роста истинного, надежного знания, осталась в прошлом. Сегодня производство знаний рассматривается не только как результат интеллектуальной деятельности, но и как интегративная социальная практика, в которую вовлечена широкая общественность, знание должно стать, прежде всего, «социально востребованным» [6]. Важное изменение заключается еще и в том, что профессиональному экспертному, научному и академическому сообществам уже не принадлежат исключительные права на обладание знанием. Хотя такие сообщества сохраняют влияние, к ним добавились новые, возникшие как результат интегративных процессов в науке, формирования трансдисциплинарного пространства, а также становления инструментария гражданской науки, все чаще мы наблюдаем вовлечение неспециалистов, «пользователей» на волонтерских началах в некогда автономную область принятия научных решений. В «текучей современности» процесс производства знаний можно описать как «динамическое теоретизирование, обусловленное не амбициями создания “лучшего знания” относительно прежнего теоретикометодологического инструментария, а объективностью принципиально новых вызовов становящегося сложного социума, требующего, соответственно, и нового мышления, и иного знания» [7. С. 3]. Характерная для «текучей современности» новая парадигма знания не может не оказывать существенного влияния на университет, через такие его функции как исследование, обучение и социальную ответственность, обеспечивающие поддержание традиций и содействующие инновациям. Рассмотрим, как трансформируется идентичность университета в выделенных трех ключевых его измерениях. Исследования и наука - производство знания. Проанализируем изменения в сфере исследовательской деятельности университетов в условиях «текучей современности». На наш взгляд, они обусловлены новым способом производства научного знания, что отражается в выделении знания второго типа (Mode-2), являющегося распределенным и трансдисциплинарным знанием, ориентированным на контекст применения (М. Гиббонс, Х. Новотны, Б. Николеску и др.). В трансдисциплинарных исследованиях горизонт объектных параметров, описываемых редукционистской методологией, пересекает новое вертикальное измерение, вследствие чего научное исследование выходит из плоскости объектных редукционистских связей в сферу человека не только как субъекта, но и в сферу его жизнедеятельности, практики, социальнокультурных ценностей. Поэтому знание второго типа произведено не только в стенах научной лаборатории университета, но и в профессиональных сообществах, и в промышленности, здесь теоретическое исследование дополняется практикой инноваций. В этой связи происходит переориентация исследовательской деятельности современных университетов. Хотя по-прежнему сохраняется значимость научных изысканий как поиска истины, все больше становится заказных исследований в интересах политических и экономических институтов, обеспечивающих ресурсы. В настоящий момент вектор смещается в сторону влияния таких факторов, как полезность и эффективность, а концепцию научной истины и объективности дополняет дискурс пост-истины. Отмечаемое размывание границ между наукой и обществом, тот факт, что фундаментальное знание преломляется различными социальными субъектами с целью производства своего отдельного знания (М. Гиббонс), в пространстве университета проявляется и в изменении механизмов финансирования. По мнению Р. Барнетта, «университет слишком тесно связан с экономикой, он стал своего рода силой экономического производства» [3. С. 32]. Увеличивается численность исследовательских проектов, выполняемых по заказу и финансируемых государственными фондами, промышленными корпорациями, социально-политическими организациями. Профильные министерства, национальные агентства по финансированию исследований, такие как исследовательские советы, и фонды, поддерживающие исследования, всегда должны находить баланс между потенциалом науки и потребностями общества. Полвека назад миссией агентств и советов по научным исследованиям было финансирование проектов «актуальных и перспективных» - первое как мера их социальной полезности, а второе как мера научного потенциала. Относительно недавно даже к фундаментальным исследованиям, финансируемые государством, стала применяться формула «заказчик-подрядчик». В соответствии с этой формулой заказчики (министерства, исследовательские советы или другие спонсоры) указывают свои потребности, а подрядчики (университеты и другие исследовательские учреждения) обязуются удовлетворить эти потребности. Для теоретических и фундаментальных исследований доступно все меньше и меньше средств, поскольку основная часть ресурсов сосредоточена на исследованиях в заранее обозначенных, как правило, практико-ориентированных научных областях. Еще одним растущим трендом стало увеличение числа краткосрочных проектов в стиле консалтинговых исследований. В социальных науках, например, все большая часть финансирования исследований поступает от политиков, которые заинтересованы в создании более надежной доказательной базы для стратегий развития. В науках о жизни растет влияние крупных фармацевтических компаний. Эти тенденции изменили практику научных изысканий в университете. Все это можно отнести к эффектам маркетизации исследований, их экономической и социально-политической обусловленности. Следующий важный аспект трансформаций исследовательской деятельности университета также связан с особенностями нового типа знания, а именно с его подверженностью различным формам оценки качества результатов. Если качество знания первого типа (Mode-1) определялось и контролировалось профессиональным научным сообществом, то качество знания второго типа (Mode-2) оценивается в более широком диапазоне: не только в собственно научном смысле (эмпирическая обоснованность, достоверность и воспроизводимость), но оно также должно быть «социально востребованным». Контекст применения в знании второго типа так же важен, как и теоретический контекст. Чтобы быть успешными, исследования должны прогнозировать угрозы и риски, ставшие неотъемлемой составляющей мира, в котором преобладают нелинейные процессы. Поэтому контекст неопределенности, условности присутствует и в исследовании, в нем сопрягается сложность мира со сложностью человеческого знания. Возникает потребность в пересмотре приоритетов исследований и оснований оценки качества их результатов, хотя экспертные рецензирование и оценка остаются важным инструментом, они уже не являются единственным способом. Конечно, эта трансформация - сложное явление, имеющее несколько аспектов. Один из них -возрастающая сложность определения экспертов и рецензентов в научной системе, разделенной на все более специализированные дисциплины. Другой аспект -расширение форматов и объемов исследований, поскольку на первый план выходят новые, часто более прикладные и практико-ориентированные научные изыскания, ведущие к необходимости оценивания общественно-значимого результата и вовлечения так называемых профессоров практики. Также стоит отметить нарастающую эклектику исследовательских методологий, проявляющуюся как в росте новых форм научных изысканий, проводимых специалистами-практиками, так и в разнообразии тем и диапазоне результатов исследований. Сложные вычисления стали намного доступнее с развитием цифровых технологий, возникли новые исследовательские сообщества, стали допустимыми новые типы обоснований, часто более интуитивных и социально ориентированных. В этих и других примерах есть проявление нового в исследовательском пространстве университета. Одновременно с этим, сохраняя свою уникальность, университет не просто дает миру то, что ему необходимо, скорее, это критически настроенный институт, систематически исследуя мир, он заботится о его благополучии [3. С. 258-259]. Образование и обучение - распространение и трансляция знания. Одной из базовых характеристик «текучей современности» является постоянное и непрерывное ускорение изменений социальной реальности. Очевидно, что контекст турбулентности и увеличения скорости трансформаций не может не затронуть инструменты социализации человека, такие как образование и обучение. Сокращается жизненный цикл технологий, время между открытием и внедрением инноваций, усложняется сфера профессиональной реализации специалиста, некогда обретенные знания и навыки все быстрее устаревают, как следствие растет потребность в непрерывном обучении (обучении в течение всей жизни), размывается традиционный возраст получения высшего образования. Границы между обучением и исследованиями сами по себе становятся более проницаемыми, трансдисциплинарные исследования, получающие распространение в современной науке наравне с ускоряющимся темпом изменений внешнего мира актуализируют поиск новых программ обучения. В них наряду с фундаменталистской установкой научных исследований формируется новая герменевтическая установка, что в итоге призвано вести к замене «инструментального разума» на «умудренный разум». Акцент в производстве и трансляции знаний переносится на проблемы этико-аксиологического характера. Междисциплинарный и трансдисциплинарный характер ряда программ обучения призван развить у студентов практические навыки для работы в глобальном «текучем» мире, учить сопоставлять культурные, языковые, политические реалии с уровнем технологического развития. Р. Барнетт, характеризуя изменяющуюся образовательную активность студента в «текучем» мире, вводит понятие «текучий обучающийся». Студенты, как и профессионалы, обладают множественной идентичностью, перемещаются в различных образовательных пространствах, получая необходимые знания и навыки не только в университетской аудитории, но и в реальной жизни, в сообществах, на рабочем месте, в семье, в процессе осуществления волонтерской активности и иных практиках неформального обучения [3. С. 161]. Для самореализации в условиях «текучей» реальности необходим особый тип личности, способный быстро адаптироваться, открытый к изменениям, системно и критически мыслящий, ответственный и отзывчивый к потребностям внешнего мира. В связи с вышеупомянутым распространением практик неформального внеаудиторного обучения, а также с ростом автономии обучающихся перед университетом возникает вопрос степени ответственности за результаты обучения студентов и их будущую адаптацию в турбулентном мире. На фоне будущих изменений рынка труда, связанных в том числе с роботизацией и искусственным интеллектом, особое значение приобретают «нерутинные», специфичные для человека качества, такие как когнитивные способности высшего порядка: системное и критическое мышление, способность к метафизическим обобщениям, ментальная и культурная эластичность. Помимо информационных и технологических компетенций на первый план выходит гуманитарная грамотность, основанная на понимании со-циогуманитарной сферы, этически и ценностно ориентированной деятельности, навыках коммуникации и функционирования в социуме. Наиболее очевидные перемены в сфере образования обусловлены внедрением и развитием информационных и коммуникационных технологий, что обеспечивает почти неограниченный доступ к информационным ресурсам, формирование глобального образовательного пространства. В то же время цифровиза-ция, обеспечив беспрецедентный доступ к информации, приводит к сокращению прямого контакта между преподавателем и студентом и увеличению доли самостоятельного освоения материала и онлайн-формата обучения в образовательном процессе. Растет популярность цифровых образовательных платформ, с которыми вынуждены конкурировать университеты, на этом фоне появляются цифровые и виртуальные университеты, не только национальные, финансируемые правительствами стран, но и мультинациональные консорциумы образовательных организаций, совместно разрабатывающие онлайн-программы. Они предоставляют доступ к репозиторию курсов для обучающихся этих вузов, а также обладают возможностью перезачета курсов студентами организаций, входящими в консорциум. Одним из примеров успешно функционирующего консорциума является EduOpen, созданный для разработки высококачественных онлайн-курсов [8]. Проект виртуального университета - один из наиболее амбициозных среди рассматриваемых сегодня направлений реформирования высшего образования. Развитие онлайн-образования получило существенное ускорение в условиях пандемии COVID-19 и фактически вынужденного перехода в формат дистанционного обучения, но вместе с тем оно вызывает немало опасений и критики. Образование в университете основано на конструктивной коммуникации между обучающимися и преподавателями и ориентировано не только на трансляцию знаний, но и на формирование системы ценностей, позволяющих обучающемуся не только осваивать социальную среду, но и расширять горизонты мировоззрения. Сетевой обучающийся нацелен на извлечение информации, но сложности возникают уже с ее сортировкой, выделением наиболее ценной, достоверной, тем более с пониманием и способностью к смысловой ориентации. Поэтому в качестве наиболее вероятных рассматриваются модели гибридного обучения, совмещающие контактное обучение с онлайн-форматами. На наш взгляд, важнейшей установкой в реформировании стандартов обучения может быть переориентация преподавания: от обучения как процесса трансляции и передачи знаний на образование как формирование сложностного мышления и активизацию этических практик на основе социальной ответственности. Третья миссия - социальная ответственность университета. Кларк Керр, первый ректор Калифорнийского университета Беркли, в 1963 г. предпринял одну из первых попыток исследовать меняющуюся роль университетов, введя в оборот термин multiversity для обозначения множественной идентичности университета, появившейся в ответ на меняющиеся как в экономическом, так и в культурном плане требования общества [9]. Сам термин «третья миссия» был сформулирован аналитическим центром ОЭСР в 1982 г. на фоне сокращения финансирования систем высшего образования в Европе при обозначении ряда инновационных практик предпринимательских университетов, таких как Католический университет Левена и Университет Уорвика. С общей точки зрения, «ретья миссия» университетов - это отношения между университетами и заинтересованными сторонами из неакадемического мира; совокупность всех действий, связанных с генерированием, использованием и применением университетских знаний, возможностей и ресурсов вне академической среды. Такое взаимодействие между университетами и социумом вносит вклад в социоэкономическое и культурное благосостояние общества. С другой стороны, широкий спектр исследований «предпринимательского университета» интерпретирует «третью миссию» как постепенный переход университетов к экономически обусловленной деятельности и коммерциализации знаний, технологических и инновационных результатов. Это означает, что деятельность в рамках реализации «третьей миссии» -это те видимые инициативы, которые глубоко влияют на академический этос и вовлекают экономических субъектов с целью создания и укрепления партнерских отношений с университетами. Однако все чаще встречается мнение, что «третья миссия» не ограничивается коммерциализацией научных исследований. Фактически сегодня «третья миссия» - это системная деятельность по валоризации интеллектуального потенциала университета и реализации его социальной ответственности в сотрудничестве с различными акторами в целях создания трансформаций для содействия устойчивому развитию как меняющегося мира в целом, так и отдельно взятых социальной сферы, сообщества или территории. Осуществление «третьей миссии» связано с развитием экосистемы университета по принципу пятикратной спирали: Университеты - Бизнес - Власть - Общество - Естественная и антропогенная среда [10]. Споры о концепции «третьей миссии» как о социальной ответственности университета, как о комплексе мероприятий, направленных на то, чтобы связать университет с окружающей его средой, были и остаются в центре внимания ученых и иных заинтересованных сторон [11]. Несмотря на политические, экономические и социальные потрясения и перемены университет оставался достаточно стабильным, хотя и эволюционирующим социальным институтом с момента своего зарождения во времена Средневековья до второй половины XX в., до того этапа социального развития, который принято называть постмодерном или «текучей современностью». В это время высшее образование практически во всем мире сталкивается с сокращением государственного финансирования, а перед университетами возникает необходимость поиска дополнительных источников дохода и, как следствие, складывается модель предпринимательского университета. Можем ли мы сказать, что именно эти сдвиги привели к появлению мнений о множественных идентичностях, кризисе идентичности и «смерти» университета? При этом «университеты всегда были пространством, где знание определяет форму и развитие экономики, а не наоборот» [12. P. 223]. Автор концепции экологического университета Рональд Барнетт обосновывает возможность для университета сохранения собственной идентичности, отмечая, что при сохранении своей уникальности университет всегда в движении. «Это культурно и эпистемологически распределенный университет. Такое глобальное распределение создает логистические, коммуникационные и трансляционные проблемы, а также множественные идентичности и кросскультурное (не)понимание» [3. С. 243] Но при всех сложностях взаимодействия университета с другими системами, он «обладает институциональной хваткой, это осознание самого университета как сложного социального института» [3. С. 251]. В условиях «текучей современности» на фоне цивилизационных кризисов XXI в. мы все становимся свидетелями того, что национальные государства оказываются неспособны осуществлять политику в интересах обеспечения стабильности и благополучия. Государства вынуждены следовать вектору развития, обозначенному агентами глобального рынка и капиталов, эти силы «текучи» и экстерриториальны. В таких обстоятельствах, будучи по самой своей сути одновременно и локальным, и глобальным институтом, коллективным экспертом, наделенным ответственностью за благополучие внешнего мира, согласно тезису Дерека Бока, одного из президентов Гарвардского университета, «университеты должны смело идти туда, куда государства шагнуть боятся» [13]. Анализ трансформаций, затрагивающих университет в его ключевых сферах деятельности: исследовании, обучении и социальной ответственности показывает, насколько они значительны. Действительно, может возникнуть впечатление, что университет утрачивает свое место в мире и свою идентичность, однако, трансформации основных функций университета означают не потерю уникальности университета, а скорее обновление идеала. Мы старались показать, что идентичность университета как социального института выражается в единстве функций исследования, обучения и социальной ответственности, эта уникальная целостность позволяет университету производить и транслировать знание как социальное благо, реализуя свою ответственную исследовательскую и экспертную позицию в интересах благополучия внешнего мира и преодоления цивилизационных кризисов, именно это отличает университет от других социальных институтов. Здесь мы солидарны со Стивеном Фуллером, отмечающим, что университет делает очередной шаг на пути реализации своего идеала, который состоит в универсализации знания как общественного блага [1. С. 50], и Рональдом Барнеттом, подчеркивающим, что глубинные основания идеи университета кроются в его ответственности за будущее меняющегося мира.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 40
Ключевые слова
университет, текучая современность, постсовременность, идентичность, производство знаний, научное исследование, образование, социальная ответственностьАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Черникова Ирина Васильевна | Томский государственный университет | д-р филос. наук, профессор кафедры. английской филологии | chernic@mail.tsu.ru |
| Черникова Дарья Васильевна | Томский государственный университет | канд. филос. наук, зам. директора НОЦ урбанистики и регионального развития | chdv@mail.tsu.ru |
Ссылки
Фуллер С. В чем уникальность университетов? Обновление идеала в эпоху предпринимательства (пер. с англ. С. Филоновича) // Вопросы образования. 2005. № 2. С. 50-76.
Ридингс Б. Университет в руинах / пер. с англ. А. М. Корбута. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2010. 304 с.
Барнетт Р. Экологический университет. Осуществимая утопия / пер. с англ. Д.В. Черниковой. Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. 304 с.
Бауман З. Индивидуализированное общество. М. : Логос, 2002. 390 с.
Bauman Z. Migration and Identities in the Globalized World // Philosophy & Social Criticism. 2011. Vol. 37, № 4. P. 425-435. DOI: 10.1177/0191453710396809
Gibbons M. Science's new social contract with society // Nature. 1999. Vol. 402. P. C81-C84. DOI: 10.1038/35011576
Кравченко С. А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблема новых уязвимостей // Социологические исследования. 2013. № 5. С. 2-12.
Гриншкун В.В., Краснова Г.А. Виртуальные университеты: факторы успеха и перспективы развития // Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2018. Т. 15, № 1. С. 7-17.
Kerr C. The Uses of the University. London : Harvard University Press, 1963. 288 p.
Carayannis E., Campbell D. Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a transdisciplinary analysis of sustainable development and social ecology // International Journal of Social Ecology and Sustainable Development. 2010. Vol. 1/1. P. 41-69.
Castells M. Universities as dynamic systems of contradictory functions // Challenges of Globalisation. South African Debates with Manuel Castells / eds. by J. Muller, N. Cloete, S.S. Badat. Cape Town : Maskew Miller Longman, 2001.
Newfield C. Ivy and Industry: Business and the Making of the American University: 1880-1980. Durham ; London : Duke University Press, 2003.
Bok D. Beyond the Ivory Tower: Social Responsibilities of the Modern University. Harvard University Press, 1982. 328 p.
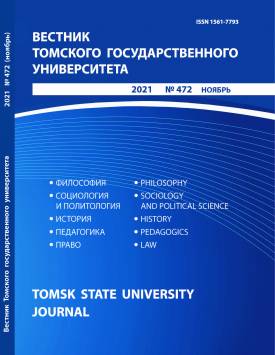
Идентичность университета в условиях «текучей современности» | Вестник Томского государственного университета. 2021. № 472. DOI: 10.17223/15617793/472/6
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 580

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью