Анализируются отклики иностранных ученых на юбилейную коммеморацию, посвященную 220-летию АН СССР (1530 июня 1945 г.). Это был первый международный форум, проходивший после окончания Великой Отечественной войны. В пространстве юбилея явственно была выражена идея единой мировой науки - наука интернациональна по своей сути и не может быть замкнута в границах одной страны; предложены программы по складыванию единого коммуникативного пространства. В то же время обозначены противоречия между национальным и интернациональным в развитии науки.
“Science Has No Fatherland: This Slogan Is Both True and Not” (Foreign Scientists' Responses on the 220th Anniversa.pdf Академический юбилей на перекресте национального и интернационального: к постановке проблемы Проблема национального и интернационального в науке как продукта культуры, особого духовного конструкта и как социального института имеет давнюю историю. Эти два модуса в определении образа науки на конкретных этапах социокультурного развития могут рассматриваться и восприниматься либо как антагонистические, либо как вполне сочетающиеся, отражающие коммуникативную суть науки и ее универсализм, с учетом культурных традиций умствования и организации научных институтов науки и образования в той или иной стране. Как свидетельствуют современные исследования, вопросы соотношения национального и интернационального в науке актуализируются в периоды социальных катаклизмов - войн и революций, хотя не отрицается и влияние факторов внутриполитических, проявляющихся в научной политике государства [14]. Ученый укоренен в культурную атмосферу своего времени и страны и, несмотря на сложившийся этос науки, подразумевающий в том числе коллективизм («коммунизм», «коммунализм»), он подвержен милитаристским или антимилитаристским, этатистским или антиэтатистским и многим другим настроениям. Подобную включенность гениально обозначил О. Мандельштам : И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, И Гёте, свищущий на вьющейся тропе, И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. Проблема национального и интернационального в науке по-новому высветилась на излете Второй мировой войны, что отчетливо проявилось в праздновании 220-летнего юбилея Академии наук СССР. Прежде несколько слов о самом празднике. Юбилейная сессия Академии наук СССР состоялась 15-30 июня 1945 г. Решение о праздновании 220-летия было принято в конце 1944 г. на встрече президента Академии наук В. Л. Комарова с И. В. Сталиным. Глава Страны Советов поддержал идею отметить в 1945 г. юбилей с обязательным приглашением на него иностранных гостей [5. С. 284]. Позже 21 января 1945 г. вышло Постановление СНК, согласно которому специально создавался Всесоюзный комитет по проведению 220-летия АН СССР. Именно ему вменялось подготовить списки приглашаемых на праздник иностранных ученых. 7 марта 1945 г. первый такой список был готов и отправлен на согласование заместителю председателя СНК В. П. Молотову [6. Л. 12]. Первоначально планировалось пригласить 264 иностранных ученых. Впоследствии эта цифра постоянно уменьшалась. 18 апреля Президиум АН СССР обратился к И. В. Сталину с просьбой разрешить пригласить на юбилейные торжества «156 иностранных ученых и по одному представителю от 54 иностранных научных учреждений» [7. Л. 85], т.е. 210 гостей. Однако решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 мая 1945 г. эта цифра была уменьшена до 198 [7. Л. 42]. Прибывших оказалось и вовсе меньше: по данным одних источников - 123 [8. Л. 229-245], по другой информации - 124 человека [9. Л. 127-154]1. Иностранные ученые оставили весьма любопытные отклики на юбилейную сессию АН СССР. Источники, в которых отразилось «эхо» праздника, разнообразны: интервью/газетные и журнальные заметки [10-14], эго-источники [15-16], отчеты [17] и анкеты [18] и др. Многие из них были собраны и сохранились в фонде Всесоюзного комитета по проведению 220-летия АН СССР в Архиве РАН (Ф. 519). Обозначенный сюжет фрагментарно представлен в современной историографии [19-26], исключением является статья Н. А. Куперштох, в которой проанализированы отклики на юбилей в рамках одного заседания [27]. Такая историографическая фрагментация и наше участие в исследовательском проекте, посвященном юбилейной коммеморации, мотивируют замысел авторов данной статьи рассмотреть восприятие советской науки иностранными учеными в контексте проблемы национального и интернационального. «Звезды не признают национальных границ»: торжество идеи мировой науки на юбилее Победа в Великой Отечественной войне, возросший статус науки в обществе сказались на самосознании советских ученых. Новые настроения нашли отражение в концептуальном докладе президента АН СССР В.Л. Комарова на открытии юбилейной сессии 16 июня 1945 г., где явственно проводилась мысль о единстве науки. Возвращение к идее единой науки, по мысли академика, - продолжение традиций международного сотрудничества российской и зарубежной науки на протяжении столетий. Но она вытекает не только из логики развития науки и исторического опыта, но также из того вклада, который ученые разных стран антигитлеровской коалиции внесли в общее дело борьбы с фашизмом. Доклад В.Л. Комарова (зачитанный Л.А. Орбели) был положительно воспринят присутствующими. Так, английский ботаник, профессор университета в Сиднее Эрик Эшби (Eric Ashby) назвал это выступление сильным [15. P. 130], американский антрополог из Иранского института в США Артур Поуп отметил прозвучавший посыл на восстановление поля «единой науки» [10. Л. 37]. Осью концепта единой науки явилось коммуникативное поле, переформатировать которое стремятся представители различных национальных и дисциплинарных сообществ. Наука коммуникативна по своей сути. Как отмечал А.П. Огурцов, «ни ход, ни результаты, ни субъекты познания не могут быть отторгнуты от той ситуации общения, в которой осуществляется научное исследование. Каждый элемент познавательного акта и его содержания пронизан, освещен контекстом коммуникационного взаимодействия» [28]. В годы войны научные коммуникации были прерваны либо сведены к минимуму. И, естественно, на юбилейной встрече речь шла о восстановлении сотрудничества как на уровне научных институций, как и между конкретными учеными. Пьянящий воздух Победы в Великой Отечественной войне и живые традиции антигитлеровского сотрудничества создавали особый эмоциональный режим празднования. Так, французский физик, нобелевский лауреат, активный участник Движения Сопротивления, Фредерик Жолио-Кюри (Jean Frederic Joliot-Curie) после приземления в московском аэропорту 14 июня 1945 г., не скрывая эмоций, говорил корреспонденту ТАСС: «Мне трудно выразить свои чувства в эти первые минуты пребывания на советской земле. Долгие годы война разделяла нас с советскими друзьями. Но и в тяжелую пору, когда Франция была оккупирована врагом, к нам поступали сведения о выдающихся достижениях русских ученых, давших героической Красной Армии - освободительнице народов Европы - мощное оружие победы» [14. С. 1]. В таких же восторженных тонах передает атмосферу праздника науки и Э. Эшби: «Люди, что читали работы друг друга в течение множества лет, наконец, получили возможность пообщаться друг с другом вживую. Нобелевские лауреаты из четырёх разных стран присутствовали на мероприятии: Сент-Дьёрдьи из Венгрии, Жолио-Кюри из Франции, Ленгмюр из Америки и Эдриан из Англии . Несмотря на формальный характер мероприятия, приёмом можно было по-настоящему наслаждаться. Любой мог почувствовать, как узы науки, связывающие разные нации, разорванные войной, начали восстанавливаться. В этих комнатах люди наблюдали воскрешение Европейской интеллектуальной жизни» [15. P. 129]. Личными настроениями - радостью от встречи с научными друзьями - также был пронизан отклик французского биохимика, профессора Сорбонны Этена Обеля (Eucent Aubel). Ученый с большим упоением говорит о свидании с двумя коллегами, о судьбе которых в годы войны ничего не было известно. Это советский ученый Яков Оскарович Парнас, который оказался в оккупированном Львове, откуда был эвакуирован сначала в Киев, а затем в Уфу, и нобелевский лауреат, венгерский биохимик Альберт Сент-Дьёрдьи (Szent-Gyorgyi Albert), оставшийся в оккупированном немцами Будапеште. По мнению ученого, эти примеры «подчеркивают разницу в поведении по отношению к науке между союзниками СССР и немцами, которая является залогом того, что усилия русских руководителей послужат делу мира так же, как они послужили делу победы в войне» [10. Л. 29 об.]. В приведенных текстах отражаются идеальные модели науки, бытовавшие в ученом сообществе («Республике ученых»), но можно полагать, что это и результат знакомства с достижениями советских ученых, с научной инфраструктурой СССР, и, наконец, с закулисьем советской науки. Научная составляющая академического праздника была разнообразной [23]. На общих заседаниях юбилейной сессии в основном транслировался официальный образ науки, подчеркивалась роль Академии наук и ее представителей в социально-политической истории России, отмечался вклад этого ведущего научного центра в развитие различных областей знания и в Победу в войне. Основными же площадками, где были представлены научные доклады и разворачивались дискуссии, в том числе и с участием иностранных ученых, стали Отделения АН СССР и ученые советы ряда академических институтов. В рамках юбилейных заседаний заслушано 93 доклада отечественных и 36 докладов зарубежных ученых [22. С. 20]. Для участников юбилейной сессии были организованы экскурсии в академические учреждения, научные библиотеки и музеи, которые, естественно, отличались неформальным общением. Примечательно, что список учреждений, который могли посетить иностранные гости, утверждался на самом верху. Например, в Постановлении СНК от 3 апреля 1945 г. перечислялись данные академические структуры. В общей сложности планировалось показать иностранным гостям 23 учреждения АН СССР в Москве и Ленинграде [7. Л. 41]. В этом списке не оказалось Коллоидно-энергохимического института, занимавшегося в довоенный период изучением влияния электрического поля на адсорбцию молекул, в годы эвакуации в Казань - проблемами применения радиационной химии в военной сфере. Данные исследования вызывали немалый интерес среди иностранных ученых, о чем в письме от 31 мая 1945 г. директор института, академик А.Н. Фрумкин поведал академику-секретарю Н.Г. Бруевичу. Адресант назвал имена гостей, которые очевидно пожелают посетить учреждение: Эрик Ридил2, Ирвинг Ленгмюр3, Дункан Ма-кИннес4, Нил Адам5, Джейм МакБэйн6 [29. Л. 28]. Поэтому, продолжал академик Фрумкин, «отсутствие его (Института. - В.Г., В.К.) в официальном утвержденном списке ставит Институт в очень неудобное положение» [29. Л. 28]. Надо сказать, что Коллоидноэнергохимический институт все же посетили участники юбилейной сессии. Американский химик, профессор университета Миннесоты Исаак Кольтгоф (Izaak Maurits Kolthoff) в интервью советскому корреспонденту сообщил, что во время торжественных мероприятий был в этом институте дважды. Ученый отметил серьёзный фундаментальный подход в исследованиях сотрудников учреждения, сказав: «Работа профессора Фрумкина всегда была для меня большим вдохновением и имела большое значение в наших исследованиях» [10. Л. 14]. Затронул американский химик и проблему организации научного сотрудничества между СССР и США. Исаак Кольтгоф предложил наладить систему обмена молодыми учеными, учредив для того специальные стипендии. Для эффективного научного диалога, по его мнению, также необходимо преодолеть языковый барьер. «Нерусскому миру необходимо будет ввести в свою учебную программу курсы на русском языке, а также представить курсы для российских аспирантов, - говорил химик и дополнил: - Не менее желательно, чтобы интенсивное изучение английского языка производилось в российских вузах» [10. Л. 15]. Аналогичные планы по расширению коммуникации предлагали почти все участники праздника. Секретарь британской делегации, Б. Трип (Brenda Trip), успех советско-британских научных контактов видела в налаживании и продолжении обмена книгами, оттисками и рукописями, организацией визитов, выдающихся ученых и специалистов двух стран. И сетовала, что «будет очень жаль, если добрая воля и интерес, накопленные в течение двух недель конференции, не смогут быть продолжены» [17. С. 95]. В этом плане чрезвычайно интересны дневниковые записи канадского экономиста, одного из основателей научного направления по изучению коммуникаций, Гарольда Инниса (Harold Innis) о науке в Советском Союзе. Характер записей объясняется не только хищным взглядом глазомера ученого, привыкшего все фиксировать и по ходу дела размышлять над увиденным, встраивать фрагменты увиденного в общую цивилизационную картину. Дело в том, что пребывание Г. Инниса на юбилее Академии носило не только характер личного приглашения и собственного интереса к России7. Как утверждает современный исследователь Уильям Дж. Бакстон, ученый получил задание от Министерства иностранных дел Канады изучить советский опыт освоения Арктики и организации горнорудной промышленности: «По негласному соглашению Иннис мог использовать эту поездку в качестве миссии по установлению фактов для предоставления канадским официальным лицам информации о Советском Союзе, в частности о том, что Россия делает в своих арктических регионах» [30. P. 248]. В этой связи любопытны заметки Г. Инниса о посещении Арктического института в Ленинграде 28 июня 1945 г. [16. P. 38]. Делегацию встречали директор института адмирал В.Х. Буйницкий, получивший звание «Герой Арктики» как участник полярного дрейфа на ледоколе «Седов», и помощник директора, профессор В.Ю. Визе. Автор дневника сообщает, что Арктический институт «тщательно изучает ледовую обстановку с помощью авиации и составляемых ежемесячно карт состояния льда» [16. P. 38], жизненно необходимых для навигации в Арктике. Иннис делает подробную зарисовку советских исследований Арктики, фиксируя время открытия навигации на Севере, сложность и изменения ледовой обстановки на разных мысах, отмеченную в институте тенденцию к потеплению климата Арктики - к западу от Гренландии, отмечая при этом влияние континентальных речных вод на температуру и направления ветров. Посетив 30 июня 1945 г. Институт геофизики в Москве, ученый отметил план колоссального развития метеорологии в СССР, квалифицированный персонал («хорошо обученные энергичные молодые люди»), приемлемый уровень оплаты труда: «Неквалифицированные рабочие - от 250 до 450 рублей в месяц. Технические помощники - 700, молодые инженеры 700-1600. Пропитание по карточкам - ежемесячный паек, приобретаемый по карточкам 150 рублей в месяц. Две комнаты плюс кухня 30-40 рублей в месяц, свет, газ и т.д. 10 рублей. Одинокие люди получают одну комнату» [16. P. 38]. Высокий уровень организации метеорологической службы в СССР отметили и американские коллеги -Мерилл Бернард (Merrill Bernard) и Френсис Рейчел-дерфер (Reichelderfer Francis). Оба гостя выразили надежду на сохранение контактов, сложившихся в военные годы, отметили большую заслугу генерал-лейтенанта Е.К. Федорова, возглавлявшего в это время Гидрометслужбу СССР. Профессионалы хорошо осознавали общую значимость для всего человечества своих метеорологических исследований и особую миссию ученых в укреплении международного сотрудничества: «Метеорологи в своем большинстве обычно интернационально ориентированы, потому что климат и погода, с которыми они имеют дело, являются всемирными явлениями, которые не знают национальных границ» [10. Л. 58]. Камерные встречи в пространстве юбилея оказались гораздо более ценными для его участников с интеллектуальной и человеческой точек зрения. Об чем свидетельствует описание юбилейных мероприятий Э. Эшби. Ученый отметил, что они были менее формальными, а некоторые вообще неформальными и даже не предусмотренными протоколом. «Иностранные делегаты и советские ученые, - отмечает Э. Эшби, - смогли насладиться компанией друг друга. Обе стороны выражали восторг по поводу теплых взаимоотношений, которые возникли так быстро и спонтанно, но всё равно смогли преодолеть идеологический и языковой барьер» [15. P. 134]. Неоднократно упоминаемый нами Г. Иннис также фиксирует особую атмосферу подобных встреч профессионалов. Интересны его записи от 18 и 23 июня о заседаниях в Отделении истории и философии АН СССР. Он пишет, что на встрече с коллегами-историками было заслушано несколько интересных докладов о древних славянах8 и социально-экономической истории Англии. Эти встречи наводят автора дневника на мысли об адаптивных потенциях советской гуманитаристики и о превратности судеб марксизма в России. Он отмечает высокопрофессиональную конкретику и ритуализацию марксистской догматики. Р. Бакстон, ссылаясь на воспоминания сотрудницы отдела общественных наук Фонда Рокфеллера А. Безансон, воспроизводит его интересные размышления по поводу этой встречи и надежды ученого на расширение коммуникаций между советскими и канадскими исследователями: «Мы действительно нашли решительные усилия продолжить традицию Виноградова9 в изучении английского землевладения. Они провели семинар (по этой проблеме. - В.Г., В.К.) и посвятили меня и То-уни10 в свою работу, и они очень внимательно выслушали длинный ряд комментариев Тоуни по аграрным проблемам в шестнадцатом и семнадцатом веках. Я предполагаю, что у них есть несколько аспирантов, готовых приступить к работе в Англии, как только появятся ресурсы. Я уверен, что любые усилия в этом направлении будут высоко оценены в России и значительно укрепят позиции ученых в России. Мне казалось, что они только на словах говорят о Марксе, а лучшие из них даже этого не делают, и важно, чтобы мы попытались их поощрить» [30. P. 251]. Советские источники, репрезентируя эту встречу, отмечают, что английские ученые проявили большой интерес к работам отечественных исследователей по истории Англии, пригласили к сотрудничеству в английских исторических журналах, а также предложили посетить в ближайшее время Англию и Канаду [31. С. 555-556]. Г. Иннис также дает высокую оценку экономической науке в СССР и считает, что она могла бы многое предложить Западу и заслуживает поддержки. Но в своих заключениях автор дневника противоречив. Полученные впечатления он обобщает уже на обратном пути - в записи от 3 июля читаем: «...в трех четвертях всех наук русские отстают от американцев: возможно они наравне с последними в математике, но хуже в физике, химии и медицине. Хороши в ботанике». И все же заключает автор: западная цивилизация может многому научиться у России, как и Россия может многому научиться у западной цивилизации [16. P. 47]. В диалоге цивилизаций он отводит науке исключительно важную роль, по существу говорит о ее гуманистической направленности, истина всеобща... Но как активный игрок на научном поле, он не может не видеть сложностей существования науки в современном мире, связанных с политической конъюнктурой, национализмом, догматизмом и предубеждениями, зависимостью от конъюнктуры рынка, «когда ученые становятся журналистами и рекламодателями», стремлением военных использовать науку в своих интересах. Отмечает он в качестве негативного фактора соперничество кафедр и университетов. Расширение коммуникаций между советскими и канадскими учеными становится магистральной темой последующих статей и выступлений Г. Инниса в канадской прессе. В канадском обществе этот интерес к прошлому и настоящему России, налаживанию с ней связей отчетливо проявился уже в годы Второй мировой войны. Примером, иллюстрирующим этот процесс, является цикл лекций по русской истории, прочитанный осенью 1944 г. в университете Торонто, и разработка программы обмена студентами (по аналогии с американским опытом). После возвращения Г. Инниса из СССР осенью 1945 года в университете Торонто был сформирован специальный комитет по развитию направления русистики, который определил основные направления развития «русской темы» и выделил значительную сумму на приобретение русских книг11. Об этом же упоминал в своем интервью советский прессе и другой канадский ученый - Ганс Селье (Hans Seile) [10. Л. 84]. Наиболее афористически точно идея единой науки прозвучала в отклике американского астронома Хар-лау Шепли (Harlow Shapley). Подчеркивая «научное родство» Пулковской обсерватории и обсерватории Гарварда, ученый заявил: «...наука - это не только национальная наука. Звезды не признают национальных границ». По его мысли, единство науки основано на союзе ученых в битве против «неизвестного». Такое сотрудничество, считает астроном, «должно продолжаться не только в науке, где оно легко, естественно и необходимо, но и во всех областях, включая искусство и общественную деятельность человечества» [10. Л. 75-76]. С наукой связываются надежды на построение идеального мира и затягивание шрамов недавней войны. От лица американских ученых эту мысль высказал Артур Поуп: «...считаем этот праздник особенно важным, ибо он благородно подтверждает созидательную роль бескорыстной науки в формировании лучшего мира» [10. Л. 85]. В другом выступлении ученого этот мотив рационального переустройства мира выражен более определенно, и он связан с подчеркиванием особой роли в этом переустройстве русской науки, именно русские, по его мнению «подтвердили всеобщую солидарность в стремлении к бескорыстному знанию, в стремлении к идеям и идеалам, которые объединяют людей всех наций и вероисповеданий, чтобы помочь построить на основе достоверного знания лучший мир, которого мы еще не видели, но на который мы надеялись» [10. Л. 36]. Приведенные высказывания своеобразная иллюстрация процесса, который характеризуется повышением наукой своей субъектности. Примечательно, что в пространстве юбилея рождается идея институализировать «единство науки». Английский биофизик Джозеф Нидхем (Joseph Needham) выступил с инициативой создания Международной службы научного сотрудничества. Им был подготовлен и разослан «Меморандум о месте науки и международного сотрудничества в послевоенной мировой организации»12. Известно, что копии документа получили С. В. Кафтанов, П.Л. Капица, Н.Г. Бруевич. Этот документ, по всей вероятности, обсуждался физиком на встрече с председателем правительственного комитета по делам высшей школы и по совместительству уполномоченным ГКО по науке С.В. Кафтановым, где также присутствовали британский ботаник Джулиан Хаксли (Julian Huxley), французский физик Пьер Оже (Pierre Auger), Фредерик и Ирен Жолио-Кюри, американский физиолог Детлев Бронк (Detlev Bronk) и уже упоминавшиеся химик Дж. МакБейн и ботаник Э. Эшби. «Наука для народа»: национальные черты В данном разделе статьи мы намерены рассмотреть особенности советской науки, зафиксированные в откликах участников юбилея. Понятно, что юбилейный нарратив приветствий в адрес Академии и ее интеллектуальных героев не предполагает критики, но, тем не менее, нельзя не обратить внимания на некоторые повторяющиеся характеристики советской науки, прежде всего в институциональном аспекте, отмеченные положительными коннотациями. Однако стоит отметить, что в дневниковых записях «для себя» и в исследовательских текстах, пытающихся по «горячим» следам отрефлексировать увиденное, отражена более сложная и противоречивая картина развития советской науки, предпринимаются попытки осмыслить ее специфику. Кто-то это делал, как музыкант, играя с листа незнакомую партитуру, кто-то, как, например, Э. Эшби, мог апеллировать к своему опыту пребывания в Советском Союзе в качестве советника по науке при австралийском посольстве, кто-то, обращаясь к сложившимся отношениям сотрудничества в период между двумя мировыми войнами, что было характерно в большей мере для физиков, математиков, археологов/антропологов. Всматриваясь в праздничное полотно репрезентации советской науки, многие из них на этом экране видели отражение собственных проблем и в то же время отмечали специфические черты советской науки. В плане институционально-организационном отмечалась значительная роль государства. Индийский физик, профессор Калькуттского университета Мегнад Саха (Meghnad Saha) рассматривает советскую науку как образец, как действенный инструмент успешного решения социальных проблем. Так, в неопубликованном фрагменте заметки для газеты «Вечерняя Москва» ученый проводит параллели между Россией 25-летней давности и современной Индией. Россия образца 1918 г., отмечает М. Саха, находилась на том же уровне развития, что Индия в 1945 г.: 90% населения - это крестьяне, «влачащие голодное существование», промышленная сфера развита слабо и во многом зависима от иностранного капитала [10. Л. 60]. Однако благодаря индустриализации, в которой, подчеркнул автор, важную роль сыграло академическое сообщество, России удалось шагнуть далеко вперед, став одной из самых передовых стран в технологическом плане. И этот опыт М. Саха оценивает как руководство к действию для политических лидеров и ученых мужей Индии. Физик пламенно призывает соотечественников отказаться от «ложных теорий “альтруизма”», ведь, по его мнению, «религия и прялка не могут излечить болезни Индии» [10. Л. 61]. В решении социально-экономических проблем следует опираться на науку, как это сделал Советский Союз. Показателен интерес иностранных участников к организационной структуре Академии наук СССР. Например, в личном фонде президента Сербской академии наук и словесности, филолога-слависта А.И. Белича сохранились рукописные заметки, посвященные данному сюжету. Ученый подробно законспектировал основные положения действующего устава учреждения (принятого в 1935 г.) [32]. А.И. Беличем была зафиксирована структура академического центра, что позволило ему сравнить советскую и возглавляемую им сербскую Академии. Автор отметил, что Академия наук как высший научный центр СССР, в котором работают ведущие специалисты страны, призвана содействовать «общему подъему теоретических, а также прикладных наук», обогащая и развивая тем самым «мировую научную мысль» [32]. Академия наук СССР, зафиксировал ученый, имеет более мощную и развитую структуру и включает 151 институт и других структур (лаборатория, музей, библиотека), 4 213 научных высококвалифицированных работника, 44 журнала (из них три на французском и английском языках) [33]. Универсальность советской Академии наук, объединившей и естественников и гуманитариев, британский археолог Чайлд Гордон (Childe Gordon) называл позитивным. По его мнению, подобная практика способствует «взаимопониманию и помощи различных отраслей исследований» и с сожалением констатирует, что в Лондонском Королевском обществе представлены только естественные науки [10. Л. 84]. На юбилейных выставках была экспонирована современная советская литература по всем отраслям научного знания. Объем и репрезентация новейших достижений советской науки впечатлила гостей. «Размах публикаций огромен» [16. P. 36], - напишет в своем дневнике Г. Иннис, а Б. Трип сообщает о 16 чемоданах книг и оттисков статей советских ученых, приготовленных членами британской делегации для пересылки. Профессор университета в Уппсале, метеоролог Хельге Гётрик Баклунд13 для местной газеты подготовил очерк «Юбилей русской Академии наук является историческим событием», в которой упоминал, как его коллега, участник юбилейной сессии, профессор Хультен14 «захватил с собой по крайней мере 5 метров новой русской литературы, если поставить на полку». Сам же автор признавался, что привез из СССР «порядочных полтора метра» книг [11. Л. 34]. Академический праздник приоткрыл для иностранных ученых кулису советской повседневности. Артур Поуп с нескрываемым восторгом говорил не только о хорошем техническом оснащении институтов и лабораторий, которые были показаны участникам юбилейной сессии в рамках экскурсионной программы сессии, он и воспроизводит миф, что «у каждого члена Академии наук есть свой автомобиль, свой шофер, свой секретарь» [10. Л. 37]. Реальность же была более сложной, чем это было показано/увидено. Перечисленный американцем набор привилегий, бесспорно, относился к генералам советской науки -небожителям академического Олимпа. Рядовые же сотрудники АН СССР столкнулись с серьезными трудностями по восстановлению расстроенного войной и эвакуацией быта. Так, накануне юбилейных торжеств были выделены средства для обеспечения научных работников АН СССР необходимым, а именно - верхняя одежда, костюмы, одеяла, постельное и нательное белье (!) [7. Л. 39]. В откликах значительной части участников академического праздника государственная поддержка ученых оценивается положительно и рассматривается как сильная сторона советской науки. Но были и другие наблюдения, не высказываемые публично, в которых фиксировались «доминирование государства и вождей», полная зависимость от государственного бюджета, «утилитаристский» mainstream - «акцент на пользе, а не на теории» [16. P. 25], репрессивное давление на ученую корпорацию [16. P. 44; 17. С. 93], перераспределение ролей внутри сообщества и наделение высоким статусом членов корпорации вне зависимости от научных заслуг. К примеру, Б. Трип передает мнение одной из сотрудниц Академии наук, что «чистых» генетиков на юбилейных торжествах не оказалось, а презентация достижений советской генетики свелась к представлению «опытов» Т.Д. Лысенко. Э. Эшби в анкете на вопрос «Что вы нашли особенно интересным здесь, в вашей отрасли науки?», назвал в том числе и «ряд новых работ по генетике растений, особенно по межвидовым скрещиваниям» [18. Л. 2]. Примечательно как данный ответ коррелировался на страницах разных периодических изданий. Так, например, в номере от 15 июля 1945 г. «Британского союзника» помещен его очерк о советской ботанике [12. С. 10]. Там много говорилось о работе Института ботаники, Тимирязевского института, назывались имена наиболее выдающихся исследователей и их открытия. Не оказалось в этом ряду фамилии Лысенко. А вот в «Вечерней Москве», наоборот, в репортаже от 22 июня о посещении иностранцами институтов и лабораторий Академии наук подробно освещено заседание Отделения биологических наук, где с докладом «Технические основы управления наследственностью у растений» выступил Т.Д. Лысенко. По поводу этих исследований Эрик Эшби корреспонденту советской газеты сказал: «Я давно уже знаком с работами академика Лысенко в области яровизации. Но сейчас я особенно рад, что получил возможность лично познакомиться с ученым, и на месте, в Москве, получить интересующие меня материалы» [13. С. 1]. Ответ достаточно дипломатичен, чего не скажешь о его оценке советского академика в англоязычной книге, вышедшей спустя два года - в 1947 г., в которой он относит Лысенко к амбициозным и безответственным ученым, прославившемся в том числе за счет важности популяризации научного знания в СССР [15. P. 187]. Наука в Советском Союзе стала признанной частью государственного престижа, а ученый наделялся функциями производителя знания и привнесения его в народ. Особое отношение к науке и ученому в массовой культуре зафиксировали многие участники юбилея. Обратимся к примерам. Якоб Хейман (Jacob Heiman), представляющий издание «Американское обозрение советской медицины», отмечает интерес простых людей к науке: «Газеты посвящают страницы предметам научного интереса, не омраченным рекламой. В кинотеатрах стены увешаны интересными данными по биологии, зоологии и другим познавательным материалом. Наука и разум заменили суеверия» [10. Л. 73]. В интервью Чайлда Гордона также отмечается эта культурная специфика: «Я был очень впечатлен общественным положением и большим авторитетом, которым пользуются ученые в вашей стране. Ваш народ, кажется, интересуется наукой гораздо больше, чем другие народы мира: научная деятельность - это новости на первых полосах газет, вы находите для нее место чуть ли не каждый день. Это помогает демократизировать науку, что очень необходимо. В частности, в моей сфере деятельности -археологии, где население может нам активно помогать» [10. Л. 83]. А один из участников юбилейной сессии делает миниатюрную зарисовку популяризации науки, с мастерством писателя, в которой наука предстает как контекст повседневности. Воспроизведем ее полностью: «Место действия - сапожная фабрика в Москве. В швейной комнате около 200 девочек и детей работают за машинками. На одном конце доски, площадью около сорока квадратных футов, приколоты яркие цветные диаграммы, иллюстрирующие птолемеевскую, коперниковскую и ньютоновскую теории Солнечной системы, а также теорию относ ительно-сти. На фабрике проводится курс лекций по астрономии, и графики меняются от недели к неделе. Говорят, что посещаемость стопроцентная» [15. P. 195]. Участники юбилейной сессии удивлялись многочисленным приветствиям в адрес АН СССР не только со стороны власти и различных научных учреждений, что было укоренено в культуре празднования академических юбилеев, но и от трудящихся на фабриках и заводах, удивлены и впечатлены тем, что на пленарном заседании они лицезрели как самые высокие армейские чины «сражающейся Армии, торжественно вошли в зал , чтобы публично выразить благодарность советским учёным за их роль в завоевании Победы» [10. Л. 22]. Как и применительно уже к первому по-советски отмечаемому академическому юбилею в 1925 г., когда местом торжеств стали «не только дворцы, но и площади, заводы и фабрики; участниками не только академики и вожди, а все работники науки и трудящиеся массы» [34. C. 206], в юбилейном действе 1945 г., иностранные гости отметили митин-ги/приветствия в честь ученых и науки. Несколько таких сцен запечатлено в книге Э. Эшби. На пути в Ленинград поезд с иностранными гостями остановился на станции Любань, где их восторженно приветствовали местные жители. Такой же прием ждал участников юбилея и на привокзальной площади Северной столицы. Автор пишет об этих моментах с симпатией и одновременно с подозрением на постановочную часть («участникам выдали букеты цветов») [15. P. 137-138]. Он же и попытался осмыслить данный культурный феномен, объясняя его высоким символом веры, характерным для русской культуры, прежде всего, для русской литературы. Эшби полагает, что менталитет русского человека не изменился и после революции: «Их сила духа, их наивность и отсутствие лицемерия в словах, экстраординарная смесь жесткости и доброты, хитрости и честности, их привычка оправдывать поступки, совершенные людьми “Волей Божьей”: все это отразилось в произведениях девятнадцатого века. И все это осталось в среднестатистическом Советском гражданине. Русский менталитет влияет на Советскую науку точно так же, как влияет на Советскую поэзию и политику. Это объясняет, как слабые, так и сильные стороны Советской науки: сильные стороны, например, поисково-разведывательные работы, а слабые -статистические исследования» [15. P. 146]. Следующую причину он связывает с внутренними факторами развития науки. Популяризация имманентно присуща науке как социокультурной системе, на рубеже XIXXX вв. в связи с научной революцией и переходом к массовой науке наблюдается популяризаторский всплеск. В рамках советской цивилизации этот всплеск был усилен таким фактором, как концептуальная установка на замену религиозных верований абсолютной верой в науку. Ссылаясь на авторитет Эдуарда Эррио15, он констатирует, что советская власть наделила науку всем авторитетом, которого она лишила религию. «Многочисленные святые дни Церкви в значительной степени заменяются энергичным геронтопоклонством перед живыми и мирянами - канонизацией умерших ученых» [15. P. 186]. В качестве примера он обращается к празднованию 100летнего юбилея И.И. Мечникова в мае 1945 г., который вылился, с его точки зрения, в канонизацию ученого: «Каждый школьник слышал об этом. Это было по радио. Ее (биографию. - В.Г., В.К.) читали в клубах колхозов и в газетных стендах, стоящих на тротуарах . К вечеру 15 мая 1945 г. миллионы российских граждан знали имя Мечникова и могли бы рассказать вам, что он работал над фагоцитами и иммунитетом, сравнительной эмбриологией и проблемой старости» [15. P. 191]. На выходе такая культурная практика дает неоднозначный результат - происходит повышение статуса науки и ученого в обществе, с одной стороны, и неизбежное упрощение ее, приспособление к «профанному» сознанию - с другой, что вносит серьезные изменения в критерии научности. Оборотной стороной популяризации является преувеличение достижений российских ученых, как средство раздувания национальной гордости. Эта практика в последнее время, по Э. Эшби, «приобрела форму удивительного утверждения, что многие важные открытия произошли именно в России» [15. P. 219]. Автор, таким образом, на советском научном поле зафиксировал специфику противопоставления себя остальному миру: советское значит отличное. Отчетливо эта тенденция проявилась несколько позже в иных международных и внутриполитических контекстах. Автор размышлений об особенностях советской науки констатирует, «что нигде в мире, даже в Америке, нет такого широкого интереса к науке среди простого народа, как в России» [15. Р. 186]. А Г. Ин-нис в своем дневнике запишет ключевую фразу, характеризующую, с его точки зрения, национальную специфику: «Русские поклоняются знаниям». Отметили иностранные гости и претензии совет
Crawford E. Nationalism and internationalism in science, 1880-1939. Four studies of the Nobel population. Cambridge, 1992.
Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX-XX вв.: Анализ отечественных историографических концепций. Екатеринбург ; Омск, 2000.
Дмитриев А.Н. От академического интернационализма - к системе национально-государственной науки // Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны. СПб., 2007. С. 32-56.
Сборник «Русская наука»: замысел и опыт реализации // Судьба проекта «Русская наука». 1916-1920 (к 100-летию комиссии по изданию сборника «Русская наука») : статьи и документы. СПб. ; М., 2016. С. 11-105.
Груздинская В.С., Корзун В.П. «Юбилей, как мне кажется, станет общегосударственным событием. »: документы по истории празднования 220-летия Академии наук СССР // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2019. № 3. С. 281-293.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 125. Д. 3559. Л. 12.
Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 3. Оп. 33. Д. 137.
Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 519. Оп. 1. Д. 50.
АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 34.
АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 584.
АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 585.
Британские ученые об успехах советской науки // Британский союзник. № 28. 15 июня 1945. С. 10.
Достижения советских ученых // Вечерняя Москва. № 145. 22 июня 1945. С. 1.
Накануне юбилейной сессии Академии наук СССР // Правда. 1945. 14 июня. № 141. C. 1
Ashby E. Scientist in Russia. New York, 1947.
Innis H. The Russia Diary // Harold A. Innis: Innis on Russia. The Russia Diary and other writings by Harold A. Innis. Toronto, 1981. P. 13-50.
Ковалев М.В., Груздинская В.С. «Все были очень впечатлены дружелюбием, гостеприимством и энтузиазмом советских ученых»: британская делегация на 220-летнем юбилее Академии наук. 1945 г. // Исторический архив. 2020. № 4. С. 87-107.
АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 583.
Павлова Г.Е. 220 лет Академии наук СССР// Вопросы истории естествознания и техники. 1974. Вып. 1 (46). С.21-25.
Кременцов Н.Л. Плоды победы // Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки. СПб., 2003. С. 794-795.
Орел В.М. Юбилеи Российской Академии наук: история и традиции // Российская Академия наук: 275 лет служения России. М., 1999. С. 31-37.
Быковская Г.А., Македонская В.А. 220-летие Академии Наук: подведение итогов деятельности в годы ВОВ // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. Серия «Социально-политическое развитие российского общества». 2015. № 2. С. 19-24.
Груздинская В.С. Юбилей Академии наук СССР в 1945 г. в зеркале иностранных приветственных адресов // Россия XXI. 2020. № 2. С. 26-39.
Корзун В.П., Груздинская В.С. 220-й юбилей АН СССР в победном 1945-м: сценарий празднования в социокультурном контексте эпохи// Вестник РУДН. Серия: История России. Т. 19. 2020. № 2. С. 374-392.
Лиманова С.А. Победный парад советской науки // Родина. 2020. № 6. С. 122-125.
Корзун В.П., Колеватов Д.М. «Русские поклоняются знаниям» (220-летний юбилей АН СССР в восприятии канадского ученого) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2020. Т. 162, № 3. С. 207-219.
Куперштох Н.А. Образ науки в послевоенном мире: юбилейное заседание Президиума Академии наук СССР в июне 1945 г. // Всеобщая история. 2020. № 2. С. 3-11.
Огурцов А.П. Научный дискурс: власть и коммуникация (дополнительность двух традиций) // Философские исследования. 1993. № 3. URL: http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/ogur93sp.htm (дата обращения: 22.12.2020).
АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 41.
Buxton W. Northern Enlightenment: Innis's 1945 Trip to Russia and Its Aftermath// Harold Innis and the North Appraisals and Contestations / Edited by William J. Buxton. London : McGill-Queen's University Press Montreal, 2013. P. 246-272.
Юбилейная сессия АН СССР 15 июня - 3 июля 1945 г. : в 2 т. Т. 2. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947.
Архив Српска akageMja наука и уметности, ф. Александра Белийа, 14386-III/2154.
Архив Српска академjа наука и уметности, ф. Александра Белийа, 14386-III/2155.
Сорокина М. Ю. Открытая сцена, или Двухсотлетний юбилей Академии наук // На переломе: Отечественная наука в конце XX-XXI вв. СПб. : Нестор-История, 2005. Вып. 3. С. 206-235.
Корзун В.П. Юбилеи Академии наук в первой половине XX века: конструирование коммуникативного поля // Наука как общественное благо : сб. науч. ст. : в 7 т. М. : Русское общество истории и философии науки, 2020. Т. 5. С. 60-63.
АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 581.
Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х - середина 1950-х гг. / под ред. В.П. Корзун. М., 2011.
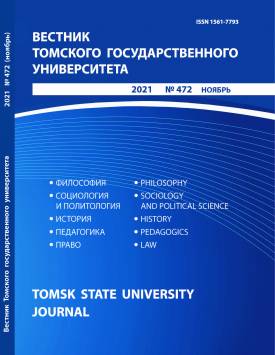

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью