Противостояние Русского государства с государствами Чингизидов: макросоциологический и исторический аспекты
Анализируются последствия столкновения Руси с Монгольской империей и ее наследниками - государствами Чингизидов. Отмечается положительное значение изменений, происшедших в военной логистике Московского государства. Рассматриваются причины эффективности «пушечной и мушкетной революций» в контексте противостояния Москвы с Чингизидами. Доказывается, что освобождение Руси от ордынской зависимости было следствием не только преобразований в военном деле, но и успешного социально-экономического развития русских земель, роста сельского хозяйства и ремесла, в первую очередь, металлургического производства, а также пробуждения русского национального духа.
The Confrontation Between the Russian State and the Chingizid States: Macrosociological and Historical Aspects.pdf Введение. Согласно теории японского историка Тадао Умесао, феномен формирования двух центров индустриального развития в рамках островных государств Британии и Японии был связан с тем, что обе страны находились в отдалении от нестабильных евразийских степей, которые мешали развиваться континентальным цивилизациям в силу военного давления на последних со стороны кочевников [1. P. 110112]. Из теории модернизации Т. Умесао следует, что чем дальше земледельческая культура стояла от степей, тем больше у нее было шансов попасть в разряд стран первого эшелона развития. В этой связи, по мнению японского ученого, Россия неизбежно повторяла путь Исламской цивилизации, а также цивилизаций Индии и Китая. Отсутствие индустриальной революции в Японии в то же время, что и в Англии, Т. Умесао объяснил закрытием Японии для иностранцев в начале XVII в. В теории Т. Умесао много спорного, но интересно, что она анализирует причины отставания цивилизаций центральных регионов Евразии, отбрасывая евроцентристские концепции. Согласно последним, господство Запада в Новое время было предопределено греко-римским наследием. По Т. Умесао, цивилизации могли совершить переход к капитализму и индустриальному развитию без внешнего влияния, если народы степи не оказывали на них военное давление. По мнению С. А. Нефедова, Русская цивилизация получила импульс к развитию благодаря включению ее в образованную монгольскими завоевателями евразийскую систему обмена знаниями и военными технологиями. Примерно те же идеи высказал Э.С. Кульпин-Губайдуллин [2. С. 37-78]. Т. Умесао не учел важные аспекты в развитии цивилизаций Евразии: номады не всегда выступали в качестве субъекта агрессии, таковым нередко являлись и земледельческие цивилизации. Для аргументации данного положения стоит привести Крестовые походы. Зоны рискованного земледелия также являлись источниками военного давления на развитые общества. В указанном случае отметим походы викингов. В Северо-Восточной Европе, помимо Скандинавии, был другой источник экспансии - Литовское государство, сформировавшееся в XIII вв. Оно подчинило себе большие территориальные массивы бывшей Киевской Руси [3. С. 182-183], создав в конце XIV в. угрозу существованию княжеств Северо-Восточной Руси. Отношения между литовскими и юго-западными русскими князьями носили преимущественно даннический характер [4. С. 23-28], как и у русских государств с Чингизидами. «Мушкетная революция» в Северо-Восточной Руси стала ответом в основном на угрозу со стороны Литовского государства. Для осознания масштабов последствий монгольского завоевания Руси необходимо определить численность населения русских земель перед нашествием, в течении монгольского периода и после него. Однако историческая демография XIII-XIV вв. дает мало ответов на поставленные вопросы [5]. Не намного лучше обстоит вопрос и с выяснением численности населения Русского государства в XIV-XVII в. Стоит согласится с высказыванием В. Д. Чернышевского, что метод экстраполяции писцовых книг конца XV в. на весь монгольский период не может быть верен [5. С. 11], однако этому методу в историографии нет равновесной альтернативы. Целью статьи выступают выделение, интерпретация и группировка основных сведений по вопросам военных дела и технологий, а также изучение последствий для России войн, относящихся к монгольскому периоду. Наша гипотеза заключается в том, что численность населения Руси в XIII-XV вв. менялась незначительно, т. е. за монгольский период она не претерпела существенных изменений по сравнению с концом домонгольского периода. В этой связи на фоне «застоя» населения военная организация русских земель не имела достаточной материальной базы. Исходя из этого, необходимо: - выяснить, что было первично в социальноэкономическом развитии России: рост производительных сил, включая и трудовые ресурсы, или же коренные изменения в военной технологии и военной организации; - определить демографические изменения в русских землях в монгольский период и провести анализ причин, на них повлиявших, включая военные; - рассмотреть динамику внутренней колонизации, выявить ее связь с военными действиями; - проанализировать военные технологии и военную организацию, изучить ответ русского общества на военные вызовы, включая и возрождение национального самосознания. «Революции» в военном деле и Русь. Главной проблемой русских земель в смысле способности их экономики обеспечить вооруженные силы достаточным количеством средств борьбы теоретически мог стать дефицит металлов. Посмотрим, насколько такое предположение верно. Для обеспечения высокой боеспособности средневекового европейского войска численностью примерно 40-50 тыс. человек в разгар эпохи Крестовых походов требовалось примерно 100200 т металла, большая часть которого шла на доспехи тяжелой конницы. Естественно, эти доспехи, как и доспехи для всего войска, не изготавливались за один год и даже десятилетие. Общегосударственная статистика учета выплавки металлов и производства всех металлических изделий в средневековой Руси не велась. В отечественной исторической литературе отмечалось, что только в одном из пяти крупнейших металлургических районов Руси - около Лужской губы Водской пятины Новгорода - действовали примерно 204 домницы. Эти данные получены на основе анализа писцовых книг 1500 г., но вышеупомянутый металлургический центр существовал еще в монгольский период. Эти домни-цы могли дать более 11 000 пудов выплавки в год [6. С. 215], что было достаточно для снаряжения доспехами всех рыцарей Германии или Франции. Таких впечатляющих результатов годового производства новгородская металлургия достигла к концу монгольского периода. Б. А. Рыбаков предположил, что первые домницы возникли в русских землях только в XIII-XIV вв. Самые ранние документальные упоминания о домницах относятся к концу XV в. [7. С. 130]. Рост металлургии в Северо-Западной Руси был связан с расширением внутренней колонизации в данном регионе во второй половине монгольского периода. Особенно активно процесс шел в XV в., что подтверждается результатами археологических раскопок [8. С. 196]. Также стоит упомянуть интересный факт: в 1630 г. устюжские металлурги сделали для русской армии 55 338 ядер разных калибров, в 1631 г. - 62 908, в 1632 г. - 338 500, в 1633 г. - 246 500 [8. С. 199]. Для сравнения, в Бородинском сражении русская артиллерия произвела приблизительно 60 000 выстрелов [9. С. 131]. Разумеется, в начале XIX в. качество боеприпасов было выше, чем в XVII в., но приведенные статистические данные показывают высокий уровень обеспечения русского войска допетровской эпохи. Из летописного сюжета, относящегося к середине XIV в., следует, что некоторые бояре в Новгороде не имели средств на приобретение доспехов [10. С. 231]. Однако в войне с Великим княжеством Московским 1456 г. практически все новгородские бояре уже имели доспехи европейского образца, которые не брали стрелы московских воинов [11. С. 143]. Итак, за сто лет в Новгородской республике получила распространение «феодальная революция» в военном деле, сопровождавшаяся развитием тяжелой конницы, тогда как основой московского войска еще оставались конные лучники (татарская модель войска). В целом, русский боярин за редкими исключениями во времени и пространстве был далеко не европейским рыцарем. К тому же русское военное сословие было малочисленным, уступая и в этом странам Запада. В Англии конца XII в. насчитывалось 5000 рыцарей и 1 400 баронов первого разряда [12. С. 148]. На Руси в монгольский период было меньше бояр при гораздо большей площади территории, чем в Англии [13. С. 197]. Трудно определить, сколько воинов задействовал на р. Шелони в битве с новгородцами Иоанн III, речь идет о нескольких тысячах (5 или 12 тыс. московитов [14. С. 145-147], не считая татар), но не о десятках тысяч человек [11. С. 148]. «Революция» в военном деле феодальной Европы прошла мимо Руси в IX-XV вв., затронув только Новгород и Псков. Тяжелая конница в русских землях не появилась нигде, кроме двух республик. Однако в военном деле материальная сторона не всегда имеет решающее значение. Как справедливо заметил известный русский историк, ректор Московского университета в 1911-1917 гг. М.К. Любавский, определяющее значение для русских побед имело объединение страны и пробуждение национального чувства [15. С. 355-356]. В подтверждение данного положения М. К. Любавского о возрождении русского национального духа стоит привести содержание выдающихся памятников русской литературы XIV-XV вв. [16], прежде всего «Задонщины», «Сказания о Мамаевом побоище» и «Повести о стоянии на Угре» [17, 18]. Можно вести дискуссии о численности войск Дмитрия Донского, его союзников и Мамая в Куликовской битве, боевых потерях и бенефициарах [19-23], но выдающаяся роль сражения в подъеме русского национального самосознания сомнению не подлежит. М. А. Несин в одной из своих работ на примере походов войск Василия II и Иоанна III показал, что великокняжеское войско могло хорошо снабжаться только в радиусе 100 км от своей столицы, после этой черты начинались серьезные сложности с логистикой [11. С. 150]. Это обстоятельство частично объясняет, почему московским князьям долго не удавалось покорить великие княжества Тверское и Рязанское. Их столицы находились на расстоянии более 100 км от Москвы. Для ордынцев также были важны Москва, Рязань и Тверь, что обусловило сохранение ими в каждом из этих городов своих княжеских домов, которые были обязаны поддерживать политическую лояльность населения к Чингизидам. Так, без контроля Орды над Тверью Новгород и Псков оказывались для ее войск вне зоны досягаемости из-за невозможности снабжения, а одними грабежами татарские войска не могли долго прокормиться. Судя по описаниям походов московских князей, Москва в XV в. могла содержать максимум 10 000 воинов, включая вассальные татарские контингенты. С появлением огнестрельного оружия городское ополчение становится силой, но, как показали события Смуты, оно все равно значительно уступало профессиональным воинам. Для роста численности кавалерии требовалось достаточно развитое коневодство, но в данном случае Русь однозначно отставала от кочевников (табл. 1). Л. В. Милов связывал слабое развитие коневодства у русских крестьян с недостаточной кормовой базой для этого вида животных в русской аграрной экономике Средних веков [26] и объяснял эти процессы экстенсивными методами ведения хозяйства [27]. Мы согласны с мнением Л.В. Милова, что в русских землях монгольского периода имелось отставание в развитии коневодства по сравнению с рядом других государств. Нехватка лошадей в русском сельском хозяйстве также объясняется тем, что значительная часть пастбищ отдавалась под молочных коров. С XIV в. русские обратились к импорту лошадей у ногайцев, что повысило боеспособность московского войска. Т а б л и ц а 1 Процент останков лошадей в общем остеологическом материале в XII - первой половине XV в. Территории Москва, XIII -первая половина XV в. Ниж. Новгород, XIII -первая половина XV в. Тверь, XIII -первая половина XV в. Новгород, XIII -первая половина XV в. Казанский Кремль, XIII -первая половина XV в. Англия, около 1066 г. Проценты 3,5 4,3 6,62 1,6 31,4 31 Составлено по: [24. С. 110; 25. P. 47]. Рассмотрим для сравнения структуру войска одного из соседей русского государства - Казанского ханства. Развитое коневодство позволило ему иметь в начале XVI в. кавалерию общей численностью примерно в 20 000 всадников [28. С. 604], которая составляла главную ударную силу казанского войска. В казанской пехоте в подавляющем большинстве служили незнатные ополченцы на нерегулярной основе. Поступавшие от других народов ханства выплаты позволяли казанцам содержать достаточно многочисленное конное войско, что давало возможность сдерживать наступление Московского государства до появления у последнего стрелецких полков. На рубеже XVXVI вв. в Русском государстве центральная власть начинает больше внимания уделять логистике, что получило особое развитие при Иване Грозном [29. С. 223]. Однако «мушкетная революция» не уберегла Московскую Русь от многих военных катастроф. «Мушкетная революция» в Русском государстве XVI в. была вызвана дефицитом кавалерии. Пятиполковая рать, ежегодно выставлявшаяся на р. Оке для прикрытия Москвы от ударов крымских татар, насчитывала в последней четверти XVI в., судя по данным 1580 г., 12-14 тыс. человек [30. С. 143]. В случае необходимости численность войск на этом направлении могла быть существенно увеличена. В 1570 г. Иоанн IV дважды посещал русское войско на р. Оке с инспекционными целями [31. С. 678], а в апреле 1572 г. сделал смотр в Коломне [32. С. 199]. В 1571 и 1572 гг. состоялись крупные походы крымских татар (большую часть войска составляли ногайцы) на Москву с целью восстановления прав Чингизидов на Казань и Астрахань и возобновления Русским государством выплат «выхода». Для борьбы с ними Иван Грозный сосредоточил 11 полков и другие воинские соединения общей численностью примерно 3540 тыс. человек. Судя по анализу событий 15711572 гг., проведенному В.В. Пенским и Т.М. Пенской, Иван Грозный мобилизовал в то время большую часть всего способного воевать мужского населения ВолгоОкского междуречья [33. С. 191-192]. Похожая ситуация была ранее, во время похода на Москву крымского хана Сахыб I Гирея (Сахиб I Герай) в 1541 г. Согласно татарским источникам, русские успели быстро собрать войско, пока Сахиб-Гирей потерял сутки на переправе через р. Оку из-за спора с одним из своих военачальников [34. С. 314]. По всей видимости, эта проволочка с переправой спасла не столицу Московского княжества от захвата, а само войско Сахыб-Гирея от разгрома. В источниках сообщается, что татары, к своему ужасу, увидели огромное количество русских ратников, готовых к бою. В связи с этим стоянием на р. Оке, татарские хронисты не сообщают о наличии у русских ручного огнестрельного оружия. Скорее всего, в московском войске пищали во время данных событий отсутствовали или их было очень мало. В то же время отмечается большое количество русских орудий. Русское ручное огнестрельное оружие упомянуто в связи со знаменитым стоянием на р. Угре в 1480 г. Однако из текста одноименной «Повести» не следует, что это было важной причиной для отказа хана Ахмата перейти реку и вступить в ближний бой с русским войском. Интересная деталь, автор «Повести...» пишет: «Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их стрелы падали между нашими и никого не задевали» [18. С. 517]. Этот отрывок свидетельствует, что качество луков воинов Ахмата оказалось ниже, чем у русских. Само описание противостояния на Угре напоминает больше столкновение двух войск кочевников. Отсюда следует, что к периоду разгара правления Иоанна III русские во многом взяли на вооружение военный опыт номадов, дополняя его применением ручного огнестрельного оружия. Сравнивая два стояния: на р. Угре 1480 г. и на р. Оке 1541 г., можно сделать вывод, что к середине XVI в. русские использовали западные военные наработки в гораздо большей степени, чем в последней четверти XV в. Сам факт того, что в 1541 г., еще задолго до военных реформ Ивана Грозного (он был тогда совсем юн), Московскому государству удалось в максимально сжатые сроки провести мобилизацию большого количества мужчин и перебросить за сто с лишним километров от столицы множество орудий на р. Оку, указывает на то, что революция в военном деле у русских была уже близка к пику, только не было боевой пехоты, в массовом порядке оснащенной огнестрельным оружием. В 1541 г. Сахыб-Гирей планировал уничтожить Московский дом Рюриковичей и установить свое прямое правление в Северо-Восточной Руси [34. С. 313-315], подражая в этом смысле политике турецких султанов, вассалом которых он был сам [35. С. 28-31] (о сложных вассальных отношениях крымских ханов и турецких султанов подробно написал в своей монографии известный русский историк второй половины XIX - начала XX в., первый среди русских тюркологов, специально занимавшийся изучением истории Турции, В.Д. Смирнов [36. С. 237-245]). Основу войска у крымских татар в то время составляла конница, вооруженная луками и саблями (всадники имели сменных лошадей). Французский военный инженер Г. Боплан, находившийся на польско-литовской службе в первой половине XVII в., отмечал: «...ловкость и проворство татар удивительны: несясь во весь опор, они перескакивают с усталого коня на заводного и легко избегают преследования неприятелей» [37. С. 44]. В войске крымского хана XVII в. почти не было артиллерии, поэтому, несмотря на более совершенную, по сравнению с Москвой, военную организацию своего войска (было перестроено ханами по образцу Османской империи), дом Гиреев проиграл. Имея техническое превосходство над крымскими татарами, русские войска, тем не менее, вели борьбу с ними с переменным успехом, несмотря на выдающуюся победу в битве при Молодях в 1572 г. [38. С. 1651]. Судя по историческим источникам, русские полки под руководством воеводы М.И. Воротынского активно применяли в данном сражении огнестрельное оружие - пушки и пищали [39. С. 180]. Также необходимо принять во внимание моральный фактор. Как отмечал Д. М. Володихин, «при Молодях победил не только талант князей Воротынского и Хворостини-на. победило прежде всего русское упорство. » [32. С. 205]. В целом стоит отметить, что Московскому государству не хватало воинов для ведения военных действий по столь широкому фронту при наличии других опасных противников - Речи Посполитой, Швеции и Ливонского ордена. Ивану Грозному досталось от его отца и деда неплохое войско, оснащенное огнестрельным оружием, но для борьбы с западными армиями оно не имело достаточно огневой мощи. В результате Ивану Грозному потребовалось активное сотрудничество с прибалтийскими немцами, т.е. с иноверцами, чтобы «подтянуть» русскую артиллерию и огневую мощь пехоты до европейского уровня. Это было необходимым, чтобы вступить на равных в борьбу со Швецией за Ревель [40. С. 329-330]. Но для борьбы с Польшей и Швецией Москва по-прежнему отставала в аспекте технологий и военной организации. Восстановление после «Батыева погрома». Принимая во внимание, что находившиеся в более благоприятных климатических условиях, нежели Новгородская и Псковская земли, Московское государство не содержало войско численностью более 10 000 человек, нагрузка военных расходов на экономику Волго-Окского междуречья не была столь значительной, чтобы говорить о существенных военных издержках русского общества монгольского периода. Этим обстоятельством во многом объясняется отсутствие крупных крестьянских восстаний и выступлений горожан в Московском государстве в XIV-XV вв. Данные археологических исследований домонгольского и начальных этапов монгольского периодов, произведенных на территории Московского удельного княжества, показывают, что разоренные войском Батыя села восстанавливались на том же самом месте во второй половине XIII в. Так, в волости Пехорка (территория по р. Пехорка в 20 км от Москвы) в первой трети XIII в. существовали 13 поселений общей площадью 7,3 га. Три из них так и не были восстановлены после «Батыева погрома», но во второй половине XIII в. 11 поселений оставались на том же месте, что и до монгольского нашествия. К ним прибавились еще 8 новых поселений, общая площадь селений составила к концу XIII в. уже 8,3 га, что на 1 га больше, чем до 1238 г. [41. С. 459-460]. Меньше повезло волости Воря того же Московского удела, площадь поселений в этой волости к концу XIII в. составила 88% от домонгольского уровня [41. С. 459-460]. Согласно археологическим изысканиям, юговосточные, южные и юго-западные (лесостепные) окраины Рязанского княжества продолжали развиваться в качестве зон расселения земледельцев во второй половине XIII в. Исследователи не отмечали их серьезного упадка. До первой половины XV в. археологами в рязанском пограничье со степью локализованы 240 земледельческих поселений (преимущественно русских по культуре) [42. С. 31]. К тем же выводам, что и С.И. Андреев, пришел в своей монографии о южных территориях Рязанской земли Н.А. Тропин. Он исходил из того, что 59% всех обнаруженных в этом районе земледельческих поселений, существовавших в XII-XIV вв., относились к монгольскому периоду. Отсюда Н.А. Тропин сделал заключение о росте заселенности южных и юговосточных окраин Рязанского княжества, который происходил на фоне ослабевающего интереса кочевников к этим территориям [43. С. 90]. Приведенные Н.А. Тропиным данные о более чем двукратном росте количества сел в монгольский период только на юге Рязанского княжества указывают на значительный прирост населения в этом регионе. В то же время население Московского княжества, согласно работе С.З. Чернова, почти не увеличивалось вплоть до завершающего этапа зависимости русских земель от Золотой Орды, а позднее Большой Орды. Материалы монографии Н.А. Тропина позволяют нам также по-другому взглянуть на демографию Золотой Орды. Ее население не было столь многочисленным даже в первой половине XIV в., так как в это время не наблюдалось демографического давления кочевников на лесостепную окраину Рязанского княжества (движение в зоны рискованного скотоводства). Это противоречит основным теоретическим положениям Э.С. Кульпина-Губайдуллина о демографическом взрыве в Золотой Орде в конце XIII - первой трети XIV в. Мнение о низком давлении кочевого населения в монгольский период на русские лесостепные районы подтверждается археологическими данными: очень мало находок оружия золотоордынцев вблизи рязанского пограничья рядом со степью [44. С. 166]. Монгольское завоевание усилило старую тенденцию - на юге русских земель кочевники препятствовали движению русского населения в степь. В полосе соприкосновения со степью русские крестьяне значительно пострадали от монгольских завоевателей. Согласно коллективной монографии Н.А. Макарова, С.Д. Захарова и А.П. Бужилова, в районе Куликова поля к XIV в. общая численность селений составила 45% от домонгольского уровня [45. С. 224]. Однако через некоторое время после нашествия Батыя даже в верховьях Дона началось восстановление движения русских колонистов на юг. В случае миграции населения с южных берегов р. Оки на север из-за военного давления кочевников, стоило ожидать увеличения плотности населения в Московском уделе и в районе Владимирского ополья. Однако этого не произошло. Внутренняя колонизация Северо-Восточной Руси шла медленно. С.З. Чернов определил, что экологическая ниша средневекового хозяйствования была заполнена в Мещере к началу XV в., а на Клинско-Дмитровской гряде - только в первой четверти XVI в. [41. С. 461], в годы княжения Василия III, и это происходило всего в 70-100 км от столицы Русского государства. Тяжесть дани и демография русского населения. В русских землях имел место большой процент безлошадных крестьянских хозяйств. Данный факт дает возможность пересмотреть природу окладной единицы монгольского периода - «две сохи», определив, что «соха» - это крестьянская артель из 812 мужчин. Соответственно, главная окладная единица, с которой собирались деньги на «выход»: 1624 крестьян. В налоговой системе Московского княжества к «сохе» приравнивались занятия промыслами и торговлей, но основную часть населения составляли крестьяне - более 90%. В конце XIV в. во Владимиро-Московской Руси имелись 4000 «двухсошных артелей» [46. С. 41] (без учета непосредственно Московского княжества, которое платило отдельно 1 500 рублей [47. С. 108]). Каждая из «артелей» насчитывала в среднем от 16 до 24 крестьян, что означает 64 000-96 000 взрослых мужчин в 4000 окладных единицах. Следовательно, с учетом детей, женщин и стариков, во ВладимироМосковской Руси в указанные хронологические рамки проживали максимум 480 000 человек. В реальности население было несколько меньше, так как к «сохе», как отмечалось выше, приравнивались промыслы, заработки купцов и ремесленников. Эти подсчеты характеризуют численность населения Великого княжества Владимирского к 1393 г., до приобретения Василием I у Орды права на Нижний Новгород, прежде принадлежавший городецкому князю Борису Константиновичу. Известно, что только Городецкий удел Нижегородского княжества дал после этого московскому князю 160 руб. на «выход» [48. С. 28]. Присоединенная Даниилом Александровичем в 1301 г. к Москве Коломна с волостями давала при Иване Калите в княжескую казну 342 руб. [49. С. 78]. Выявленная численность населения Великого княжества Владимирского не дает представлений о динамике населения в монгольский период и о численности населения других русских регионов. Метод экстраполяции здесь не может быть применим, так как княжества в разной степени страдали от татарских набегов, междоусобиц, голода и эпидемий. Для анализа демографии Московского государства в монгольский период важны суммы даннических выплат в Орду. В изданной в 1958 г. статье П. Н. Павлова, которую отмечал А.А. Горский, подробно описывалась роспись даннических выплат в Орду по уделам [50]. По этим данным нами была составлена таблица народонаселения отдельных регионов Северо-Восточной Руси (табл. 2). Мы исходили из максимального количества крестьян - 24 человека - в «двухсошной» окладной единице, которая платила рубль на ордынский выход. Стоит отметить, что размеры дани не менялись для нескольких поколений, что отражает, на наш взгляд, не юридическую фиксированность данной выплаты, но реальную ситуацию с численностью плательщиков. В вопросе объемов и частоты выплаты дани важны подсчеты В. В. Трепавлова. Он выяснил, что в конце XIV в. Великое княжество Владимирское платило ордынцам 4 000 руб. в год [51. С. 64]. Т а б л и ц а 2 Даннические выплаты и численность населения Руси в XIV - первой трети XV в. Регион 1300-1382 гг. 1382 г. 1389 г. 1433 г. Численность населения (максимальная оценка)1 Владимирское Великое княжество (ВК) 4 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 660 000 чел. (с учетом Московского княжества), 792 000 чел. с 1389 г. (с учетом Московского княжества) Тверское ВК 2 000 руб. - - - 240 000 чел. Московское княжество 2 000 руб. - 1 500 руб. - - Новгород (без учета угро-финских данников) 2 000 руб.2 8 000 руб. - - 240 000 чел. на рубеже XIII-XIV вв.3 Нижний Новгород и Суздаль 2 000 руб. - 1 500 руб. 1 500 руб. 240 000 чел. в начале XIV в. и 180 000 чел. в конце XIV в. Муром и Мещера - - - 500 руб. 60 000 чел. Рязанское ВК (без Муромской земли) - - - - 60 000-70 000 чел.4 Ярославское и Костромское княжества (без учета Вологодчины) - - - - 60 000-70 000 чел.5 Примечания: 1 При подсчете численности населения мы исходим из того, что взрослое мужское население в русских землях составляло около 20% от всего населения (это соответствует нормам средневековых европейских обществ). 2 Для некоторых лет сумма была намного меньше. 3 Доходы Новгорода с начала XIV в. намного в большей степени, чем у других русских государств, определялись экспортными доходами, но не численностью населения. 4 Данные подсчеты сделаны по сравнительно-историческому методу: после всех разорений от ордынских набегов, особенно в конце XIII в., Рязанское княжество не могло иметь намного больше населения, нежели Муромская земля. 5 Расчеты по этим княжествам сделаны на базе данных, приведенных у П.Н. Павлова, по доле Углича и его округи («Углеча поля») в дани в 105 руб. (это заметно ниже, чем по Городцу и Коломне). В Ярославских и Костромских княжествах (без учета Вологодчины) кроме Углича было еще три крупных города - Ярославль, Кострома и Ростов. Составлено по: [50. С. 101-106; 51. С. 64; 52. С. 98-107]. По оценке В.Л. Янина, в 1334 г. новгородцы пере- 1339 г. - более 1 000 руб., в 1385-1386 гг. была отдана дали Москве для «выхода» в Орду более 500 руб., в огромная сумма в 8 000 руб., но «рекорд» был поставлен при «государе Всея Руси» Иоанне III - 17 000 руб. [52. С. 98-107]. При этом весьма вероятно, что в Большой Орде этих денег не увидели. Столь внушительные цифры объясняются, очевидно, взиманием Москвой задолженности от новгородцев за несколько лет. Большие суммы выплат дани Новгородской республикой понятны, если принять во внимание, что только от продажи беличьих шкурок Новгород ежегодно получал 4,2 т серебра [53. P. 46], тогда как стоимость каждой тонны серебра равнялась приблизительно 6 500 руб. Относительно стабильный характер численности населения в конце XIII-XIV вв. и его подчиняющиеся общим для Европы тенденциям сокращения населения в конце XIV - начале XV в., совпадают с данными по археологии Московского княжества С.З. Чернова. На изменение численности населения русских земель негативно влияли эпидемии и голод (табл. 3). Среди причин, вызывавших болезни и мор, следует назвать военные действия, однако сокращение населения из-за указанных причин не относится к прямым источникам боевых потерь. Т а б л и ц а 3 Количество походов ордынцев на русские земли и потери населения от эпидемий и голода в монгольский период Количество походов ордынцев на русские земли Русские потери Количество эпидемий и голодовок в русских землях (1237-1507 гг.) Потери от эпидемий и голода 102 Осада Рязани Батыем (1237 г.) - 8000 погибших. Осада Батыем Владимира (1238 г.) - более 40 000 погибших. Куликовская битва (1380 г.) - 1700-30000 погибших (по разным оценкам). Сожжение Москвы Тохтамышем (1382 г.) - около 24 000 погибших. Суздальское сражение (1445 г.) - более 1000 погибших. Бой в устье р. Камы князя Д .В. Ярославского (1469 г.) -430 погибших 31 Голод в Новгородской и Смоленской землях -80 000 умерших перед Баты-евым нашествием. Эпидемия в Новгороде в 1504-1507 гг. - 15 396 умерших Составлено по: [13. С. 226-228; 54. С. 69, 130; 55. С. 191-194; 56. С. 138]. Таким образом, потери русского населения от голода и эпидемий были внушительными и примерно соответствовали военным. По поводу размеров выплаты дани существуют различные, порой диаметрально противоположные точки зрения. Так, С. А. Нефедов указывает, что «дань отнимала лишь небольшую часть дохода крестьянского хозяйства» [57. С. 28]. Мы же придерживаемся другого мнения. Одним из авторов данной статьи было определено, что в пределах Владимиро-Суздальской Руси размер дани составлял 50% стоимости зернового урожая, полученного средней крестьянской семьей [46. С. 41]. Назовем три основные причины, позволившие в этих тяжелых условиях сохранить и даже обеспечить определенный рост численности населения русских земель: 1) в Нечерноземье имела место высокая для средних веков производительность зернового хозяйства, которая была всего в два раза меньше, чем в Китае [46. С. 22]; 2) продуктивность части крестьянских хозяйств была выше средней; 4) дань фактически выплачивалась не каждый год [52. С. 106] и не всегда в полном объеме (с недоимками) [58. С. 172]. Имелся ли у Чингизидов шанс победить Московскую Русь? Насколько многочисленным были войска Чингизидов и имели ли они шансы взять реванш у Московского царства в конце XV - начале XVII в., как того хотели Ахмат-хан, Сахиб-Гирей и другие захватчики? Отсюда вытекает еще вопрос: почему государства Чингизидов не догнали Русь по уровню применения огнестрельного оружия? Ответы на эти вопросы можно найти в одном событии, хорошо освещенном в восточных источниках, - сражении у Кафы между турками и татарами в 1628 г. Турецкий сводный отряд (в нем были и лояльные султану татары) попал в окружение восставших против владычества Порты крымцев и ногайцев. В восточных источниках, со слов османских командиров, сообщается, что только ногайцев было около 100 000 всадников, но с ними шли еще 1 000 пехотинцев и 800 вооруженных ружьями казаков (надо понимать, конных, т. е. своеобразный отряд рейтар). Огнестрельное оружие было, вероятнее всего, и у пехотинцев, которые являлись, судя по всему, крымскими татарами. Ногайцы были оснащены луками. Ногайцы и крымцы решились атаковать турецкие войска, только имея над ними безусловное превосходство, судя по турецким источникам, оно было десятикратным. Турки под Ка-фой, имея около 10 000 солдат с огнестрельным оружием, потерпели поражение, однако большая часть их спаслась, отступив за стены крепости [34. С. 356]. Следовательно, для победы (и то далеко не полной) в сражении с войском вооруженным огнестрельным оружием противник должен был иметь многократное превосходство в живой силе. Развивавшаяся на другом конце Евразии «пороховая» революция в рамках Китая под властью Маньчжурской династии в XVII в. подтолкнула некоторых монгольских князей к стремлению войти в состав России, что подтверждается рядом документов [59. Л. 124-125; 60. Л. 26; 61. Л. 82]. Маньчжурская династия пришла к власти в Китае в 1644 г. в основном за счет распространения в войске маньчжуров огнестрельного оружия, которое они применяли тактически лучше, чем китайцы. Монголы, как и в случае с ногайцами Крымского ханства, оказались невосприимчивы к новому типу оружия, продолжая полагаться на свое численное преимущество и конную лаву, оснащенную луками. В результате ногайцы и Крымское ханство попали под власть Порты, в то время как ряд монгольских вождей предпочел союз с другой «пороховой» империей - Московской Русью. Итак, спустя примерно 400 лет с того времени, когда Батый брал русские города, исторический процесс в Евразии кардинально изменился. Кочевые общества предпочитали союз с более сильной стороной военным и социальным реформам. Однако, надо отметить, что в Забайкалье в конце XVII в. столкнулись две волны «пороховой революции» - русская и китайская. Империи Цин пришлось параллельно вести борьбу с монголами и военные действия с Русским царством [62. Л. 1 и др.], что стало одной из причин заключения Нерчинского мира в 1689 г. Таким образом, границы Московского царства определялись в зонах проживания номадов до начала XVIII в. тем, насколько успешно кочевники могли гасить волну «пороховой революции» и одновременно участвовать в комбинациях военных альянсов земледельческих народов. «Пороховая» революция затронула в некоторой степени Казанское ханство, население которого, в отличии от Крымского, в значительной части состояло из земледельцев. Однако осада Казани «мятежными мурзами из Горной страны» (выступление чувашей и черемисов в 1551 г.) показывает, что «мушкетная» и «пушечная» революции были локализованы в столице ханства, провинциальная знать значительно уступала столичной по количеству огнестрельного оружия. Об успешном применении артиллерии казанскими воинами указывает тот факт, что в 1506 г. русское войско во главе с князем Дмитрием, братом великого князя Василия III, потерпело поражение под Казанью из-за более эффективного использования татарами пушек [63. С. 200]. Так или иначе, но «пороховая революция» в Казанском ханстве ограничилась, в силу политических и ментальных причин, непосредственно столицей. Из-за сложных отношений казанцев с населением регионов в ханстве не удалось создать вооруженной мушкетами пехоты, аналога стрелецкого войска Ивана Грозного [63. С. 200]. Московское государство в силу своего внутреннего единства использовало в условиях «мушкетной революции» свой демографический ресурс, чего нельзя сказать о Казанском ханстве, которое не смогло этого сделать, имея население около 400-500 тыс. человек (из них около половины татары-земледельцы [64. С. 136]). Одной из причин катастрофы Казанского ханства стало то, что оседлые татары не могли выходить по военно-политическим причинам за пределы района слияния Камы и Волги. В отличии от татар, другие народы ханства находились на заметно более низкой стадии социальноэкономического развития [65. С. 22]. Итак, государства Чингизидов вполне могли участвовать в «мушкетной» революции, но кочевые племена категорически не принимали огнестрельного оружия. У кочевников не было в нем необходимости в виду их многочисленности. Сражение у Кафы, в свою очередь, указывает на демографический взрыв второй половины XVI - начала XVII в. среди кочевого населения Крымского ханства. Однако ногайцы обязаны были участвовать во всех больших войнах турецкого султана, что отвлекало их от нападений на Московское царство. Европейские номады испытывали во второй половине XIV - начале XV в. сильный демографический спад, вызванный Великой чумой и междоусобными войнами. Так, тяжелые последствия для военного потенциала Золотой Орды имели репрессии хана Узбека против язычников Северного Кавказа [44. С. 164]. В XVI в. начинается демографический рост среди номадов, что создает угрозу Московскому государству. Таким образом, у Чингизидов были шансы даже после 1480 г. нанести серьезное поражение Московскому государству при условии, что кочевые племена (в основном ногайцы) будут вооружены огнестрельным оружием, однако этого не произошло. Э. Д. Филлипс отмечал: «Окончательная победа Ивана IV над татарами (за исключением крымских) была одержана во многом благодаря новым видам огнестрельного оружия, в том числе большим и малым пушкам, которых в степи еще не знали» [66. С. 154]. Кроме того, Московской Руси помог политический фактор - Оттоманская империя и Крымское ханство вступили в череду войн с Польшей, Венгрией и Австрией. То, что одно распространение огнестрельного оружия в русских землях без его сопровождения другими процессами не м
Ключевые слова
феодальное войско,
историческая демография,
военное дело,
русские земли,
Русское государство,
государства Чингизидов,
«пушечная и мушкетная революции»,
Московское княжествоАвторы
| Иерусалимский Юрий Юрьевич | Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова; Московский государственный областной университет | д-р ист. наук, зав. кафедрой отечественной средневековой и новой истории, научный руководитель лаборатории военной истории; профессор кафедры истории, культуры и социального развития Московской области | osniyar@uniyar.ac.ru |
| Попов Григорий Германович | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | канд. экон. наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории актуальной истории | ggpopov2009@mail.ru |
Всего: 2
Ссылки
Umesao T. An Ecological View of History: Japanese Civilization in the World Context. Trans Pacific Press, 2003. 208 p.
Кульпин-Губайдуллин Э.С. Золотая Орда: судьбы поколений. М. : ИНСАН, 2006. 125 c.
Василенко Н.П. История Западной Руси и Украины. М. : Центрполиграф, 2015. 512 с.
Ефименко А.Я. История Украины и ее народа. 4-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2015. 176 с.
Чернышевский В.Д. О численности населения домонгольской Руси (постановка проблемы) // Историческая демография. 2009. № 2. С. 9-12.
Очерки русской культуры XIII-XV веков. Ч. I: Материальная культура / под ред. А.В. Арциховского. М. : Изд-во МГУ, 1969. 480 с.
Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. М. : Изд-во АН СССР, 1948. 803 с.
Колчин Б.А. Обработка железа в Московском государстве в XVI в. // Материалы и исследования по археологии СССР. Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. II, № 12. М. ; Л., 1949. С. 192-208.
Ларионов А.П. Использование артиллерии в Бородинском сражении // 1812 год : сб. статей. М., 1962. С. 116-133.
Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М. : Языки славянских культур, 2008. 395 с.
Несин М.А. Из истории логистики русских войск в XV - начале XVI в. (отзыв на работу Пенского В.В. «..И запас пасли на всю зиму до весны»: логистика в войнах Русского государства эпохи позднего Средневековья - раннего Нового времени») // История военного дела : исследования и источники. 2016. Т. VIII. С. 134-166.
Буассонад П. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и труд в средневековой Европе. М. : Издательский Центр-полиграф, 2010. 383 с.
Попов Г.Г. Социально-экономическое развитие и историческая демография Руси IX - начала XV в. М. : Издательство МГОУ, 2011. 275 с.
Алексеев Ю.Г. Военная история допетровской России. 2-е изд. СПб. : Изд-во О. Абышко, 2019. 752 с.
Любавский М.К. Русская история от древности до конца XVIII в. М. : Академический проект ; Фонд «Мир», 2015. 846 с.
Азбелев С.Н. Куликовская победа в народной памяти: Литературные памятники Куликовского цикла и фольклорная традиция. СПб. : Дмитрий Буланин, 2011. 312 с.
Памятники Куликовского цикла / сост. А.А. Зимин и др. ; гл. ред. Б.А. Рыбаков; ред. В.А. Кучкин. СПб. : Русско-балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998. 410 с.
Повесть о стоянии на Угре / пер. Я.С. Лурье // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века М. : Художественная литература, 1982. С. 514-521.
Кирпичников А.Н. Куликовская битва / под ред. акад. Б.А. Рыбакова. Л. : Наука, 1980. 124 с.
Каргалов В.В. Куликовская битва. М. : Воениздат, 1985. 126 с.
Разин Е.А. История военного искусства : в 3 т. Т. 2: История военного искусства VI-XVI вв. СПб. : Полигон, 1999. (Военноисторическая библиотека). 656 с.
Горский А.А. Москва и Орда. М. : Наука, 2000. 214 с.
Азбелев С.Н. Численность и состав войск на Куликовом поле // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 4 (62). С. 23-29.
Асылгараева Г.Ш. Исследования остеологических материалов Нижегородского Кремля // Поволжская археология. 2013. № 3 (5). С. 116-144.
Holmes M. Southern England: A Review of Animal Remains from Saxon, Medieval and Post-Medieval Archaeological Sites. Discovery, Innovation and Science in the Historic Environment // Historic England. Research Report Series 8-2017. 316 p.
Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М. : РОССПЭН, 1998. 572 с.
Милов Л. В. Природно-климатические факторы и особенности российского исторического процесса // Вопросы истории. 1990. № 4-5. С. 36-56.
Трепавлов В.В. «Отецкие дети»: элита Казанского ханства в Литовской метрике // Золотоордынское обозрение. 2017. Т. 5, № 3. С. 600611. DOI: 10.22378/2313-6197.2017-5-3.600-611
Смирнов Н.В. Очерки военной истории Смутного времени. Осада Смоленска 1613-1616 гг. // История военного дела: исследования и источники. 2015. Специальный вып. IV: Смоленские войны XV-XVII вв. Ч. I.
Шейхумеров А.А. Мифологии и реалии битвы под Молодями // Крымское историческое обозрение. 2019. № 2. С. 133-154.
Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. До конца эпохи Ивана Грозного. М. : Академический проект ; Культура., 2015. 702 с.
Володихин Д.М. Воеводы Ивана Грозного. М. : Вече, 2014. 352 с.
Пенской В.В., Пенская Т.М. «Яз деи деда своего и прадеда ныне зделал лутчи..»: Поход Девлет-Гирея I и сожжение Москвы в мае 1571 г. // История военного дела: исследования и источники. 2013. Т. IV. С. 183-226. URL: http://www.milhist.info/2013/06/20/penskoy-penskaya_1 (дата обращения: 07.09.2020).
Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской порты : в 2 т. М. : Рубежи XXI, 2005. Т. I. 540 с.
Уманец А.А. Исторические рассказы о Крыме: От народов древней Тавриды до присоединения Крыма к России во второй половине XVIII века. 2-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2015. 232 с.
Смирнов В.Д. Крымское ханство XIII-XV вв. М. : Вече, 2011. 336 с.
Боплан Г. Описание Украины, или Областей Королевства Польского, лежащих между пределами Московии и Трансильвании, с присовокуплением известий о нравах, обычаях и военном искусстве украинцев / пер. с фр.; предисл. Ф.Г. Устрялова. 2-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2015. 200 с.
Верхотуров Д.Н. Крым. Военная история. М. : Яуза ; Эксмо, 2014. 288 с.
Записи Разрядной книги о «береговой» службе и отражения нашествия крымских татар в 1572 г. / публ. В.И. Буганов // Исторический архив. 1959. № 4. С. 166-183.
Бабулин И.Б. Осада Ревеля (1570-1571 гг.) по данным хроники Бальтазара Рюссова // История военного дела: исследования и источники. 2016. Т. VII. С. 326-391.
Чернов С.З. Структуры землевладения Великого Московского княжества в XIV-XV вв. по данным микрорегиональных комплексных исследований: Волок Ламский, Радонежский удел, Московские городские станы : дис.. д-ра ист. наук. М., 2005. 901 с.
Андреев С.И. Русско-татарско-мордовское пограничье во второй половине XIII-XVI вв. // Вестник Тамбовского государственного университета. 2013. Вып. 10 (126). С. 31-42.
Тропин Н.А. Сельские поселения XII-XIV вв. южных территорий Рязанской земли. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. уни-та, 2004. 263 с.
Иванов В.А. Статистическая корреляция и география комплекса вооружений кочевников Золотой Орды // Археология Евразийских степей. 2017. № 5. С. 160-166.
Макаров Н.А., Захаров С.Д., Бужипова А.П. Средневековое расселение на Белом озере. М. : Языки русской культуры, 2001. 496 с.
Попов Г.Г., Давыдов С.Г. Российская империя - от генезиса к коллапсу. Очерки по социально-экономической и политической истории. Ногинск : АНАЛИТИКА РОДИС, 2015. 524 с.
Горский А.А. Москва и Орда. М. : Наука, 2000. 212 с.
Чеченков П.В. Городецкий удел в конце XIV - начале XV вв. // Городецкие чтения-2002. Материалы научной конференции. Городец : Администрация Городецкого района, 2003. С. 21-29.
Муравьева Л.А. Экономика Руси в XIV в. // Финансы и кредит. 2004. № 20 (158).
Павлов П.Н. К вопросу о русской дани в Золотую Орду // Ученые записки Красноярского педагогического института. Красноярск, 1958. Т. 13, вып. 2. С. 101-106.
Трепавлов В.В. Золотая Орда в XIV столетии. М. : Квадрига, 2010. 72 с.
Янин В.Л. «Черный бор» в Новгороде XIV-XV вв. // Куликовская Битва в истории и культуре нашей Родины: материалы юбилейной научной конференции. М. : Изд-во МГУ, 1983. С. 98-107.
Martin J. Treasure of the land Darkness. The fur trade its significance medieval Russia. Cambridge University Press, 1986. 277 p.
Волков В.А. Войны и войска Московского государства (конец XV - первая половина XVII в.). М. : Эксмо, 2004. 572 с.
Селезнёв Ю.В. Русско-ордынские военные конфликты XIII-XV веков: справочник. М. : Квадрига, 2010. 224 с.
Нефедов С. А. История России: Факторный анализ. Т. I: С древнейших времен до Великой Смуты. М. : Территория будущего, 2010. 376 с.
Нефедов С.А. А было ли иго? // Урал индустриальный. Екатеринбург, 2001. С. 24-33
Конявская Е.Л. Антиордынские выступления Руси во второй половине XIII - первой трети XIV в. / отв. ред. А.Н. Хохлов // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь: Тверской науч.-исслед. историко-археол. и реставрац. центр, 2019. Вып. 12. С. 168-179
Российский государственный архив древних актов (далее - РГАДА). Ф. 1121. Иркутская приказная изба. Оп. 1. Д. 35.
РГАДА. Ф. 1121. Иркутская приказная изба. Оп. 1. Д. 164.
РГАДА. Ф. 1142. Нерчинская приказная изба. Оп. 1. Д. 46.
РГАДА. Ф. 126. Мунгальские (Монгольские) дела. 1686. Д. 1.
Измайлов И.Л. Вооружение и военное искусство Казанского ханства XV - первая половина XVI в.: комплексный анализ источников // Археология евразийских степей. 2017. № 5. С. 196-202.
Исхаков Д.М. Этнополитические и демографические процессы в XV-XX веках // Татары / отв. ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко. М. : Наука, 2001. (Сер. «Народы и культуры»). С. 101-152.
Виноградов А.В. Окружающая среда и русская колонизация территорий Казанского ханства (1552-1700 гг.) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. № 6 (51). С. 20-26.
Филлипс Э.Д. Монголы. Основатели империи Великих ханов / пер. с англ. О.И. Перфильева. М. : Центрполиграф; Внешторгпресс, 2003. 174 с.
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Кн. 1126-1133, 1138, 1168-1189, 1191-1195.
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Кн. 153, 390-396.
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 60, 844. Л. 1-16.
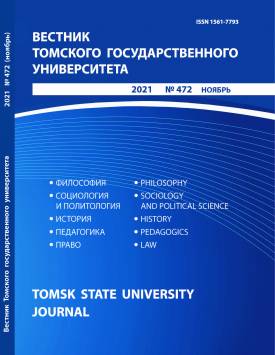

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью