К «истории человеческих жертвоприношений»: П.В. Вологодский и томский погром 1905 г.
Изучена с разных сторон причастность П.В. Вологодского к томскому погрому в октябре 1905 г. и выяснена его роль в сценариях происходивших беспорядков. С использованием микроисторической детализации и компаративных методов реконструируется участие юриста в акциях, предшествовавших кровопролитию, поведение в момент эскалации конфликта и после него. Задействованные в исследовании материалы делопроизводства, периодической печати, воспоминания, другие исторические источники позволяют существенно дополнить знания об одном из самых кровавых эпизодов в истории Томска.
In the “History of Human Sacrifice”: Pyotr Vologodsky and the Tomsk Pogrom of 1905.pdf Россия в начале ХХ столетия вступила в эпоху чрезвычайно сильного социально-политического напряжения, кровавым проявлением которого становились многочисленные погромы. После кишиневской бойни в апреле 1903 г., когда погиб 51 горожанин и около 500 были ранены, почти каждое третье здание города оказалось поврежденным [1. С. 88], погромные акции исчислялись сотнями. Относительно их количества в то время у историков нет единого мнения. К примеру, Ш. Ламброза говорит о более чем 650 побоищах, имевших место в течение последующего трехлетия после кишиневского [2. P. 287], а B. О. Будницкий указывает на 657 погромов, происшедших только с октября 1905 г. по январь 1906 г. [3. C. 57] Наиболее полное представление о томских зверствах в октябре 1905 г. дает современная монография М. В. Шиловского, которая начинается с информации о числе пострадавших в Томске: 66 погибших и 126 раненых [4. С. 3]. В этой книге, а также в диссертации Е.А. Казаковой, посвященной П. В. Вологодскому, имя последнего неоднократно упоминается как одного из причастных к октябрьским событиям 1905 г. и поверенного гражданских истцов на процессе по делу о данном погроме в 1909 г. [4. С. 20-21, 23, 80-81, 84-85, 87, 99-101, 105, 112-113; 5. С. 63, 98-99], однако из этих работ у читателя не сложится целостная картина о связи знаменитого сибиряка с происшедшими в Томске событиями. Между тем изучение материалов делопроизводства, периодической печати, воспоминаний и других исторических источников, с применением микроисторической детализации и компаративных методик, позволяет не только восполнить пробелы в биографии присяжного поверенного и будущего премьер-министра, но и существенно дополнить знания об обстоятельствах кровопролития и в целом о социально-политической борьбе периода Первой русской революции. Томский погром в основном пришелся на 2022 октября 1905 г. - дни, когда сначала в стычках промонархически настроенных подданных (их иногда именовали патриотами) и антиправительственных сил было совершено немало тягчайших преступлений, начиная с убийств ни в чем не повинных горожан, а затем из-за пассивности властей и войск в городе произошли массовые избиения, грабежи и разрушения, носившие уголовный характер и во многом направленные против евреев. Бойня явилась вершиной нараставшего политического кризиса, обнаружившегося наиболее заметно в противостоянии, с одной стороны, возглавлявшейся А. И. Макушиным городской думы, гласным которой являлся П. В. Вологодский, с другой стороны -государственным аппаратом самодержавия, прежде всего, губернской администрацией под руководством губернатора В. Н. Азанчевского-Азанчеева, а также полицией во главе с полицмейстером П. В. Никольским (общая картина противоборства хорошо показана в упомянутой монографии М. В. Шиловского). Ключевые механизмы насилия были спровоцированы манифестом 17 октября, создавшим в стране ситуацию, потенциально чреватую гражданской войной [6. С. 462]. В Томске известие об этом акте привело к поляризации настроений людей и эскалации конфликта, итогом чего стало создание городскими властями милиции («городской охраны»), вооружавшейся огнестрельным оружием. Полиция же из-за подобных решений и действий оказалась полностью деморализованной и в сроки погрома просто-напросто отсутствовала в городе. Неслучайно начальник томского гарнизона 22 октября рапортовал губернатору, что «за время беспорядков в г. Томске замечается полнейшее отсутствие чинов полиции на улицах города» [7. Л. 105]. Связь с погромом, как и общая высокая политическая активность П.В. Вологодского в 1905 г., создала ему образ недоброжелателя самодержавия, и персона присяжного поверенного привлекала повышенное внимание правоохранительных органов. В сохранившемся списке четырех десятков лиц «Организаторы революционного движения в Томске», составленном, скорее всего, жандармской службой по исходу указанного года, он назван среди других наиболее опасных для режима революционеров, многие из которых имели непосредственное отношение к дестабилизации обстановки, так или иначе были задействованы в кровавом конфликте и потом «неугодно» для властей проводили расследование его обстоятельств (к примеру, перечислялись А.И. Макушин, председатель Томского окружного суда А.В. Витте, вскрывавший трупы убитых врач А.А. Грацианов) [8. Л. 1-2]. Более того, сохранилась справка Томского губернского жандармского управления (ТГЖУ) 1913 г., где прямо говорилось о виновности Петра Васильевича в кровопролитии восьмилетней давности: «Под его влиянием городское самоуправление в 1905 г. и закрытая в 1906 г. газета “Сибирский вестник” придерживались явно противоправительственного направления, что и было из главных причин октябрьских 1905 г. событий в г. Томске» [9. Л. 1]. Когда в годы Гражданской войны П.В. Вологодский уже находился на олимпе государственной власти, его касательство томского погрома официально представлялось как проявление смелости, решительности и принципиальности. «Вестник Томской губернии» в декабре 1918 г. писал, что издававшийся частично на его средства «Сибирский вестник» поднялся в 1905 г. «до такой высоты гражданского мужества и влияния, каких ни один из печатных органов Сибири ни раньше, ни после уже не мог достичь». Вспоминалось, как «Сибирский вестник» после кровопролития выступил с обвинениями в «преступном небрежении» В. Н. Азанчевского-Азанчеева, указывалось и на бесстрашие адвоката, который незадолго до побоища, 18 октября, встал на защиту избивавшихся полицией и казаками учащихся на Соляной площади возле здания окружного суда, и это вмешательство «угрожало если уж не жизни, то здоровью и физической неприкосновенности заступника» [10]. Несомненно, в городе рост конфликтности был неразрывно связан с деятельностью П. В. Вологодского. Здесь 1905 г. начинался с акции 12 января, одним из инициаторов которой прокурор Томского окружного суда А.Г. Беляев в представлении прокурору Омской судебной палаты от 14 января называл присяжного поверенного [11. Л. 1-1 об.], а начальник ТГЖУ С. А. Романов причислял его и к организаторам мероприятия [12. Л. 14]. Поначалу задуманное как банкет, оно превратилось в митинг, где звучали призывы к свержению самодержавия, принимались резолюции, распространялись листовки и распевались песни вредного для царизма содержания [13. С. 29-30, 120; 14. С. 59-66]. Данное собрание послужило толчком к дальнейшим митингам, вызвав жесткую реакцию властей. Министр внутренних дел П.Д Свято-полк-Мирский в телеграмме 16 января 1905 г. в ТГЖУ охарактеризовал собрание как носившее «чисто революционный характер» и предписал в «случае повторения подобных попыток принять самые энергичные меры к недопущению беспорядков» [12. Л. 4]. Петр Васильевич, не упоминая о своем участии в устройстве данного банкета, давал ему высокую оценку в связи с вкладом в развитие освободительного движения: акция «прорвала предварительно целую цепь административных препон» и решила «задачу объединить местные прогрессивные силы разных политических лагерей рядом политических положений», там «была впервые провозглашена идея всеобщей политической забастовки железных дорог» и «впервые перед лицом многочисленного собрания открыто были высказаны мысли об организации вооруженного восстания» [15. С. 243-245]. Вектор развития ситуации в сторону конфронтации грозил насилием, которое вскоре и случилось. 18 января последствиями разгона вооруженных демонстрантов стали более сотни арестованных, десятки раненых, двое убитых (типографский наборщик И.Е. Кононов и учащийся ремесленного училища И. Елизаров), а со стороны полиции было ранено шесть человек, один тяжело [12. Л. 21; 13. С. 28-29, 120-121; 14. С. 55-58]. Собственно, по П.В. Вологодскому, для Томска в столкновении новым стало то, что в протесте «впервые приняли значительное участие рабочие», а также появились изувеченные и убитые [15. С. 245]. Однако обвинительный акт по делу о томском погроме начинал с августа 1905 г. хронику событий, результатом которых стало кровопролитие в октябре [16. Л. 1]. На пути к расколу в Томске судьбоносной являлась инициатива, которую обсуждала городская дума 18 августа, выдвинутая П. В. Вологодским от лица юристов и адвокатского сословия. Такая самоуверенность имела основания: 1 апреля 1905 г. он был избран председателем совета присяжных поверенных округа Омской судебной палаты и, несмотря на отмену тех выборов, поскольку они прошли не совсем законно [17. С. 155], безусловно признавался адвокатами региона чуть ли не самой авторитетной фигурой в корпорации. Согласно думскому заявлению Петра Васильевича, у томской адвокатуры «возникла мысль» о негодности полицейских учреждений, поскольку «постановка института городской полиции не только не соответствовала настоятельным требованиям современной действительности, но даже иногда противоречила им». Предлагалось сделать полицию выборной и поставить ее деятельность под общественный контроль [18. С. 266-267]. 28-29 числа последнего месяца лета на квартире Петра Васильевича состоялся съезд Сибирского областного союза антиправительственной направленности, где кроме томичей присутствовали делегаты от Красноярска, Омска, Иркутска, Мариинска, Барнаула и села Бердского [13. С. 144; 19. С. 162-163]. Постановлениями союза региону отводилось независимое положение с собственным органом самоуправления -Сибирской областной думой, «самостоятельно решающей все местные нужды и вопросы хозяйственные, социально-экономические, просветительные и т.п.». Наряду с другими сферами в ее ведение предполагалось отнести «общественную безопасность» [20], тем самым подкреплялась идея создания автономных от государства учреждений для обеспечения охраны подданных. Революционизировала обстановку в те дни и профессиональная деятельность П. В. Вологодского. В частности, 26 августа 1905 г. на закрытом для публики заседании выездной сессии Омской судебной палаты в Томске (лишь приговор объявлялся при открытых дверях [21]), он защищал телеграфиста станции Тайга Л. Ф. Бизюкина, обвиненного в распространении прокламаций социал-демократической организации. По этому политическому делу подсудимый был оправдан [22. С. 78-79], чем в контексте развития революционной ситуации наносился удар по монархии. Дело в том, что оправдание состоялось несмотря на созданный обвинением вокруг подсудимого ореол ярого врага царской власти. Например, прокуратура привлекла свидетелем надзирателя тюрьмы, где содержался во время предварительного следствия служащий телеграфа, и охранник указал, что однажды во время прогулки в тюремном дворе подследственный не удержался и написал на земле: «Долой самодержавие! Смерть или свобода! Да здравствует демократическая республика!» [23. Л. 7 об., 22]. На неделе, предшествовавшей погрому, М.В. Ши-ловский выделяет несколько критических обострений. 15 октября историк называет днем, «существенно изменившим ситуацию в Томске» в сторону погружения города в «митинговую стихию», а события 18 октября - «еще одной ступенью эскалации радикальных настроений» [4. С. 21, 26]. В обоих случаях Петр Васильевич оставил заметный и даже фатальный след. 15 октября, после того как учащимся томских учебных заведений было отказано в помещении для проведения сходки, они направились в Бесплатную библиотеку и там организовали митинг, закрывшись в здании и не откликаясь на предложение П.В. Никольского идти по домам. Задним числом, 16 ноября, В.Н. Азанчевский-Азанчеев доносил в Министерство внутренних дел о развитии тогдашней обстановки: «Вскоре у здания библиотеки сосредоточилась громадная толпа народа, которая, как не пожелавшая разойтись по требованию полиции, была рассеяна при помощи полусотни казаков, самое же здание бесплатной библиотеки было оцеплено военным караулом» [24. Л. 1 об.]. Среди горожан быстро распространились слухи об избиении ребят и осаде библиотеки, и родители сильно забеспокоились. Сначала губернатор категорически отказал А.И. Макушину в просьбе предоставить молодым людям возможность свободно и безнаказанно уйти, угрожая арестом. Тогда городской голова с помощью П.В. Вологодского организовал к начальнику губернии делегацию из членов думы [4. С. 19-20], а происходившее на встрече, упоминая, что адвокат разговаривал дерзко с начальником губернии, описывал таким образом: «Подъезд у губернаторского дома закрыт. Прошу доложить, что городской голова и гласные желают быть принятыми. Приносят ответ: могу принять только голову. Прошу у гласных согласиться переговорить с губернатором об общем приеме. Гласные соглашаются подождать. На прием гласных губернатор соглашается не сразу. Прием был сухой, несколько высокомерный, но, после удачного отпора со стороны П.В. Вологодского, тон скоро смягчился». Удалось добиться, чтобы учащимся позволили покинуть библиотеку, что они и сделали ближе к полночи» [25. Л. 2], а присяжный поверенный продолжил деятельность против власти, и уже на следующий день был замечен с выступлением на многолюдном митинге [26. С. 7-8]. 18 октября выдалось для Петра Васильевича в буквальном смысле кровавым. Сам он подтверждал применение насилия (по его характеристике, «дикую расправу») томскими правоохранителями с подачи П.В. Никольского, а эффект этого избиения себя и учащейся молодежи адвокат иллюстрировал рассказом о том, что тогда «мужчины плакали, а женщины впадали в истерику» [15. С. 252]. После получения достаточно серьезных ранений его, по свидетельству лидера сибирского областничества Г.Н. Потанина, даже пришлось внести на руках в судебное здание [27. С. 59]. На телесных повреждениях присяжного поверенного в воспоминаниях остановился А.И. Макушин, осведомлявшийся в тот день о происшествии на Соляной площади по телефонным сообщениям из Томского окружного суда и сразу после избиения П.В. Вологодского передавший по телефону в его адрес «соболезнование и сочувствие». О состояние здоровья присяжного поверенного городской голова писал: «небольшая рана на лбу, ссадина на голове, боли от побоев в различных частях тела», вызванные кровоподтеками от ударов нагайками. Также упоминалось, что судейский персонал тогда парализовали «смущение и растерянность», а двое из присутствовавших представителей адвокатуры даже прослезились [25. Л. 3]. Увечья П.В. Вологодского наверняка усилили его ненависть к самодержавию и увеличили авторитет внутри антиправительственного лагеря. Оправившись от побоев, он тотчас появился в городской управе, где произносил революционные речи. Адвоката «бурно приветствовали», слышались «бесчисленные негодующие речи», царило «крайнее возбуждение» [5. С. 98-99; 25. Л. 3-4]. Сам Петр Васильевич рассказывал о тех событиях: «На экстренное заседание думы, назначенное днем того же 18 октября, явилась такая масса публики, исполненной негодования и жажды мести полицмейстеру Никольскому и казакам, и с таким настойчивым требованием, чтобы все происшедшее на Соляной площади было доложено в присутствии возможно большего количества публики, что городской голова и гласные думы вынуждены были перенести свое заседание в местный театр, где это заседание думы обратилось в громадный митинг, на котором было излито много негодования по адресу местных властей и всего самодержавно-бюрократического строя России» [15. С. 252]. В этой обстановке родились судьбоносные решения, несомненно постановленные под влиянием пострадавшего в тот день поверенного: требование к губернатору немедленно устранить от должности П.В. Никольского, а если тот выступит против, добиваться от Министерства внутренних дел отставки самого В. Н. Азанчевского-Азанчеева; возбудить уголовное преследование полицмейстера за превышение власти; для охраны города учредить городскую стражу и прекратить содержание полиции за счет средств города; не возобновлять «в настоящее крайне неспокойное время» занятий в средних и низших учебных заведениях; немедленно освободить политических заключенных [26. С. 11-13]. 19 ноября имя П. В. Вологодского было на устах митинговавших в Томске. В частности, мещанин И.С. Богун (один из осужденных на процессе о томском погроме, в разговорах среди томичей распространявшийся, что самолично поджог здание железнодорожного управления, но позже это признание не было принято судом в качестве доказательства) на допросах рассказывал, как в тот день на митинге в театре Королевой при обсуждении состава революционного органа самоуправления адвоката называли одним из кандидатов в члены нового учреждения наряду с В.М. Броннером, Н.И. Березницким и другими известными в городе радикальными деятелями [28. Л. 19, 67-67 об.]. 20 ноября - пик насилия, когда улицы Томска обагрились кровью десятков горожан, а в пожарище здания железнодорожной службы люди горели заживо, - Петр Васильевич назвал «томской историей человеческого жертвоприношения» [15. С. 254]. Непосредственно в трагические даты поверенный скрывался [5. С. 99], ведь его жизни, здоровью и имуществу грозила реальная опасность, а обстановка не предоставляла возможностей защитить себя. Из-за собственной политической активности он в большей степени, чем подавляющее большинство иных жителей города, рисковал стать объектом расправы «патриотов», чуть позже названных им самим «подонками общества» [15. С. 253]. Когда появились первые убитые и раненые, но еще до стрельбы и пожара на Новособорной площади - эпицентре разгоравшейся смуты, «патриотическая» манифестация потребовала от губернатора выдать ей адвоката вместе с некоторыми лицами, которые, по мнению М. В. Шиловского, в глазах обывателей «ассоциировались со всеобщей забастовкой и митинговой страдой» [4. С. 55], для самосуда. На заявление В. Н. Азанчевского-Азанчеева о намерении передать их в руки системы правосудия «толпа возражала, что ей нужна смерть виновных» (из обвинительного акта по делу о томском погроме) [16. Л. 2]. Затем, во время разграблений квартир и предприятий горожан, жилище героя статьи чудом спаслось. А.И. Макушин, собственное жилье которого тогда подверглось разорению [25. Л. 11], уже став депутатом, с трибуны Государственной Думы 29 июня 1906 г. рассказывал: «Толпа предполагала разгромить еще дом присяжного поверенного Вологодского. У него в доме было расквартировано несколько солдат. Горничная попросила солдат встать у ворот и сказать, что нельзя громить этот дом. Солдаты встали у ворот и сказали, что начальство не приказало громить этот дом, и толпа беспрекословно прошла мимо, не тронув его» [29. С. 1811]. По свидетельству очевидца, в городе тогда произошло «что-то вроде Варфоломеевской ночи» [30], а, например, телеграмму столичному начальству с весьма тревожными новостями из Томска от 20 октября С. А. Романов закончил двумя словами: «Большая паника» [31. Л. 33]. «Встречаясь на улице, люди подозрительно оглядывали друг друга, держа в кармане наготове оружие. Каждый видел в другом зверя, готового броситься на тебя без всякой причины», - вспоминал о негативных психологических подвижках в сознании томичей и утраченном между ними взаимном доверии еще один свидетель бойни [32. С. 15]. Человеческие страхи заставляли прятаться в городе, покидать его временно или навсегда. Когда с 24 октября восстанавливалось железнодорожное сообщение с Томском [12. Л. 200], беженцы переполнили поезда. В частности, по воспоминаниям проезжавшего по Транссибу редактора иркутского «Восточного обозрения» И. И. Попова, они набили битком его купе и вагон, пугая пассажиров на протяжении дальнейшего путешествия леденящими душу историями о «томских ужасах». Иркутский общественный деятель, вместе с тем, писал, что от погромщиков приходилось схорониться не только П. В. Вологодскому, упомянув вместе с ним некоторых важных персон и своих томских знакомых [33. С. 278-279]. Речь не шла о проявлении малодушия или трусости, а только о желании выжить во время погрома или избавиться от кошмаров пережитого после него. Попасть в «прицел» кровожадной толпы, еще до пролития крови 20 октября, по данным следствия, заранее готовившей себя к насилию («нынче конец студентам», «идем бить евреев и студентов») [34. С. 7], в тогдашней обстановке означало большую вероятность лишения жизни. Это подтверждали беспощадность и неразборчивость уже первых убийств начинавшегося погромного дня. Встреченные той самой толпой на Почтамтской улице возле городской управы инспектор страхового общества Н.Г. Яропольский, попытавшийся заступиться за него студент В. М. Кадиков и колбасный мастер Г. Гайльман убивались без особого повода и свирепо. Первого кто-то из толпы ударом полена по голове свалил с ног и вонзил лежащему нож в сердце, а мертвое тело подверглось ограблению; убивая студента, убийцы проявили крайнюю жестокость, воткнув лом ему в рот [15. С. 253-254; 26. С. 33-34; 35. Л. 25 об.; 36. Л. 7-8]. По мнению Петра Васильевича, люди испугались криминального разгула, «бежав из Томска под давлением угроз черной сотни и хулиганов разных рангов», боясь, что «разнесут их дома и квартиры, как повредили дом городского головы А. И. Макушина, а самих их прикончат, как прикончили с Яропольским» [15. С. 255]. Встретивши на станции Тайга случайно одного из беженцев - заведующего томским водопроводом инженера Я. А. Ратцига, он взял у того интервью, спрашивая о причинах бегства. В этом интервью, опубликованном под авторством С.Н. Серого (Серый - один из псевдонимов публициста П.В. Вологодского [37. С. 82]) в «Сибирском вестнике», описывался человек, ранее «деловой и серьезный», «спокойный и уравновешенный», но при встрече явно нервничавший, с воспаленными глазами, со следами на лице «еще не пережитого страха». Инженер признавался: «Бегу, бегу без оглядки из вашего страшного Томска. Я бросил все. Я не закончил свои расчеты с городом и бегу, и бегу...». Начальник водоснабженческой службы рассказал, что 20 октября губернатор не позволил ему пустить воду во всю мощь в противопожарные краны («не ваше дело тушить пожары»), чтобы залить пламя в здании железнодорожного управления в тот момент, когда там уже сгорали люди, что его теперь при виде казаков «била нервная лихорадка», что вообще случившееся повергло в невыносимые муки и терзания [38]. Публикация беседы с Я. А. Ратцигом, где В.Н. Азанчевский-Азанчеевский предстал виновником смерти томичей, являлась частью кампании антиправительственных сил по установлению контроля над расследованием обстоятельств погрома. Наверняка возложить ответственность на противоборствующую сторону желали официальные власти, из-за беспомощности, попустительства или, может быть, умысла которых состоялась бойня с большим количеством пострадавших, равно как и те, чья антиправительственная активность повысила напряженность в городском социуме, в конце концов подготовив почву для хаоса. В стане последних немаловажную роль играли представители юстиции, в чей адрес уже после процесса в августе 1909 г. посылались обвинения чуть ли не в организации погрома со страниц черносотенных газет, недовольных итогами суда. Центральные «Свет», «Русское знамя» и «Вече» в один голос утверждали: к жертвам привело революционное движение во главе с социал-демократами, за которыми «шла в хвосте вся интеллигенция с судебными и иными чиновниками». Якобы накануне кровопролития следователи вооружали городскую милицию, а после случившегося «вступили в исполнение своих служебных обязанностей и, как власть имевшие, обвиняли патриотов в погроме и отправляли их в тюрьму». Читающая публика обманывалась историями о том, что в конце концов эти «революционные» следователи были высланы из Томска, выгнаны со службы и даже подвергнуты наказаниям в качестве политических преступников [39-41]. Томская пресса похожего направления тогда же изображала А.В. Витте революционером и тем, кто соответствующим образом оказывал влияние на расследование [42. С. 740]. Речь В.М. Пуришкевича 4 мая 1912 г. в Государственной Думе, отсылавшая слушателей к событиям 1905 г., характеризовала тогдашних членов Томского окружного суда «носителями либеральных идей», а подчиненное учреждению судебное ведомство - «левым» [43. С. 459, 461]. Защитник погромщиков на суде П.Ф. Булацель, обратившись по окончании процесса к царю с просьбой о помиловании осужденных, в прошении обвинял томскую юстицию во вредных для самодержавия пристрастиях. Он уверял Николая II, что региональные «судебные власти жестко преследовали всех черносотенцев и составили 29 томов предварительного следствия “о преступлениях” черносотенцев», и гневно восклицал, «как много нужно еще труда, чтобы очистить судебное ведомство и др. ведомства от засорения их революционными чиновниками» [28. Л. 3 об.-4]. Обвинения, звучавшие из промонархического лагеря, в основном строились на домыслах, не позволявших привлечь к ответственности судебных деятелей. В частности, прокурор Омской судебной палаты В.В. Едличко в рапорте директору второго департамента Министерства юстиции Н.М. Демчинскому от 26 сентября 1909 г. на фактическом материале доказывал безосновательность нападок в адрес следователей: никто из них не увольнялся, а высылка из Томска начинавшего расследование случившихся ужасов Я.Е. Иващенко являлась недоразумением (продолжил служебный путь по аналогичной должности в Варшаве) [28. Л. 31-31 об.]. Имеющиеся архивные материалы дают возможность установить, что судебный следователь по особо важным делам Н.Ф. Бончковский, дольше других проводивший следствие о погроме (с лета 1906 г. по лето 1908 г.) и передавший материалы в прокуратуру для подготовки к судебному процессу [35. Л. 31-33, 54, 59], вообще по своей предшествующей карьере не мог быть связан с томскими общественной жизнью и событиями, поскольку никогда ранее не занимал в городе никаких должностей. Конкретно весной 1905 г. чиновник работал товарищем прокурора в Тобольске и преподавал законоведение в здешней гимназии [44. Л. 16, 22-23]. Однако оппозиционные настроения в рядах юстиции Томской губернии, безусловно, присутствовали, не в последнюю очередь благодаря П.В. Вологодскому, бывшему влиятельной фигурой в судейской корпорации. Личные и деловые связи делали его весьма близким к чиновникам, которые находились во главе судебных учреждений региона в 1905 г. и поначалу вели расследование преступлений, совершенных во время октябрьского погрома. Сохранившиеся документы позволяют зафиксировать, что с письма 24 декабря 1896 г. А.В. Витте (тогда томский губернский прокурор) Петру Васильевичу, служившему в Семипалатинске на должности товарища областного прокурора, началось их заочное знакомство [45. Л. 22-23 об.]. Затем в Томске оно переросло в многогранное сотрудничество. Их совместным профессиональным проектом, к примеру, являлась открытая в 1902 г. юридическая консультация для оказания помощи беднейшему томскому населению [46. С. 114-115]. В городе у Петра Васильевича и Альфонса Васильевича сложился круг общих знакомых, притом среди тех людей, которые значились недоброжелателями самодержавия. Так, И. А. Малиновский - «мятежный» профессор-юрист местного университета, в 1911 г. уволенный оттуда [47. С. 24; 48], в своих воспоминаниях среди «близких» ему лиц называл одновременно и председателя суда, и адвоката [49. С. 294-295]; А.Г. Беляев, 3 февраля 1905 г. рапортуя перед начальством о посещении в тюрьме А. В. Витте арестованных за участие в банкете 12 января приятелей П. В. Вологодского - Г. Н. Потанина и политически неблагонадежного поверенного А. А. Кийкова, прямо называл последних друзьями руководителя судебной власти Томской губернии [50. Л. 5]. В 1905 г. деятельность П.В. Вологодского и А.В. Витте имела немало пересечений, зачастую опасных для царизма. В начале мая они приняли участие в подготовке проекта о земском самоуправлении в Сибири [51. С. 119-120], 27 августа - заседали на общем собрании членов общества земледельческих колоний и ремесленных приютов [52], через два дня председатель окружного суда присутствовал на съезде Сибирского областного союза в квартире адвоката [19. С. 162-163]. 18 октября на Соляной площади единомышленники вместе вступились за молодежь, избивавшуюся томскими правоохранителями. Уже после насилия над присяжным поверенным А. В. Витте взял покровительство над учащимися и, во избежание дальнейших побоев, лично под своей охраной проводил ребят до городского управления. 19 октября именно он довел до логического завершения идею о создании новой системы обеспечения безопасности в городе, сторонником которой являлся П. В. Вологодский. На совещании у губернатора судья прямо задал тому вопрос о создании городской милиции. Был получен утвердительный ответ, а затем В.Н. Азанчеев-Азанчевский обсуждал с ним, А.И. Макушиным и А.Г. Беляевым кандидатуру другого полицмейстера вместо дискредитировавшего себя разгоном митингов и демонстраций П.В. Никольского [25. Л. 3, 6]. П.В. Вологодский был связан и с некоторыми чиновниками, непосредственно отвечавшими за расследование обстоятельств томского погрома. Описывая эволюцию сибирского общественного движения в 1905 г., он ссылался на материалы следствия Я.Е. Иващенко [15. С. 254], а местную прокуратуру, обычно в силу своего назначения противостоявшую адвокатуре и преследовавшую противников государства, по воле чрезвычайных обстоятельств на время возглавил его бывший сослуживец. Правда, прежде данное ведомство попросту осталось обезглавленным. А.Г. Беляев, некоторые действия которого вызывали напряженность в Томске (например, из донесений С. А. Романова известно, что по прокурорскому требованию накануне кровопролития освобождались политические арестанты [31. Л. 5]), пережив 20 октября душевную травму, когда ему пришлось услышать угрозы в свой адрес со стороны смертоносной толпы [24. Л. 6] и запаниковать (по свидетельству А.И. Макушина, он «ажитировался и недоумевал», вокруг губернатора «бегал, схватясь за голову» [25. Л. 9]), стремительно покинул город. По этому поводу И. А. Малиновский указывал: «В Томске во время октябрьского погрома прокурор окружного суда, потрясенный совершающимися на его глазах ужасами, не выдержал, убежал из Томска и навсегда оставил службу в Сибири; по дороге он отправил телеграмму прокурору палаты об отставке. Председатель окружного суда тщетно посылал телеграммы в Петербург» [53. С. 70]. В свою очередь Г.Н. Потанин называл время и способ этого бегства - в ночь на 21 октября А.Г. Беляев «укатил на лошадях» [27. С. 64]. Затем несколько дней прокуратурой управлял местный товарищ прокурора М. А. Лалетин (по крайней мере, ему адресовались предписания вышестоящих структур [35. Л. 7]), а с 27 октября по 18 ноября официально исполнял обязанности прокурора Томского окружного суда приехавший из Омска А.К. Висковатов. Этот опытный чиновник в середине 1890-х гг. служил семипалатинским областным прокурором [54. Л. 7 об., 9 об .-10], т.е.являлся в ту пору непосредственным начальником П.В. Вологодского. Насколько они были близки и в каких состояли отношениях, узнать сейчас сложно, однако в воспоминаниях Петра Васильевича, написанных им в конце жизни, имеется фрагмент о службе в Семипалатинске, где о бывшем руководителе говорится как минимум уважительно. Александр Константинович запомнился «строгим и взыскательным прокурором», перед которым «трепетали» полицейские чины, которого «высшие административные чины недолюбливали» и «побаивались» [55. Л. 53]. Надзор за следствием осуществлял прокурор Омской судебной палаты Н.Н. Соболев, в политической благонадежности которого правые сомневались. По версии газеты «Русское знамя», чиновник оказывал «сильное давление» на расследование, и это влияние способствовало несправедливому преследованию «патриотов». Аргументация, однако, не отличалась убедительностью. Говорилось лишь, что прокурор являлся родным братом «редактору-издателю левой “Сибирской жизни” и лидеру томских освободителей» профессору Томского университета М.Н. Соболеву (близок к П. В. Вологодскому), а также вместе с указанным родственником входил в презренную для черносотенцев категорию «евреев-выкрестов» [40]. В прокламациях анонимных «патриотических» сил, обнаруженных полицией в Томске в начале декабря 1905 г. и призывавших томичей к участию в новом погроме против «крамольников» (намечался на 6 декабря) [7. Л. 249 об.-250], звучало имя Н.Н. Соболева. Якобы революционеры просили его «побольше черни и мещан посажать в тюрьму» [56. Л. 1]. Пусть родственником прокурора являлся М.Н. Соболев (один из инициаторов создания Томского юридического общества [57. Л. 1-1 об.], оппозиционного правительству, по оценке современных биографов, «заметная фигура либерального движения» [58. С. 18]) и он был знаком с А.В. Витте по их предшествующей совместной службе в качестве товарищей прокурора Иркутской судебной палаты [59. С. 2], случаев отступлений прокурорского работника от порядка законности при проведении следствия не обнаруживается. Подтверждением его беспристрастности могут служить и такие факты: Н. Н. Соболев сохранил должность дольше других чиновников, начинавших расследование томской трагедии, а в переписке В.В. Едличко с министерством вообще характеризовался «человеком консервативных взглядов» [28. Л. 31 об.]. Между тем после массового насилия ряды противников самодержавия оказались расстроенными. «Революционеры притихли, но озлоблены пожаром и еврейским погромом», - телеграфировал о положении дел В.Н. Азанчеев-Азанчевский товарищу министра внутренних дел Д.Ф. Трепову 24 октября [7. Л. 119]. П.В. Вологодский также констатировал резкое угасание освободительного движения: «Сознательные прогрессивные силы местного общества подавлены ужасом происшедшего, терроризированы неистовством обнаглевшей черной сотни и поощрительным бездействием властей по укрощению разнузданной черни и хулиганов. Некоторые ушли в себя, не имея решимости и сил, а, главное, уверенности, что выйдет какой-нибудь толк из их выступления с протестом против всего совершившегося» [15. С. 255]. Исключения не составляла судебная власть, демонстрировавшая растерянность, и первые шаги по расследованию преступлений предпринимались либо спонтанно, либо по инициативе администрации. По свидетельству члена Томского окружного суда С.В. Александровского (в августе 1906 г. перешел в адвокатуру [60. Л. 16 об.] и в процессе о томском погроме защищал одного из подсудимых И. В. Большакова [34. С. 2]), следственные операции производились уже 20 октября. Они вместе Я. Е. Иващенко в тот день подходили к Соборной площади, когда узнали о разгулявшейся криминальной стихии. Раненые стали поступать в войсковой врачебный пункт недалеко от места разворачивающего кровопролития, где «Иващенко решил немедленно приступить к производству предварительного следствия». Первым допрошенным являлся только что отмытый от крови железнодорожный архитектор Б.Ф. Татарчук, который дал показания относительно убийства у здания железнодорожного управления двух инженеров - И.Ф. Клионовско-го и М.У. Шварца [61. С. 154-155]. На следующий день губернатор уже официально предложил этому следователю начать расследование [62. Л. 15] и распорядился поставить у его квартиры воинский караул для обеспечения безопасности [7. Л. 91]. Очевидно, к насилию в томском побоище были причастны правительственные войска, что могло дать следствию совершенно нежелательное для властей направление. А. А. Грацианов старался предоставить расследованию объективные результаты медицинской экспертизы и, например, по воспоминаниям А. Яропольской (жена убитого Н. Г. Яропольского), «заносил в протокол вскрытия фактические причины смерти, указывая у многих погибших пулевые и штыковые раны» [63. Л. 11]. В.Н. Азанчеев-Азанчевский 24 октября потребовал от томского губернского врачебного инспектора уволить чересчур добросовестного и честного медика и запросил у Д. Ф. Трепова разрешения мертвецов «хоронить без вскрытия ввиду явного насилия» [7. Л. 111, 119], чем, конечно, препятствовал сбору доказательств. Смена судмедэксперта, как указывал Г. Н. Потанин, произошла по рекомендации П. В. Никольского, а занявший место А. А. Грацианова доктор сразу вступил в «войну» с А.В. Витте [27. С. 64]. Таким путем руководители государственного аппарата, после погрома восстанавливавшего утраченные было развитием революции позиции, пытались повернуть досудебное следствие в нужное им русло. Тогда же, 24 октября, полицмейстер выписал постановление о «предварительном аресте при тюрьме» А.И. Макушина [35. Л. 1], четырьмя днями ранее уже задержанного губернатором якобы для того, чтобы обезопасить его от растерзания толпой [25. Л. 8-9]. По предположению П.В. Вологодского, на городского голову В.Н. Азанчеев-Азанчевский старался «свалить вину» за томские беспорядки, отвечать за которые надлежало бы ему самому. Адвокат не сомневался, что многие горожане пострадали от пуль и штыков солдатских винтовок, а убеждал его в этом следственный материал [15. С. 254, 257]. Я.Е. Иващенко, расследование которого подкрепляло увер
Ключевые слова
П.В. Вологодский,
общественная и революционная деятельность,
Томск,
насилие,
погромАвторы
| Крестьянников Евгений Адольфович | Тюменский государственный университет | д-р ист. наук, зав. лабораторией исторической и экологической антропологии | krest_e_a@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Джадж Э. Пасха в Кишиневе. Анатомия погрома. Кишинев : Лига, 1998. 204 с.
Lambroza Sh. The Tsarist Government and the Pogroms of 1903-06 // Modern Judaism. 1987. Vol. 7, № 3. P. 287-296.
Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми (1917-1920). М. : РОССПЭН, 2005. 552 с.
Шиловский М. В. Томский погром 20-22 октября 1905 г.: хроника, комментарий, интерпретация. Новосибирск : Параллель, 2019. 160 с.
Казакова Е.А. П.В. Вологодский: личность и общественно-политическая деятельность (1863-1920 гг.) : дис.. канд. ист. наук. Томск, 2008. 363 с.
Новая имперская история Северной Евразии. Ч. 2: Балансирование имперской ситуации: XVIII-XX вв. / под ред. И. Герасимова. Казань : Ab Imperio, 2017. 630 с.
Государственный архив Томской области (далее - ГАТО). Ф. 3. Оп. 70. Д. 2643.
Государственный архив Новосибирской области (далее - ГАНО). Ф. П-5. Оп. 2. Д. 351.
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее - ЦГИА СПб.). Ф. 2297. Оп. 1. Д. 18.
Носители государственной власти // Вестник Томской губернии. 1918. 27 дек.
Государственный исторический архив Омской области (далее - ГИАОО). Ф. 190. Оп. 1. Д. 55.
ГАНО. Ф. П-5. Оп. 3. Д. 4.
Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880-1919 гг. Т. 1: 1880-1917 г. / сост. В.П. Зиновьев, О. А. Харусь. Томск : Изд-во Том. ун-та. 2013. 402 с.
Шиловский М.В. Первая русская революция 1905-1907 гг. в Сибири. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2012. 320 с.
В-дский П. [Вологодский П.В.] Из хроники освободительного движения в Сибири // Сибирские вопросы. Периодический сборник, издаваемый В.П. Сукачевым под редакцией приват-доцента П.М. Головачева. СПб. : Тип. Альтушулера, 1906. № 2. С. 242-264.
ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 166.
Крестьянников Е.А. П.В. Вологодский и присяжные поверенные в Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 419. С. 152-159.
Журналы и постановления Томской городской думы // Известия Томского городского общественного управления. 1905. № 35-36. С. 265-267.
Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй половине XIX - первой четверти ХХ в. Новосибирск : Сова, 2008. 270 с.
Основные положения Сибирского областного союза // Право. 1905. № 39. С. 3252-3254.
Местная хроника // Сибирский вестник. 1905. 27 авг.
Крестьянников Е.А. «Свободная профессия» П.В. Вологодского: адвокатские траектории томского юриста // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 433. С. 78-86.
ГИАОО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 92.
ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 152.
ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 179.
Октябрьские дни в Томске. Описание кровавых событий 20-23 октября. Томск : Типолит. М.Н. Кононова, 1905. 71 с.
Рассказ Григория Николаевича Потанина о томских событиях в октябре 1905 г. (Записано с его слов М.Х. Свентицкой) // Каторга и ссылка. Историко-революционный сборник. 1925. № 7 (20). С. 58-64.
ГИАОО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 133.
Государственная дума. Стенографические отчеты. 1906 год. Сессия первая. Том II. Заседания 19-38 (с 1 июня по 4 июля). СПб. : Государств. тип., 1906. 2014 с.
Томское преступление // Восточное обозрение. 1905. 1 нояб.
ГАНО. Ф. Д-144. Оп. 1. Д. 33.
Рассохин Г.С. События в Томске в октябре 1905 г. Томск : Типолит. Томской железной дороги. 1917. 30 с.
Попов И.И. Забытые иркутские страницы: Записки редактора. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. 384 с.
Дело о погроме в г. Томске в 1905 году. (Отчет о судебном заседании Томского окружного суда). Томск : Типолит. Сиб. Товарищества печат. дела, 1909. 102 c.
ГАТО. Ф. 11. Оп. 4. Д. 7.
ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 170.
Настольный календарь на 1919 г. / под ред. М.Н. Пинегина. Томск : Типолит. Томской железной дороги, 1919. 180 с.
Серый С.Н. Интервью с инженером Я. А. Ратциг // Сибирский вестник. 1905. 16 нояб.
Дело о томском погроме // Свет. 5 сент.
Дело о томском погроме // Русское знамя. 1909. 6 сент.
Москва, 6 сентября [передовая статья] // Вече. 1909. 6 сент.
К делу о погроме // Томские епархиальные ведомости. 1909. № 17. С. 723-740.
Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты 1912 г. Сессия пятая. Часть V. Заседания 120-153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб. : Государств. тип., 1912. 4336 с.
ГИАОО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 13.
ЦГИА СПб. Ф. 2297. Оп. 1. Д. 12.
Крестьянников Е. А. П. В. Вологодский и дело юридической помощи в Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 422. С. 113-122.
Фоминых С.Ф., Некрылов С.А. Томский период деятельности профессора русского права И.А. Малиновского // Вестник Томского государственного университета. История. 2012. № 4. С. 21-26.
Из газет // Обская жизнь. 1911. 21 окт.
Императорский Томский университет в воспоминаниях современников / сост. С.Ф. Фоминых. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. 508 с.
ГИАОО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 68.
Некрылов С.А. Научные общества в Томском университете в дореволюционный период. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. 258 с.
Местная хроника // Сибирский вестник. 1905. 28 авг.
Малиновский И.А. Кровавая месть и смертные казни. Вып. 2. Томск : Типолит. Сиб. Товарищества печат. дела, 1909. 145 с.
ГИАОО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 21.
Государственный архив Российской Федерации (далее - ГАРФ). Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 299.
ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 232.
ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 227.
Грузинов А.С., Савченко М.М. «История учит» [вступительная статья] // Соболев М.Н. Таможенная политика России во второй половине XIX в. Ч. 1. М. : РОССПЭН, 2012. С. 9-26.
Справочная книжка Иркутского судебного округа. Иркутск : Типолит. П.И. Макушина, 1898. 154 с.
ГИАОО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 13.
Александровский С.В. Октябрьские дни 1905 г. в Томске. (Воспоминания томского старожила) // Сибирские огни. 1925. № 4-5. С. 152173.
ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 154.
ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 170.
Приложение к «Праву». Хроника октябрьских дней // Право. 1905. № 48-49. С. 89-214.
Томская хроника // Сибирские известия. 1905. 28 окт.
К событиям дней // Сибирский вестник. 1905. 26 нояб.
Яковенко А.В., Гахов В.Д. Томские губернаторы: биобиблиографический указатель. Томск : Ветер, 2012. 224 с.
Ларьков Н.С., Чернова И.В. Полицмейстеры, комиссары, начальники: (Руков одители правоохранительных органов Томской губернии, округа и области в XIX-XX вв.). Томск : Изд-во Том. ун-та. 1999. 184 с.
Жилякова Н.В. Журналистика города Томска (XIX - начало ХХ века): становление и развитие. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. 446 с.
Жилякова Н.В., Шевцов В.В., Евдокимова Е.В. Периодическая печать Томской губернии (1857-1916): становление журналистики и формирование регионального самосознания. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. 292 с.
К суду // Сибирский вестник. 1905. 16 нояб.
Витте А.В. Письма в редакцию // Сибирский вестник. 1905. 16 нояб.
Серый С.Н. Пора, пора! // Сибирский вестник. 1905. 19 нояб.
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. 25. № 27093.
Томская хроника // Вестник Сибири. 1906. 1 янв.
Хроника // Право. 1910. № 10. С. 614-620.
Томская жизнь // Сибирская жизнь. 1906. 14 февр.
Сборник статистических сведений Министерства юстиции. Вып. 24. Ч. 1. СПб. : Сенатская тип., 1910. 243 с.
Сборник статистических сведений Министерства юстиции. Вып. 24. Ч. 2. СПб. : Сенатская тип., 1910. 70 с.
Krestiannikov E.A. Along the Routes of Justice: Judicial Circuit Riding in Western Siberia during the Late Imperial Period // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2019. Vol. 20, № 2. Р. 315-344.
Философ Черный. Суд томского погрома // Сибирская правда. 1909. 13 сент.
Дело о еврейском погроме в г. Томске 20-22 октября 1905 г. // Сибирская правда. 1910. 29 мая.
Кириллов А.К. От подушной подати к подоходному налогу: податные реформы капиталистической России и их воплощение в Западной Сибири второй половины XIX - начала XX века. Новосибирск : Параллель, 2017. 178 с.
ГИАОО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 382.
ГАРФ. Ф. Р-193. Оп. 1. Д. 2.
Судебная хроника. Томский окружной суд. Погром 1905 г. // Сибирские отголоски. 1909. 2 сент.
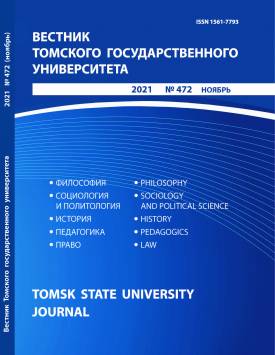

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью