Основные направления современной англоязычной историографии датского периода истории Тридцатилетней войны
Рассматривается история изучения датского периода Тридцатилетней войны в англоязычной историографии в XX-XXI вв. Приводится обзор основных научных направлений и наиболее актуальной проблематики, включая попытки рассмотреть войну с принципиально новой точки зрения - значимости войны для истории Дании. Под англоязычной историографией понимаются научные достижения ученых не только из Великобритании и США, но и труды любых других европейских историков, изданные на английском языке.
Main Scientific Fields of Modern English-Language Historiography of the Thirty Years' War History.pdf Под датским периодом обычно понимается один из этапов Тридцатилетеней войны с 1625 по 1629 г. Этот период начался с попыток Габсбургов утвердиться в Северной Германии и провести там католическую реставрацию, что угрожало интересам протестантских государств Северной Европы - Дании и Швеции. Весной 1625 г. датский король Кристиан IV начал военные действия против императора. Вместе с войсками протестантских правителей Мансфельда и Кристиана Брауншвейгского датчане предприняли наступление в бассейне реки Эльба. Датское вторжение развивалось достаточно успешно, и для его отражения император вынужден был предоставить полномочия новому главнокомандующему - Альбрехту Валленштейну. 25 апреля 1626 г. Валленштейн разбил Мансфельда под Дессау, 27 августа вторая имперская армия Иоганна Тилли нанесла поражение датчанам при Луттере. В 1627 г. объединенные силы имперцевы и войск Католической лиги захватили Мекленбург и все материковые владения Дании. В мае 1629 г. император Фердинанд II заключил Любекский мир с Кристианом IV, возвратив Дании отнятые у нее владения в обмен на ее обязательство не вмешиваться в германские дела. Непосредственными итогами периода стали усиление позиций императора и Лиги, а также издание 6 марта 1629 г. Реституционного эдикта, который возвратил католической церкви все земли и имущество, утраченные ею в протестантских княжествах после 1555 г. Участие Дании в Тридцатилетней войне традиционно рассматривается в англоязычной исторической литературе как не очень значительное и остается в целом слабоизученным. Этот факт подтверждается тем, что за последние четверть века выпущено всего несколько работ по данной проблематике и зачастую вопрос военного участия Дании в войне рассматривается в контексте датской политики либо общей истории Тридцатилетней войны. Долгое время большинство исследований Тридцатилетней войны принадлежало перу немецких авторов, воспринимавших данный конфликт в первую очередь как оказавший влияние на Германию. Ключевыми темами при таком подходе были сюжеты в основном германской истории: столкновение Священной Римской империи германской нации с враждебными ей государствами, поражение империи, разорение германских земель и последовавшее за этим умаление влияния германского государства. Изучение событий войны было особенно актуально в период становления германской исторической науки. Противостояние государств - наследников Священной Римской империи, вылившееся в XIX в. в борьбу Пруссии и Австрии за объединение Германии, стало завершением этого периода истории для Германии [1]. Датский период Тридцатилетней войны обычно изображается достаточно стандартно, как инициатива датского короля Кристиана IV, который рассматривается как лидер с достаточно слабыми навыками в государственном управлении и чрезмерными территориальными амбициями. В качестве основных причин участия Дании в Тридцатилетней войне называются стремление доминировать в северо-германской торговле, внутренняя борьба короля против датской аристократии, желание одержать победу над Швецией и успешно защитить протестантскую веру. Переосмысление этих традиционно выделяемых причин вступления Дании в войну оказывается одним из наиболее интересных вопросов, поднимаемых в современной англоязычной историографии по данному периоду войны. С военной точки зрения период участия Дании в Тридцатилетней войне рассматривается в работах, носящих более глобальный характер, таких как «Тридцатилетняя война» Джеффри Паркера [2] и «Европейская трагедия» Питера Вилсона [3]. Общим недостатком такого типа исследований при изучении датского периода Тридцатилетней войны является обычно очень незначительное авторское внимание к самой проблематике войны датчан против католического блока. Короткое и не слишком удачное наступление армии Кристиана IV и её последующий быстрый разгром выглядят не особенно важными событиями на фоне таких глобальных процессов, как религиозный раскол в Священной Римской империи или военные преобразования (называемые также «военной революцией»1) короля Густава Адольфа в Швеции. В наиболее известной работе Д. Паркера, посвященной Тридцатилетней войне [2], датское участие в войне даже не выделяется в качестве отдельного периода, автор рассматривает его как часть периода, который называет «Нерешительная война» (The indecisive war), продолжавшейся с 1618 по 1629 г. При этом в своей работе Д. Паркер в первую очередь рассматривает не военные действия, которые описываются очень кратко, а причины участия Дании в войне. По его мнению, поворотной точкой внешней политики страны стали первые годы, последовавшие за заключением Аугсбургского религиозного мира 1555 г. Если до этого основные интересы Дании затрагивали германские территории, то в середине XVI в. главной заботой датских правителей стала борьба против Швеции. На рубеже веков между странами вспыхнули две крупные войны: в 1563-1570 гг. (Северная семилетняя война) и в 1611-1613 гг. (Кальмарская война); вопрос о гегемонии в Скандинавии и на Балтийском море встал очень остро. Желание вмешаться в дела южных соседей Д. Паркер объясняет в первую очередь серьезными опасениями короля Кристиана IV относительно безопасности своего государства. Датско-шведские отношения были на тот момент достаточно напряженными, и сам факт получения крупных субсидий соперником был для него очень подозрителен. Создание же на эти деньги большой армии и возможная помощь шведам со стороны союзных Нидерландов внушали уже очень серьезные опасения, что усилившиеся шведы решат реализовать свой проект по превращению Балтийского моря во внутреннее шведское озеро. Соответственно, принятое в январе 1625 г. решение вмешаться в германские дела Д. Паркер объясняет желанием Кристиана IV перехватить лидерство и отвести от Дании возможную шведскую угрозу. Ключевым, по его мнению, было желание спасти ситуацию, пока еще не стало слишком поздно и пока противостоящий протестантам блок из имперских сил и войск Католической лиги не занял последние территории своих северогерманских противников [2. P. 51-53]. Также достаточно важной проблематикой остается вопрос участия в войне ярких личностей, таких как шведский король Густав Адольф, генералы Тили и Валленштейн, кардинал Ришелье. Датский период войны связан в первую очередь с именем удачливого и популярного полководца Валленштейна, сумевшего с небольшими ресурсами собрать сильную армию наемников и остановить датское вторжение в Германию. Валленштейн является значимой фигурой целого ряда исторических исследований как в германской, 2 так и в англоязычной исторической науке . Намного менее известная фигура - его противник Кристиан IV, который был королем Дании и Норвегии на протяжении более чем 50 лет (с 1596 по 1648 г.) и является одной из самых противоречивых фигур в скандинавской истории. Его яркая индивидуальность и бурная личная жизнь обеспечили ему одно из центральных место в датской исторической мифологии. Политическое наследие его долгого правления, во время которого датско-норвежская монархия начала делать свои первые шаги в направлении централизованного бюрократического абсолютизма, до сих пор является предметом серьезного исторического исследования датских историков. Тем не менее в области внешней политики успехи короля были намного более скромными, а два эпизода противостояния со Швецией в ходе Тридцатилетней войны серьезно ослабили Данию, надолго изменив расстановку сил в регионе. При этом в англоязычной историографии политика и роль Кристиана IV в европейской истории изучены достаточно слабо. Деятельность короля обычно рассматривается как часть более глобальных процессов, происходивших в Северной Европе. Самым известным специалистом по скандинавской военной истории этого периода является Пол Дуглас Локхарт3. Свою оригинальную концепцию, объясняющую вступление Дании в войну, Пол Дуглас Локхарт выдвинул в работах «Дания в Тридцатилетней войне, 1618-1648: король Кристиан IV и закат Ольденбургского государства» [4] и «Религия и княжеские свободы: Датское вмешательство в Тридцатилетнюю войну 1618-1625» [5]. Данные исследования посвящены в первую очередь датскому королю, его конфликту с внутригосударственной оппозицией и последствиям поражения Дании в Тридцатилетней войне, само участие в войне автор рассматривает скорее как предпосылку глобальных политических изменений в королевстве. Согласно этому подходу, Кристианин IV был не только скандинавским монархом, но и одновременно типичным северогерманским принцем, что и объясняет наличие у него сильного интереса в германских делах. Как наследник немецкого дома Ольденбурга и как правящий герцог Гольштейн-Сегеберг, Кристиан IV был не чужд интересам и амбициям других северогерманских лютеранских князей, по мнению П. Локхарта, концепция «княжеских свобод» имела для Кристиана IV глубокий смысл. Помимо всего прочего это также означало для него естественное право на осуществление независимой политики, в том числе право на расширение своего влияния и на приобретение новых территорий, в том числе в границах Священной Римской империи. В этом датский король был единодушен с распространенной у протестантских князей идеей противостояния усиления и консолидации власти династии Габсбургов [5. P. 3-5]. П. Локхарт характеризует события 1848 г., когда завершилось участие датчан в войне и окончилось царствование короля Кристиана, как серьезное умаление мощи Дании. «Кристиан IV оставил свое королевство почти банкротом, значительно уменьшились его размеры и международная репутация» [6. P. 390]. Что касается короля как политика и генерала, П. Локхарт солидарен тут с мнением большинства датских ученых. Он указывает, что большинство датских историков продолжают осуждать короля за непомерные амбиции, плохую дипломатию и, что было еще более фатально в военное время, за его слабые военные таланты [6. P. 391]. Важно отметить, что помимо традиционных подходов, связывающих желание датчан принять участие в войне с целью защиты протестантизма и противостояния со шведами, П. Локхарт выдвигает концепцию сохранения Кристианом королевской «репутации». Под «репутацией» автор в данном случае понимает международный авторитет, который играл важную роль в дипломатии того времени. «Кристиан, как и большинство монархов его времени, зорко следил за тем, как его действия воспринимались за границей. Это могло иметь очень большое влияние на принимаемые решения, от которых зависили благосостояние его династии и его государства». В данном вопросе П. Локхарт очень близок к концепции другого американского историка Джона Линна, сформулированной им применительно к французскому государству Людовика XIV4 [6. P. 392]. В исследовании Мартина Беллами «Кристиан IV и его флот: Политическая и административная история датского флота» рассматривается не только узкая тема из истории датского флота периода начала XVII в., автор также охватывает достаточно широкий круг вопросов, связанных в первую очередь с военноадминистративной организацией Дании. Тем не менее при всех достоинствах данной работы сама история датского флота имеет очень опосредованное отношение к истории Тридцатилетней войны ввиду того, что у главных противников датчан - имперских войск Габсбургов и их католических союзников флот фактически отсутствовал [7]. Еще одну теорию, объясняющую одновременно и причины вступления Дании в войну, и её военные неудачи, выдвинул датский историк Ларс Бо Каспер-сен5. В своей статье «Как Дания стала демократической: влияние войн и военных реформ» [8] он связывает военную и политическую истории Дании, доказывая, что военные реформы и результаты нескольких войн подтолкнули датское государство к серьезным изменениям. В начале XVI в. Дания представляла собой классическое сословное государство (Л. Касперсен использует для обозначения его термин Standestaat, «сословное государство»), в стране регулярно вспыхивали восстания и феодальные распри. Важнейшей вехой в истории Дании стала Реформация, которая круто изменила расстановку сил в государстве. В 1536 г. королем Дании было утверждено новое церковное устройство, близкое к лютеранскому. Благодаря Реформации значительно увеличились размеры королевской земельной собственности. Король стал самым сильным и богатым феодалом в государстве. Новая церковная администрация фактически перешла под контроль государства, во главе церкви встали назначенные королем суперинтенданты, которые через некоторое время превратились в епископов. Король получил высшую власть над церковными делами, превратив её фактически в новое государственное учреждение. К 1536 г. страна состояла не только из современных датских территорий, в состав страны входили регион Шлезвиг-Гольштейн, кроме того Норвегия, Фарерские острова, Исландия и Гренландия имели личный союз с Данией. Конфессиональная солидарность с северогерманскими протестантами, религиозные конфликты с католиками, географическое положение, соперничество со Швецией и попытка удержать лидирующие позиции на Балтике были основными аспектами отношений Дании с другими государствами. Самой серьезной проблемой для датчан стала борьба за господство на Балтике против Швеции, что вылилось в ряд войн в XVI и начале XVII вв. Переломным моментом в истории Дании, по мнению Л. Касперсена, стал рубеж XVI-XVII вв., когда баланс сил на Балтике уверенно качнулся в пользу давней соперницы датчан - Швеции. Как указывает автор, переломным моментом стало участие Дании в Тридцатилетней войне и серьезное поражение от имперской армии Валленштейна в 1626 г. Датский период войны завершился унизительным мирным соглашением, а датская гегемония на Балтике подошла к концу. Другая война между Данией и Швецией проходила с 1643 по 1645 г., в ходе этой войны Дания потерпела разгромное поражение от шведов во главе с Торстенссоном и была вынуждена передать часть своих территориальных владений Швеции. Итогом этой войны помимо экономических выгод Швеции и окончательного установления ее доминирования на Балтике Л. Касперсен видит угрозу выживанию Дании как независимого государства [8. P. 77-78]. Именно этот период стал, по мнению Л. Касперсена, для датской истории поворотным. Поражение в борьбе со Швецией и ее мощное военное давление вызвали необходимость проведения масштабных военных реформ, чтобы противостоять шведской военной угрозе. По оригинальной теории Л. Касперсена именно осуществление этих реформ и внедрение новых технологий в датские военные структуры оказали влияние на баланс сил между различными сословиями внутри государства, а также между дворянством и королем. Изначально датские вооруженные силы мало чем отличались от типичной средневековой структуры, костяком армии было дворянство, которое было обязано становиться солдатами или предоставлять солдат для защиты королевства. Основной формой этой службы было формирование конного рыцарского ополчения. Взамен дворянство занимало определенное место в датском обществе и имело множество привилегий, наиболее важной из которых было освобождение от налогообложения. В ходе проведения военных реформ традиционных рыцарей начала заменять более современная легкая кавалерия, но принцип рыцарского служения продержался на протяжении большей части XVII в. Развитие многочисленных пехотных армий, дополненных кавалерией нового типа, поставило крест на рыцарстве. Старая армия, состоявшая из благородных кавалеристов и сравнительно немногочисленной наемной и местной пехоты, ушла в прошлое, на смену ей пришла армия, состоящая большей частью из пехоты, частично из датских призывников, частично наемной при поддержке легкой кавалерии нового типа. Следовательно, дворянское сословие постоянно утрачивало свое значение как сословия защитников королевства, что неизбежно поставило вопрос о сохранении его статуса и привилегий. По мнению Л. Касперсена, именно проходящие военные реформы поставили, таким образом, под вопрос необходимость привилегированного положения датской аристократии. И другие сословия, и король начали подвергать сомнению высокий статус дворянства. Автор выделяет в качестве причин недовольства аристократией еще и чисто меркантильные интересы, поскольку многочисленные войны и массовое использование дорогих наемников в середине XVII в. заставили государство увеличить налогообложение, которое тяжким бременем падало на все группы населения кроме знати, которая фактически мало что делала для обороны страны [8. P. 78-79]. Тем не менее первые элементы реального ослабления дворянства и постепенной трансформации Дании из сословно-аристократической в абсолютную монархию Л. Касперсен видит опять же результатом военных изменений, а конкретно - сложнейшей ситуации, в которой Дания оказалась в 1657-1660 гг. в ходе войны со Швецией. Л. Касперсен солидарен тут с мнением исследователя Эртмана, который в своей работе «Рождение Левиафана» показывает процесс рождения национальных государств в Европе и приводит в качестве примера в том числе Датское королевство. Датские бюргеры и духовенство были расстроены нежеланием дворянства отказаться от своих привилегий в интересах национальной обороны даже в условиях тяжелейших военных поражений. Однако именно аристократы и были теми, кто отвечал за военные вопросы, и именно на них общество возлагало ответственность за неудачи в войнах начала - середины XVII в. [9. P. 310]. Как указывает Л. Касперсен, проигрывая на первых порах сильной и опытной шведской армии, датчане, тем не менее, смогли отстоять свою независимость и окончить войну с положительными результатами. Датское государство было вынуждено реорганизоваться, чтобы выжить и сохранить независимость. Усилия короля Фредерика III во время осады Копенгагена зимой 1659 г. увеличили его популярность в стране. Пользуясь своим авторитетом и опираясь на новую армию, Фредерик III вынудил дворянство принять новую конституцию - LexRegia, или Королевский закон 1665 г., - единственную письменную абсолютистскую конституцию в Европе. По данной конституции король больше не зависел от Ригсрада, став, таким образом, абсолютным монархом. Дальнейшая трансформация из абсолютной в конституционную монархии затянулась, по оценкам Л. Касперсена, на почти двести лет и завершилась уже только в середине XIX в., и также в ходе проведения военных реформ конца 1840-х гг. под угрозой новой войны против Прусского королевства [8. P. 79-85]. Удивительно созвучной подходу Л. Касперсена, рассматривающего Тридцатилетнюю войну как определяющий фактор датской политической истории, стала работа еще одного датского историка Майкла Брегнсбо6 «Дания и Вестфальский мир» [10]. В качестве первой и главной цели внешней политики Дании М. Брегнсбо видит сохранение так называемого domin-iummarisbaltici, т. е. контроля над выходом в Балтийское море через пролив Зунд. Налог за проход был наложен на все суда, проходящие через пролив Зунд, что представляло огромный источник дохода королю Кристиану. Второй целью было сохранить лидерство в районе Балтийского моря и выстоять в жесткой конкуренции со Швецией. По мнению М. Брегнсбо, чтобы поддержать превосходство в Балтийском регионе, Дания должна была окружить Швецию своими территориями. В качестве еще одной важной цели автором выделяется уисление датского религиозного влияния в Северной Германии. Кристиан IV шел здесь путем сохранения роли защитника лютеранской религии в регионе, параллельно с этим пытаясь распространить свое влияние на северогерманские епископства и сделать епископами своих родственников (особое внимание датчане уделяли архиепископству Бреманскому, где были сильные позиции у второго сына Кристиана IV - Фредерика). Вступление Дании в Тридцатилетнюю войну М. Брегнсбо объясняет целым рядом факторов, главным из которых была политика максимального усиления датских позиций и умаление роли Швеции. Это событие видится автору причиной серьезного внутриполитического кризиса в стране, поскольку идея короля о вступлении в войну не была поддержана Королевским советом. Кристиан IV смог начать войну, опираясь на собственные значительные финансовые источники, и Совет не мог ничего сделать, чтобы это предотвратить [10. P. 361-363]. Как можно заметить, современная англоязычная историография участия Дании в войне фактически отходит от вопросов войны и боевых действий, вопросы организации армии, военного таланта датских генералов или стратегии войны занимают в исследованиях небольшое место, оставаясь во многом скорее сюжетом национальной датской истории. Основной интерес вызывают скорее политические вопросы истории Дании и мотивация ее военного участия в Тридцатилетней войне, а также последствия решений короля Кристиана IV для внешнеполитического положения Дании и дальнейшего развития датского государства.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 29
Ключевые слова
Тридцатилетняя война, историография, англоязычная историография, военная история, датский периодАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Лыдин Николай Николаевич | Алтайский государственный педагогический университет | канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории | intel80486@yandex.ru |
Ссылки
Лыдин Н.Н. Основные направления современной англоязычной историографии истории Тридцатилетеней войны // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 432. С. 119-123.
Parker G. The Thirty Years' War. London ; New York : Routledge, 1997. 316 p.
Wilson P.H. Europe's Tragedy. London : Penguin books, 2010. 997 p.
Lockhart P.D. Denmark in the Thirty Years' War, 1618-1648: King Christian IV and the Decline of the Oldenburg State. Selinsgrove : Susquehan na University Press, 1996. 347 p.
Lockhart P.D. Religion and Princely Liberties: Denmark's Intervention in the Thirty Years War, 1618-1625 // The International History Review. 1995. Vol. 17, № 1. P. 1-22.
Lockhart P.D. Denmark and the Empire: A Reassessment of Danish Foreign Policy under King Christian IV // Scandinavian Studies. 1992. Vol. 64, № 3. P. 390-416.
Bellamy M. Christian IV and His Navy: A Political and Administrative History of the Danish Navy, 1596-1648. Leiden, Brull, 2006. 336 p.
Kaspersen L.B. How Denmark Became Democratic: The Impact of Warfare and Military Reforms // Acta Sociologica. 2004. Vol. 47, № 1. P. 71-89.
Ertman T. The Birth of Leviathan. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. 363 p.
Bregnsbo M. Denmark and the Westphalian Peace // Duchhardt H. Der Westfalische Friede. Diplomatie - politischeZasur - kulturellesUmfeld -Rezeptionsgeschichte. Berlin : De Gruyter, 1998. P. 361-369.
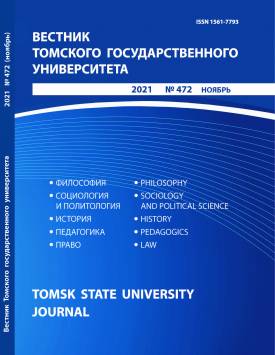
Основные направления современной англоязычной историографии датского периода истории Тридцатилетней войны | Вестник Томского государственного университета. 2021. № 472. DOI: 10.17223/15617793/472/15
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 580

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью