Проблемы реформирования «инородческого образования» как поле деятельности уездного земства Оренбургской губернии (1913-1917 гг.)
Проанализирована роль органов уездного самоуправления в реформировании системы «инородческого образования» Оренбургской губернии в начале XX в. Сделан вывод о том, что эта роль не сводилась только лишь к реализации правительственных распоряжений, а сопровождалась активной выработкой собственных оригинальных проектов реформирования мусульманского образования, основанных на уникальном опыте Оренбургского края по реализации имперской политики аккультурации.
Problems of Reforming “Foreign Education” as a Field of Activities of the Uyezd Zemstvo of Orenburg Province (1913-1917).pdf Актуальность проблематики интеграции национальных и конфессиональных меньшинств в единое социокультурное пространство является в современном мире чрезвычайно высокой. Обращение к историческому опыту многонациональных стран, включая Российскую империю, в этом контексте является вполне логичным. Проблема просвещения нерусских подданных становилась для государства актуальной вслед за вхождением их в состав Российской империи. В XVIII-XIX вв. просвещение носило, главным образом, религиозно-миссионерский характер. Принадлежность к православному христианству рассматривалась как один из маркеров благонадежности и приобщения к европейской цивилизации и «русскому миру». Осложняли миссионерскую деятельность языковой барьер, отсутствие духовной литературы на понятном им языке, что не позволяло «инородцам» на необходимом уровне воспринимать молитвы и Святое Писание. Исправить ситуацию была призвана работа с молодыми поколениями. Для подготовки священников-миссионеров в епархиях со значительным составом инородческого населения начали открывать новокрещенские школы. Уже в 1730-1740-е гг. такие школы появились в Казанской епархии, церковная юрисдикция которой распространялась и на Оренбургскую губернию. Наряду с приобщением к православной религии и культуре, школа выполняла не менее важную утилитарную функцию - учила чтению, письму и арифметике будущих чиновников низшего звена из представителей местного населения. Не случайно инициаторами открытия инородческих школ выступали главным образом русские провинциальные чиновники губернского и уездного уровня. Аккультурация посредством системы образования - один из наиболее широко описанных в историографии процессов, в определенном смысле - один из наиболее типичных для аккультурации механизмов. Однако все же основное внимание здесь уделяется государственной в узком смысле этого слова политике (приему «инородцев» в государственные учебные заведения, созданию и функционированию «русско-инородческих школ» и т. п.). Такой подход может создать впечатление, что политика аккультурации в сфере образования всегда навязывалась сверху. Поэтому представляется интересным и важным посмотреть, какова же была политика местного самоуправления в этом вопросе. В этой связи научного внимания заслуживает деятельность низовых органов самоуправления, уездных земств в восточноевропейских регионах с большим удельным весом нерусского населения, таких как Оренбургский край, представлявший собой юговосточную периферию империи. В период, предшествующий открытию земства на территории Оренбургской губернии, в мусульманском сообществе региона уже было сформировано мнение о необходимости просвещения среди приверженцев ислама, причем признавалась необходимость изучения русского языка и, соответственно, приобщения к богатствам русской культуры. Видимо, именно эта ситуация и позволила земствам включить задачу развития системы образования и просвещения в «инородческой» среде в свою палитру целей. Дополнительное внимание этот регион привлекает еще и потому, что земство здесь возникло только в 1913 г., последним в империи, т.е. речь идет о губернии, не имевшей к началу XX в. традиций самоуправления и вынужденной приспосабливаться к новой системе в условиях вступления страны в глобальный военный конфликт, Первую мировую войну. Все это в совокупности делает кейс отношения оренбургского уездного земства к «инородческому образованию» уникальным. Задачей настоящей статьи является выяснение основных параметров содержания инициатив, выдвинутых оренбургским уездным земством после принятия на общеимперском уровне «Правил о начальных училищах для инородцев» от 14 июня 1913 г. [1]. Внимание к этой реформе в Оренбургской губернии было чрезвычайно большим, поскольку регион с середины XVIII в. был своеобразным «опытным полигоном» для государственной политики в сфере аккультурации нерусского населения средствами просвещения [2, 3]. Даже в начале XX в., после отделения от Оренбургского края Уфимской губернии, Тургайской и Уральской областей, в Оренбургской губернии нерусское (так называемое инородческое, преимущественно мусульманское) население насчитывало не менее 1/3 от всех жителей [4. С. 4-17]. Опыт Оренбургского края, являвшегося исторической фронтирной зоной между земледельческим русским и кочевым тюркским населением, был важен для поддержания единого социокультурного пространства всей империи, тем более что у «инородческого населения» юго-востока империи за два века сложилась устойчивая привычка смотреть на Оренбург как на место взращивания национальной элиты, национальной интеллигенции [5]. Специфика поставленной исследовательской задачи продиктовала обращение к массиву источников, которые формально не относятся к числу архивных, поскольку были опубликованы самим оренбургским земством - так называемым земским докладам. По сути эти источники являются уникальными по своей полноте делопроизводственными материалами, которые в соответствии с принципом гласности были опубликованы самыми земствами. С точки зрения анализа инициатив оренбургского земства именно этот комплекс источников является ключевым. Именно поэтому он, а не хранящаяся в архиве первичная делопроизводственная документация или материалы периодики положен в основу данной статьи. Анализ показал, что в условиях Первой мировой войны и сопутствующего ей обострения внутриполитических противоречий местное земство позволяло себе публично высказываться на тему «инородческого» образования в достаточно жесткой форме. Так, в докладе «О культурных нуждах мусульманского населения» звучала прямая критика реформ Александра II: «Меры к распространению русского языка среди мусульман начали приниматься давно. Правительство, начиная с 1870 г., а также Казанский и Оренбургский учебные округа, некоторые административные власти и земские учреждения приложили немало стараний в этом направлении. Однако этот 45летний труд никаким успехом не увенчался . Русско-башкирские и русско-татарские школы, открытые как рассадники знания русского языка среди мусульман, совершенно не могли исполнить возложенные на них задачи. Эти школы, во-первых, по своей программе не были приноровлены к бытовым условиям мусульман; во-вторых, предметы преподавались на совершенно для них непонятном языке, в-третьих, за неимением мусульманских учителей, назначались люди, незнакомы с мусульманским языком. Поэтому учение вообще велось только для формы; учащиеся не могли вынести из этих школ чего-нибудь существенного, а если и выносили крохи знания, то за невозможностью дальнейшего развития все забыли и стали такими неграмотными, как и поступили в школу. Итак, эти школы явились для мусульман мертворожденными и не могли завоевать симпатию населения» [6. С. 344]. Упомянутые выше Правила 1913 г. были направлены на изменение сложившейся ситуации, предполагали, по официальной формулировке, «содействовать их [инородцев] нравственному и умственному развитию», а также «распространять между ними знание русского языка и сближать их с русским народом на почве любви к общему Отечеству» [7. С. 33]. Правила предписывали вести обучение в новых училищах с помощью «родного языка». При этом русский язык вводился практически сразу - не позже третьего месяца обучения, он использовался параллельно и внедрялся последовательно, но постепенно. Начиная с третьего года обучения, вся учебная программа переводилась на русский язык [7. С. 34]. В историографии существуют разные оценки данного нововведения. Ряд исследователей прослеживает прямую взаимозависимость «Правил» и введения в империи всеобщего начального образования, подчеркивает их значимость для просвещения «инородцев» [8. С. 266]. Согласно мнению других исследователей, указанные «Правила» есть «жесткие рамки», вводимые государством для «этнических и культурных меньшинств» [9. С. 27-28]. Существующий историографический спор можно разрешить, изучив практику реализации этих Правил в регионах. На уровне Оренбургской губернии такой анализ был проведен только по документам высших губернских инстанций [10. С. 160; 11. С. 371; 12. С. 209]. Настоящая статья основана на документах низового, уездного земства, которые позволяют понять позицию местного самоуправления по проведению данной реформы в жизнь. Документы показывают, что оренбургское уездное земство восприняло новые Правила как повод для выработки целой серии инициатив по улучшению «инородческого» образования, причем разнообразие и широта выдвигаемых инициатив были таковы, что побудили министра народного просвещения Л. А. Кассо направить попечителю Оренбургского учебного округа А. Н. Деревицкому отдельное распоряжение [13. С. 361], которое касалось именно роли земства в реализации реформы. Высокий чиновник признал в этом документе, что «инородческое население округа недостаточно обслуживается правильно организованными школами и имеет крайнюю нужду в увеличении количества таких школ и надлежащем оборудовании их» [13. С. 362], а далее разъяснил, какой стратегии будет придерживаться государство в «инородческом вопросе», и указал земству его нишу в решении проблемы образования «инородцев». Из документа следовало, что главной целью являлось введение всеобщего обучения и достичь ее можно только путем «составления школьных сетей», включив туда в том числе и «инородцев». Ответственность за эту работу возлагалась на земство [13. С. 312]. Итогом работы стала интеграция в состав «школьной сети» оренбургского уездного земства всех действующие на территории уезда 108 министерских школ (включая и «инородческие», главным образом, русско-башкирские), а также 157 церковноприходских школ. Они охватывали 35 380 детей христианского вероисповедания и 8 388 - приверженцев ислама, а всего - 43 768 мальчиков и девочек [14. С. 16]. Помимо школ, в уезде открылось сразу 339 училищ в количестве 578 «комплектов». Под этим термином понимался «нормальный размер класса», который в то время отличался от привычного нам стандарта в 25-30 человек. Для земских школ был характерен большой «комплект» (до 60 человек) [1. С. 29], однако и этот завышенный норматив постоянно нарушался из-за нехватки средств. В итоге в уезде было организовано в единую сеть 603 школы с 1 076 комплектами [15. С. 27]. Среднее число детей на одну школу составило 83,41 учащихся на один комплект, причем в «магометанских» школах комплект был более объемным из-за необходимости соблюдения принципа раздельного обучения девочек и мальчиков. Начиная с августа 1915 г., школьной комиссией на каждой сессии Оренбургского уездного земского Собрания поднимались проблемы «инородческого» образования: в ноябре 1915 г. рассматривался вопрос о дополнительных пособиях на содержание земских школ, и русско-инородческим начальным школам было целевым образом выделено 46 тыс. руб. Более того, не входящим в общую «школьную сеть» мусульманским медресе и мектебе также было решено выделить пособие в 5 тыс. руб. [16. С. 132]! С точки зрения финансирования, после открытия всех школ в «магометанских районах» расходы на последние должны были составить 678 460 руб., тогда как для «христианских» - в полтора раза меньше, 463 900 руб. (разница была связана с тем, что в мусульманских школах планировалось оставить раздельное обучение девочек и мальчиков). Это соотношение позволяет говорить о том, что система всеобщего начального обучения внедрялась в Российской империи для всего населения, без каких-либо ограничений по конфессиональному признаку, более того, с учетом имеющейся этноконфессиональной специфики. Причем большую часть расходов взяли на себя именно уездные земские структуры: на содержание описанной выше «школьной сети» от министерства народного просвещения выделялась сумма в 333 тыс. руб., а от уездного земства - 345 460 руб. [15. С. 19]. О внимании земства к проблеме образования «инородцев», о стремлении встроить его в общую систему образования говорит и тот факт, что при Оренбургской уездной земской управе был организован отдел народного образования и введена должность «заведующего мероприятиями по образованию инородцев», причем последний имел статус заместителя заведующего школьным и внешкольным образованием. К слову, обсуждая разные структуры нового отдела, оренбургские земцы никогда не подвергали сомнению необходимость данного должностного лица, причем именно в статусе первого заместителя начальника отдела [17. С. 312]. Первым таким «заведующим» стал И.М. Бикчентаев - мугаллим медресе «Хусаиния», которого не раз привлекали в качестве эксперта и консультанта по проблемам «инородческого» образования. Например, в июле 1915 г. Уфимская губернская земская управа собрала совещание по анализу учебников для начальных русско-инородческих школ, на которое из соседней Оренбургской губернии был приглашен И.М. Бикчентаев - как знаток педагогики, методики, дидактики и языкознания [18]. Наделение такого человека реальными властными полномочиями позволяет судить о серьезности тех мероприятий, которые проводило оренбургское уездное земство. Практика показала, что существовавшая до 1913 г. система не способствовала укреплению общегосударственного компонента образования - русский язык оставался лишь учебным предметом, который плохо усваивался «инородцами» [19. С. 34]. Оренбургское уездное земство выдвинуло собственный проект решения данной проблемы - предложило своеобразный «симбиоз» традиционной мусульманской школы (мектебе) и общеобразовательной школы. Обосновывая свой проект, земцы утверждали, что ислам диктует необходимость получения образования, и в оренбургской мусульманской среде это всячески поощряется: по данным переписи 1897 г., именно среди мусульман Оренбургской губернии был зафиксирован наибольший процент грамотности и в крае «трудно найти какую-нибудь деревню, которая не имела бы мектебе. Несмотря на материальную необеспеченность мектебе, на несоответствие жизненным требованиям... мусульмане глубоко почитают его» [6. С. 344]. Вместе с тем результаты анализа, которое провело оренбургское земство на основании специального опроса всех региональных мусульманских приходов, показали, что «картина получилась далеко не радостная. Во всех мектебах преподавание ведется по-старому; нет даже определенного времени начала и конца занятий, учащими являются муллы этих же деревень, люди мало сведущие в делах педагогики. Помещения малы, нет необходимого воздуха и света. Многие мектебы носят конфессиональный (духовный) характер, отсутствуют предметы общеобразовательные» [20]. Еще один довод в пользу земского проекта подтверждался решениями мусульманского всероссийского съезда в Нижнем Новгороде (1906 г.), в соответствии с которыми в программу мектебе, помимо изучения ислама, были включены такие дисциплины, как национальная история, история России, география, арифметика, гигиена, поэзия религиознонравственного характера, природоведение, рисование. Этот набор дисциплин действительно хорошо коррелировался с программой начальных школ. Оренбургские земцы увидели в этих поисках почву для создания «мектебе по типу общеобразовательных школ». Для максимальной оптимизации этого процесса было предложено ввести должность мусульманского инструктора, который был бы «целиком предан работе по улучшению мектебе» [6. С. 345]. Помимо этого, оренбургское земство составило оригинальную программу двухгодичных педагогических курсов для преподавателей таких реформированных мектебе. Суть земского проекта состояла в том, что «обновленные» мектебе получали программу четырехгодичного обучения. При этом само введение учебных программ было новшеством: у традиционных мусульманских школ их не было. Согласно оренбургскому земскому проекту, мектебе должны были иметь один класс, разделенный на четыре отделения (четыре годовых программы). Прием на первое отделение был свободным, туда поступали дети, начиная с семилетнего возраста. Образовательная программа включала в себя: вероучение и родной язык (4 часа в неделю в течение четырех лет обучения); арифметика (4 часа в неделю); история (1 час в неделю на третьем году обучения); география (1 час в неделю на 2-4-м годах обучения); русский язык (6 часов в неделю на 2-4-м годах обучения); 7) пение; 8) гигиена; 9) природоведение [21. С. 67]. Представленная программа действительно превращала мектебе в составную часть той самой общеимперской «школьной сети», которая создавалась в России с 1913 г. Нельзя не отметить интересные идеи оренбургского земства по поводу преподавания в мектебе дисциплины «История». В ее структуре, по мнению земцев, должны были быть предусмотрены такие важные темы, как история булгарского этноса, эпоха завоеваний Чингисхана, история российских «инородцев» в контексте российской истории [21. С. 68]. Иными словами, оренбургские земцы предложили не замалчивать, а наоборот, давать учащимся мектебе системные знания по дискуссионным вопросам отечественной истории в государственном ключе. Ну и, конечно же, придавалось особое значение максимально быстрому овладению учащимися-«инородцами» русским языком: «...имея в виду особое знание государственного языка для учащихся, надлежит обратить внимание на необходимость особых забот о правильной постановке преподавания этого предмета и на лучшее усвоение его учащимися с тем, чтобы по возможности в первый же год обучения учащиеся в достаточной мере овладели русской речью в пределах школьных нужд и переход к преподаванию на русском языке мог сделан возможно раньше» [22. С. 362]. Одновременно с инициативой по преобразованию мектебе в специфический род общеобразовательных начальных школ, оренбургское земство сразу же стало помогать мектебе деньгами. Так, только в 1915 г. оно выделило на эти цели 7 тыс. руб. [21. С. 68]. С учетом особой сложности поставленных задач, оренбургское земство посчитало необходимым организовать профессиональные курсы для преподавателей «инородческих» учебных заведений, причем сделать их не двух, а трехгодичными. Курсы были рассчитаны на 30 человек, и стипендия для них была предусмотрена в бюджете уездного земства. Вся подготовительная работа была проведена, и начало занятий было запланировано на октябрь 1917 г. [21. С. 69]. Этой части программы не позволила реализоваться Октябрьская революция и начавшаяся Гражданская война, хотя сам по себе нерешенный национальный вопрос был важной причиной этих процессов [23]. Важным элементом программы оренбургского уездного земства являлось внимание к взрослому мусульманскому населению, которое уже не могло посещать начальные школы. Для таких лиц была выработана «программа по обучению взрослых мусульман». Она занимала 18 недель (5 дней в неделю по 3 часа в день), т.е. в общем 270 часов. Это был ускоренный метод включения взрослых в общее образовательное русскоязычное пространство. Первая часть этой инновационной программы была посвящена обучению « инородцев» русской грамоте, причем на основе чтения отрывков из русской классической литературы, что позволяло приобщиться и к этому источнику «русского мира». Также преподавались арифметика и основы магометанского вероучения [24. С. 331-332]. Реализация этого проекта была начата на практике - оренбургское уездное земство субсидировало 1 800 руб., благодаря чему в 1916 г. было открыто шесть пунктов для обучения указанного контингента [25. С. 233]. Таким образом, оренбургское гражданское общество в лице уездных земцев активно включилось в реализацию государственной политики по внедрению в Российской империи всеобщего начального образования. Оренбургскими земцами новации были восприняты как дело чрезвычайно важное для региона. Были внесены свои коррективы, поправки и дополнения к спускаемым «сверху» формам и бланкам, предложены собственные оригинальные проекты реформирования мусульманского образования, учитывающие региональную специфику и исторический опыт Оренбургского края по аккультурации «инородцев». Несмотря на вступление страны в Первую мировую войну и сопутствующее этому обострение ситуации в экономике и социальной сфере, тем не менее, инициатива оренбургского уездного земства в последние годы существования Российской империи была направлена на прочную инкорпорацию «инородцев» в общеимперское образовательное пространство.
Ключевые слова
инородческое образование,
Российская империя,
Оренбургская губерния,
реформа,
аккультурацияАвторы
| Любичанковский Сергей Валентинович | Оренбургский государственный педагогический университет | д-р ист. наук, зав. кафедрой истории России | svlubich@yandex.ru |
| Алешина Светлана Александровна | Оренбургский государственный педагогический университет | канд. пед. наук, ректор | aleshina_s_a@mail.ru |
Всего: 2
Ссылки
Чарнолуский В. Вопросы народного образования на первом общеуездном съезде. СПб., 1912.
Любичанковский С.В. Политика аккультурации в условиях разрушения империи: казус волостного земства // Вестник Томского государ ственного университета. История. 2017. № 50. С. 31-37.
Любичанковский С.В. Политика аккультурации средствами просвещения исламских подданных Российской империи: исторический опыт Оренбургского края (середина XIX - начало XX вв.). Оренбург : ОГАУ, 2018. 320 с.
Статистический справочник. Население и землевладение России. 1906. СПб., 1906. Вып. 1.
Lyubichankovskiy S., Akanov K. Orenburg in the History of Integration of Kazakh Steppe in the Russian Imperia XVIII - beginning of XX century // Bylye Gody. 2018. № 48/2. Р. 484-495.
Оренбургская Уездная Земская Управа. Доклад № 3 с проектом школьной сети и финансового плана всеобщего обучения в Оренбургское Губернское Земское Собрание 4-й чрезвычайной сессии 14 марта 1915 года // Журналы и доклады IV сессии 14 марта 1915 г.; V чрезвычайной сессии 17 августа 1915 г. и III очередной сессии 3, 4 и 9 ноября 1915 г. Оренбург, 1915. С. 3-18.
Оренбургская Уездная Земская Управа. Доклад № 88 «О культурных нуждах мусульманского населения на 3-й очередной сессии Орен бургского Уездного Земского Собрания» // Журнал и доклады IV и V чрезвычайных сессий и III очередной сессии Оренбургского Уездного Земского Собрания. Оренбург, 1915. С. 333-401.
Шершнева Е.А. Проблемы реформирования мусульманского образования в Российской империи в начале ХХ в. // Известия Алматинско го государственного университета. История. Политология. 2012. № 4/1. С. 266-269.
Исхакова Р.Р. Образование в дореволюционной России: идеологический и конфессиональный аспект // Вестник Казанского технологиче ского университета. 2008. № 6. С. 27-28.
Свод законов, циркуляров и справочных сведений по народному образованию в переходный период. М., 1917.
Семенченко И.В. Деятельность земств на Урале (1900-1919 гг.). Оренбург : ОГПУ, 2010. 26 с.
Суворова А.В. Развитие системы начального образования в Оренбургской и Уфимской губерниях (начало ХХ в. - 1914 г.). Челябинск : ЧелГУ, 2012. 24 с.
Сафарова А.Д. Развитие образования национальных меньшинств в Оренбургском крае (конец XIX века - 1840 г.). Оренбург : ОГПУ, 2009. 16 с.
Доклад школьной комиссии по вопросам народного образования. Оренбургское Уездное Земское Собрание 3-й очередной сессии // Журналы и доклады IV и V чрезвычайных сессий и III очередной сессии Оренбургской Уездной Земской Управы. Оренбург, 1915. С. 115-147.
Оренбургская Уездная Земская Управа. Доклад № 81 «О занятиях со взрослым мусульманским населением» // Журнал и доклады IV и V чрезвычайных сессий и III очередной сессии Оренбургского Уездного Земского Собрания. Оренбург, 1915. С. 299-332.
Доклад Управы с проектом школьной сети и финансового плана всеобщего обучения // Журналы и доклады IV и V чрезвычайных сессий и III очередной сессии. Оренбург, 1915. С. 3-41.
Распоряжение министерства народного просвещения от 22 мая 1914 г. № 25606 по Департаменту народного просвещения «О необходимости заботиться составлением школьных сетей для инородческого населения Оренбургского учебного округа // Вестник Оренбургского учебного округа. 1914. № 4. С. 360-364.
Азаматова Г. Б. Общественная деятельность Мажита Гафури в 1907-1916 гг. // Общественный фонд культуры имени Мажита Гафури. URL: https://gafuri.ucoz.ru/publ/obshhestvennaja_dejatelnst_mazhita_gafuri_v_1907_1916_gg/1-1-0-30 (дата обращения: 12.12.2020).
Новые правила о начальных училищах для инородцев // Учительский вестник. 1913. № 6. С. 14-48.
Оренбургское земское дело. 1916. № 12-13. С. 2.
Доклады Оренбургской Губернской Земской Управы четвертому очередному Губернскому Земскому собранию. Отдел народного образования. Оренбург, 1917.
Наши перспективы // Вестник Оренбургского учебного округа. 1914. № 4. С. 361-363.
Kucheryavaya E. The 100th Anniversary of the Russian Revolution of 1917 - the Historical Memory Formation in Contemporary Situation // Przegl^d Wschodnioeuropejski. 2019. № X/2. Р. 11-23.
Приложение к докладу об организации отдела народного образования при уездной управе // Журналы и доклады IV сессии 14 марта 1915 г.; V чрезвычайной сессии 17 августа 1915 г. и III очередной сессии 3, 4 и 9 ноября 1915 г. Оренбург, 1915. С. 308-319.
Доклады по народному образованию Оренбургского Губернского Земского Собрания. 3-я очередная сессия. Оренбург, 1916. 417 с.
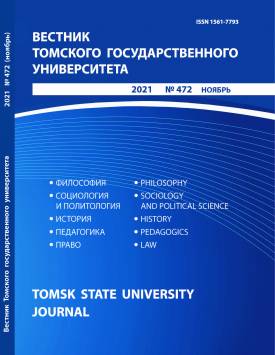

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью