Рассматриваются политико-идеологические факторы партийного вмешательства в сельскохозяйственное научное знание, обусловленные имеющими место представлениями о взаимосвязи биологических и социальных процессов. Сделан вывод, что «внешние» воздействия на науку отрицательно сказывались на положении дел в сельском хозяйстве, а также вели к формированию как «зависимого» от партийных установок стиля поведения ученых, так и антинаучной психологии у производственников.
“Our Party Is Science”: On the Causes and Consequences of the Party's Interference in Agricultural Science in the S.pdf Научно-производственная интеграция в сельском хозяйстве СССР имела весьма противоречивый характер. С одной стороны, в результате активной государственной политики была создана разветвленная и довольно четко структурированная сеть аграрных научных учреждений, сформированы специализированные научно-внедренческие структуры, с другой -применение научных рекомендаций в производстве так и не приобрело массового, повсеместного характера, имел место «очаговый» эффект воздействия науки на сельскохозяйственное производство. Как считают ученые, невысокие темпы роста сельскохозяйственного производства в СССР в значительной мере определялись медленными темпами интенсификации аграрной отрасли [1. С. 296]. Сложившаяся в Советском Союзе система административно-командных методов руководства сельским хозяйством тормозила научно-производственную интеграцию в отрасли. Крайней формой администрирования было вмешательство партийных органов в содержательные аспекты аграрной науки. В исследовательской литературе отмечается данное обстоятельство. «К голосу ученых не всегда прислушиваются власть предержащие, часто принимающие волевые решения, далекие от научных рекомендаций. А было время, когда пытались заставить науку задним числом “обосновать” эти волевые решения, часто разрушительные для экономики страны и дискриминационные для народа», -писал известный ученый и организатор аграрной науки академик А. А. Никонов [2. С. 6]. Однако исчерпывающего объяснения феномену партийного вмешательства в сельскохозяйственное научное знание в исследовательской литературе не дается, не проанализированы его причины и последствия. В целях исправления сложившейся историографической ситуации и предлагается данная статья. После Октября 1917 г. перед страной во всю ширь встали проблемы модернизации всех сфер жизни. Именно наука рассматривалась руководителями страны в качестве одного из главных катализаторов процессов развития. По мысли создателя Советского государства В.И. Ленина, именно «союз представителей науки, пролетариата и техники» должен был обеспечить успешное строительство нового общества [3. С. 189]. Изначально научная политика в СССР совершенно не предполагала вмешательства правящей партии в сферу научного знания (естественно, это касалось негуманитарных наук). Однако в августе 1948 г. партия заняла вполне определенную позицию в научном споре о природе наследственности, встав на сторону группы Т.Д Лысенко. История эта, конечно же, не обойдена вниманием исследователей. Одни, являясь приверженцами тоталитарной концепции истории советской науки, объясняют данный феномен злой волей «многорукой и многоликой партии коммунистов... словно гигантский спрут душившей народы Советского Союза - всех жителей в целом и каждого поодиночке» и, соответственно, стремившейся уничтожить и генетику [4. C. 632]. Другие связывают данное явление с развернувшейся после окончания войны борьбой за власть в окружении Сталина [5. C. 242]. По мысли третьих, историческая необходимость развития всего научного фронта при острой нехватке средств и обусловила партийную поддержку только одного из направлений в агробиологии [6. С. 240]. Однако чтобы сложилось сколько-нибудь целостное представление о феномене вмешательства партии в сельскохозяйственную науку, необходимо использовать возможности различных исторических подходов, и в частности историко-антропологи-ческого. Суть данного подхода в «очеловечении» истории, в осмыслении социальных ориентиров и ценностей народа, идеологических и мировоззренческих установок, характерных для различных периодов и эпох и оказывающих влияние на направление исторического процесса [7. C. 186]. Целью данной статьи и является изучение партийного вмешательства в сельскохозяйственное научное знание, а также последствий этого вмешательства через призму историко-антропологического подхода. При подготовке данного материала использовались, главным образом, архивные материалы из фондов аппарата ЦК ВКП(б) и ЦК КПСС Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), большинство из которых вводится в научный оборот впервые. Роль политико-идеологический фактора в истории партийного вмешательства в сельскохозяйственное научное знание нашла отражение в мемуарах Ю. А. Жданова. Его суждения для нас весьма важны, поскольку это был человек, тесными родственными узами связанный с высшим советским руководством (сын А. А. Жданова и зять И. В. Сталина), с одной стороны, а также имеющий обширные связи в научной среде как курирующий вопросы науки в ЦК ВКП(б) на рубеже 1940-1950-х гг. - с другой. Ю.А. Жданов так характеризовал общественные взгляды того времени на ситуацию в биологии: «Споры вокруг биологии в период поисков исторических путей и нарастающих революционных движений приобретали характер все более и более политический, фактически отражали определенные идейные и классовые установки, позиции общественных групп и слоев... В предреволюционную и революционную эпоху сторонники преобразования общества естественно ищут себе поддержку и в природных закономерностях» [8. C. 246247]. Следовательно, признание определяющей роли внешней среды на формирование наследственности сельскохозяйственных культур и животных служило обоснованием возможности общественной трансформации на социалистических основаниях при условии изменения общественного базиса. Вероятно, этим и объясняется то, что среди ученых, исследующих проблемы наследственности, было значительное количество членов партии, в том числе и с дореволюционным стажем, и для них как сторонников социалистического преобразования общества признание принципа унаследования благоприобретенных признаков считалось обязательным [9. C. 84]. Необходимо указать на любопытный документ, также дающий представление о «теченьи мыслей» в то время. В мае 1954 г. в ЦК КПСС на имя Н.С. Хрущева поступило письмо с изложением «новой теории развития природы». Автор письма, назвавшийся «коммунистом, проработавшим в партии более 34 лет», выступил с критикой эволюционной теории Ч. Дарвина, поскольку, по его мнению, «теория отбора - субъективистская буржуазная теория, которая принцип силы возвела в закон развития, бизнес в цель жизни, а борьбы или войну в средство для достижения своих целей индивидуумов, в источник развития» [10. Л. 65]. Автор отрицает господство индивидуализма в природе и заключает, что «в действительности основным звеном развития живой природы, героем ее истории был вид как общность, т. е. коллектив» [10. Л. 66]. Таким образом автором письма к советскому лидеру природные явления приводятся в соответствие с принципами организации советского общества. Любопытно, что в конце XIX в. лидер анархо-коммунистического направления П. А. Кропоткин для обоснования своей политической концепции занимался формулированием закона взаимной помощи и солидарности как всеобщего биосоциологического закона [11. C. 464, 466, 470]. Лорен Грэхэм, известный американский историк науки, писал: «Я уверен в том, что наступит время, когда роль естественных наук в идеологии русской революции и установившегося потом режима будет рассматриваться как самая необычная черта этой идеологии. Другие великие политические революции Нового времени (подобно революциям в Америке, Франции и Китае) уделяли известное внимание науке, однако ни одна из них не породила систематическую идеологию относительно физической и биологической природы, как это случилось в результате русской революции» [12. C. 8]. Конечно, трудно согласиться с Л. Грэхэмом в том, что в СССР была выработана «систематическая идеология» о взаимосвязи биологических и социальных процессов, однако приведенный выше материал позволяет признать, что подобные воззрения имели своих сторонников и, естественно, оказывали влияние на их практическую деятельность. Таким образом, вмешательство партийных структур в содержательные аспекты аграрной науки на рубеже 1940-1950-х гг. в определенной степени было вызвано распространенными представлениями о взаимосвязи биологических и социальных процессов, и в первую очередь это касалось проблем наследования благоприобретенных признаков. Однако подобное вмешательство имело и свои последствия: оно сформировало некий алгоритм действия партийной бюрократии, полагавшей, что отныне партия может и должна выступать в роли «главного контролера» в чисто научных вопросах. Это было продемонстрировано практически сразу в связи с ситуацией вокруг травопольной системы земледелия. В этой системе, разработанной в довоенное время считавшимся «законодателем моды» в сельском хозяйстве академиком В. Р. Вильямсом, восстановление плодородия предполагалось осуществлять за счет введения в севообороты значительного клина сеяных трав. Травопольная система земледелия, по мысли ее творца, позволяла не только повысить плодородие почвы, но и существенно увеличить кормовую базу животноводства. Постепенное сокращение посевных площадей под растениеводческую продукцию планировалось компенсировать вовлечением в севообороты залежи. Однако по причине чрезмерной централизации управления аграрной отраслью от внедрения травопольной системы земледелия не получили должного эффекта. Вместе с тем вопросы практического применения этого учения, с учетом всего многообразия природно-климатических условий различных районов страны, были детально не проработаны и их можно было рассматривать лишь как научные гипотезы, нуждавшиеся в дополнительной разработке, проверке и уточнении. Поэтому в научной среде вызревает критическое отношение к данной системе. На созванных в начале лета 1950 г. союзными министерствами сельского хозяйства и высшего образования совещаниях по проблемам сельскохозяйственной науки критические выступления в отношении травопольной системы не были редкостью. Одновременно и практические работники сельского хозяйства стали относиться к травопольной системе земледелия более настороженно. В мае 1950 г. Главным государственным инспектором по определению урожайности Б. Савельевым в письме Г. М. Маленкову было внесено предложение о проведении в печати дискуссии по ряду положений учения В. Р. Вильямса [13. Л. 75-77], а в структурах министерства сельского хозяйства СССР приступили к подготовке проекта постановления ЦК ВКП(б) «Об учении академика Вильямса В. Р. о травопольной системе земледелия», выдержанного в критическом духе [13. Л. 8287]. Показательно, что на озабоченность ученых и практиков сельского хозяйства сложившейся ситуацией в отрасли партийная бюрократия отреагировала весьма своеобразно. В высших партийных органах «поведение» ученых, не санкционированное свыше, было определено как «неправильное» [13. Л. 75-77] и эта важнейшая научно-производственная проблема не получила своего разрешения. К ее обсуждению вернулись только тогда, когда развернулось массовое освоение целинных и залежных земель. Смена власти в СССР в 1953 г. не привела к изменению алгоритма поведения партийных работников по отношению к аграрной науке. В отношении партии к сельскохозяйственной науке оттепель так и не наступила. Однако в отличие от предшественников, идеологическая подоплека, обусловившая вмешательство партии в содержательные аспекты сельскохозяйственной науки в предшествующие годы, новую генерацию партийных работников волновала мало. Для Н.С. Хрущева было характерно чисто потребительское отношение к сельскохозяйственной отрасли, целостного понимания и осознания ее специфики у него не было. Во время одного сельскохозяйственного совещания он заявил: «Мне хоть бы черт, лишь бы яйца нес... Нам нужна такая система земледелия, которая дает больше хлеба и других продуктов» [14. C. 23]. И данный утилитарный подход обусловил поддержку со стороны нового советского лидера тех ученых, которые были талантливы в придумывании «чертей, несущих яйца». Вне конкуренции в данном отношении был академик Т.Д. Лысенко, который, по свидетельству современника, выдавал «ослепительный фейерверк практических предложений. » [15. C. 26]. Многочисленные письма в ЦК КПСС, адресованные лично Н.С. Хрущеву, от ученых, обеспокоенных ситуацией в аграрной науке и производстве, как правило, им не читались, а переадресовывались аппарату с указанием «рассмотреть письма ученых о положении в сельскохозяйственной науке и подготовить предложения» [16. Д. 34. Л. 1]. Что касается партийного аппарата, то он, прекрасно ориентируясь в «научных» симпатиях и антипатиях первого лица, следуя «партийной» линии, оказывал всяческую поддержку симпатизантам и, напротив, критиковал их оппонентов. Например, в октябре 1953 г. директору Чувашской селекционной станции Я. Лукьяненко на приеме в обкоме партии было заявлено о недопустимости критического отношения к приемам «яровизации, солнечного обогрева, дополнительного опыления», так как они «апробированы партией и правительством» [17. Л. 31]. В письме на имя Г.М. Маленкова Я. Лукьяненко просил последнего нормализовать ситуацию в отношении аграрной науки, «а то дело борьбы за высокий урожай и высокую продуктивность животноводства от этого сильно страдает, тормозится» [17. Л. 32]. В лучшем случае, отношение партийной бюрократии к оппонентам Т.Д. Лысенко «ограничивалось общей неделовой поддержкой» [18. Д. 516. Л. 8]. Со стороны ученых представители партийного аппарата получили характеристику как «Молчалины нового типа», которые «потеряют шанс стать статскими советниками, если вдруг приобретут собственное мнение, расходящееся с традицией» [18. Д. 418. Л. 253, 256]. Для выяснения взглядов партийных работников на сельскохозяйственную науку весьма показательна дискуссия второй половины 1950-х гг. между ученым-биологом А.А. Любищевым и инструктором сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС В.П. Орловым. Важно, что этих людей связывали теплые человеческие отношения, они уважительно относились друг к другу. В.П. Орлов высоко оценивал перед коллегами - партийными функционерами своего оппонента как выдающегося ученого и преданного Родине человека [15. C. 147]. А.А. Любищев, в свою очередь, считал В.П. Орлова редким в партийной среде человеком, «искренне стремящимся найти истину» и не проявляющим «никакой чрезмерной почтительности перед авторитетами» [15. C. 133]. Тем не менее дискуссия о роли партии в развитии аграрной науки приобрела настолько острый и бескомпромиссный характер, что едва не привела к разрыву отношений между этими людьми. А.А. Люби-щев критиковал В.П. Орлова как сторонника партийного вмешательства в научные вопросы [15. C. 133]. В.П. Орлов, уповая на классовый характер науки, отстаивал право партии на руководство наукой: «. партия наша - это наука», - писал он [15. C. 136]. Полемизируя со своим оппонентом, А.А. Любищев акцентировал внимание на том, что «в таком вопросе, как влияние удобрений на поля, классовый элемент отсутствует» [15. C. 139]. Важно отметить, что еще в мае 1954 г. в письме к Н.С. Хрущеву А.А. Любищев обозначил свое понимание партийности в науке. Для него партийность - это не распространенное в то время «искажение истины в политических интересах», а «предпочтение темам, связанным с разрешением великих проблем социалистического строительства и что при этом никакое искажение или замалчивание истины недопустимо» [18. Д. 464. Л. 5]. Именно присвоение партийным аппаратом несвойственных для него функций науки и обусловило формулирование в III Программе КПСС тезиса о поддержке «мичуринского направления в биологической науке, которое исходит из того, что условия жизни являются ведущими в развитии органического мира» [19. C. 174]. Партийные органы не только «санкционировали» разработку и применение тех или иных агроприемов, но и, по сути, «инициировали» их. Так, Н.С. Хрущев, после нескольких посещений КНР, находился под впечатлением китайского опыта, где сельское хозяйство ведется практически без паров. С его подачи Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в 1959 г. выступил с пропагандой «пропашной системы» земледелия с ликвидацией чистых паров и их заменой пропашными культурами [20]. Естественно, что пропашная система земледелия получила высокую оценку и поддержку партии и лично Н.С. Хрущева [21. C. 3] и с весны 1962 г. насаждается на территории Сибирского региона, что негативно отразилось на экономических показателях. «Партийное руководство» сельскохозяйственной наукой в подобной форме вело к дезорганизации научно-исследовательской работы, формировало особый, «зависимый» от партийной бюрократии, стереотип поведения ученых. Президент АН СССР академик А.Н. Несмеянов в докладе на Московском активе ученых в 1957 г. говорил, что «надо расстаться с привычкой ожидать по всякому вопросу указаний сверху. Дело самих ученых в результате конкретных исследований на основе творческого применения марксизма выявлять закономерности и новые явления в своей отрасли науки, а не ждать каких-либо руководящих указаний, чтобы затем их пересказать. Между тем привычка ждать официальной апробации стала распространяться и в естественных науках» [22]. «Подчинение» науки партийным установкам приводило к тому, что практика руководства сельским хозяйством приобретала все более бюрократический и централизованный характер. Секретари обкомов, по свидетельству современников, превратились в «тех же генерал-губернаторов, только с большими правами» [23. Л. 2]. Важные хозяйственные решения волевым порядком принимались в партийных инстанциях и спускались производственникам для исполнения. В сложившейся системе управления специалисты сельского хозяйства становились лишним звеном, выполняя «роль козлов отпущения за плохие, неудовлетворительные итоги такого хозяйствования» [23. Л. 126]. Деформация партийных взглядов на сельскохозяйственную науку привела к смене алгоритма выполнения важнейших научно-производственных программ развития отрасли. Наиболее красноречиво об этом свидетельствует история освоения целины. Как известно, впервые вопрос о создании на востоке СССР новой зерновой базы был поставлен в практическую плоскость в ходе выездной сессии зерновой секции ВАСХНИЛ в Омске в июле 1936 г. Примечательно в данном случае то, что партийные структуры при обсуждении вопросов целинного освоения обратились, в первую очередь, к ученым. Участниками сессии были выдающиеся отечественные ученые (Н.И. Вавилов, Н.М. Тулайков, Г.Д. Карпеченко и др.), иностранные гости, а также ученые, представляющие регионы будущего целинного освоения - Сибирь и Казахстан. В результате обсуждения вопроса о масштабах освоения целины было решено создать «вторую Украину» на востоке Союза ССР за счет освоения 11 700 тыс. га в годы третьей пятилетки [24]. Рекомендации ученых нашли отражение в решениях XVIII съезда ВКП(б) [25. C. 65-66], однако в условиях нарастающей военной угрозы проблемы массового освоения целины отошли на второй план. В середине 1950-х гг. вопросы освоения целинных и залежных земель уже решались совершенно по-иному. Советский лидер Н.С. Хрущев обратился на этот раз не к ученым, как это было сделано в 1936 г., а к представителям партийно-советской бюрократии: по его указанию предложения об увеличении производства зерна посредством распашки целинных земель внесли в ЦК КПСС министры сельского хозяйства СССР и РСФСР, секретарь крайкома партии и председатель крайисполкома из Алтайского края, секретарь Омского обкома КПСС [26]. В результате многие важные научные проблемы по отводу земель под целинное освоение, агротехнике их обработки были не решены. Правда, при подготовке материалов в Президиум ЦК КПСС по целинной проблематике Н.С. Хрущев опирался и на записку Т.Д. Лысенко о прогнозируемой урожайности на целинных и залежных землях [16. Д. 1. Л. 4]. Однако Лысенко специалистом по ведению сельского хозяйства в степных и засушливых регионах страны не являлся. Насколько представители партийно-советской бюрократии, связанные жесткой партийной дисциплиной и иерархической соподчиненностью, отражали интересы «своих» регионов, заботились о рациональном построении хозяйства на целине, свидетельствует записка в ЦК КПСС секретаря Омского обкома, в которой предлагалось следующее: «Поскольку вовлекаемые под посев пшеницы площади исключаются из использования под кормовые, необходимо эту убыль в кормах восполнить предоставлением колхозам области в долговременное использование не менее 500 тысяч гектаров неиспользованных целинных земель Казахской ССР, прилегающих к границам области» [26]. В итоге принципиальным ученым, сторонникам научных подходов в деле целинного освоения пришлось «работать почти в одиночку и часто терпеть поражения» [27. C. 438]. На февральско-мартовском 1954 г. пленуме ЦК КПСС была определена начальная цифра в 13 млн га, которая, как мы видим, близка к намеченным показателям 1936 г., однако затем планы распашки были значительно увеличены - до 40 млн га [25. C. 84-86]. Последующий опыт освоения целины показал, что данные цифры являлись завышенными. В Казахстане, например, распахивались полупустынные и пустынные территории [28. C. 50]. В Алтайском крае подъем целины и залежей уже в 1954 г. во многих районах превысил площадь пригодных для освоения земель [29. C. 84]. Забвение аграрной науки обернулось эрозией почвы, черными бурями, огромными производственными потерями и людскими трагедиями. В итоге подобной партийной политики по «руководству» сельскохозяйственной наукой, ухудшались не только производственные показатели в аграрной отрасли, но, что еще хуже, формировалась антинаучная психология у производственников. Практические работники, чтобы поддерживать свои хозяйства «на плаву», вынуждены были не столько следовать «научным рекомендациям», сколько уметь обходить их. Один из агрономов в письме Н.С. Хрущеву в середине 1950-х гг. отмечал, «что если бы мы точно выполняли все директивы, то на полях из-за чертополоха не видно было бы пшеницы» [16. Д. 34. Л. 42]. В нашей стране исторически политический фактор играл доминирующую роль. Поэтому нормализация в отношениях между партией и аграрной наукой началась после очередной смены власти в высших партийных органах в середине 1960-х гг. Процесс этот был весьма и весьма непростым. Партийным структурам следовало отказаться от «научных» функций, и роль партии, как полагали ученые, должна была сводиться к следующему: ставить перед учеными определенные задачи и поручать их определенным лицам, имеющим крупный научный авторитет; давать средства и требовать отчета в израсходовании; организовывать контроль за целесообразностью расходования средств [15. C. 203]. Как ни довлели над партийными работниками стереотипы и традиции недавнего прошлого, все-таки проблема «партийного излишества» в аграрной науке постепенно решалась. Одновременно сельскохозяйственные научные учреждения освобождались от особого типа «открывателей» истины, которые действовали по простому рецепту: «... методику надо засекретить, тема должна быть производственно актуальной, нужно заявить, что такой-то ранее признанный авторитет, желательно из иностранцев, вовсе не ученый, а враг науки и материализма» [18. Д. 419. Л. 62-63]. Усилия, предпринятые в указанных направлениях, привели к позитивному результату. По свидетельству ученых, в результате преобразований в сельскохозяйственной науке в 1970-е гг. начался «золотой этап», в частности в области селекции [30. C. 10]. Использование более гибких хозяйственных решений привело к появлению в стране мест, где успешно решались проблемы научно-производственной интеграции. Это были либо регионы, где бюрократизация управления отраслью присутствовала в меньшей степени (советские республики Прибалтики, которые к тому же и неплохо финансировались), либо «пилотные» регионы по реализации аграрных научно-производ-ственных проектов (Молдавская ССР), либо места, где ученые и региональные руководители смогли наладить эффективное сотрудничество (например, Омская область). Однако данные процессы оказались не завершены, так как по времени совпали с нарастанием кризиса советской системы. Таким образом, вмешательство партии в сельскохозяйственное научное знание было вызвано как ложными представлениями о взаимосвязи биологических и социальных процессов, так и стремлением изменить в лучшую сторону ситуацию в сельском хозяйстве посредством внедрения в производство обещающих быстрый экономический эффект «чудо-рекомендаций». Это вмешательство проявлялось в санкционировании тех или иных разработок, в инициировании «проектов», которые впоследствии получали «научное» обоснование, в бюрократизации реализации важнейших научно-производственных программ. Вследствие этого формировался «зависимый» от решений «сверху» стереотип поведения ученых, с одной стороны, и складывалась антинаучная психология у производственников - с другой. В результате ограничивались возможности научно-технического прогресса, ухудшались производственные показатели в сельскохозяйственной отрасли. Преодоление допущенных ошибок открыло возможности для интеграции аграрной науки и производства, однако негативный сценарий развития страны не позволил им реализоваться в полной мере.
Сельскохозяйственная практика: противоречия перестройки. М. : Агропромиздат, 1989. 444 с.
Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII-XX вв.). М. : Энциклопедия российских деревень, 1995. 574 с.
Ленин В.И. Речь на II Всероссийском съезде работников медико-санитарного труда 1 марта 1920 г. // Полное собрание сочинений. 5 е изд. М. : Политиздат, 1974. Т. 40. С. 188-189.
Сойфер В.Н. Власть и наука (история разгрома коммунистами генетики в СССР). 4-е изд., перераб. и доп. М. : ЧеРо, 2002. 691 с.
Жуков Ю.Н. Сталин: тайны власти. М. : Вагриус, 2007. 720 с.
Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга вторая. От Великой Победы до наших дней. М. : ЭКСМО-Пресс, 2002.640 с.
Кром М.М. Историческая антропология : учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. СПб. ; М. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге: Квадрига, 2010. 214 с.
Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца. Ростов н/Д : Феникс, 2004. 448 с.
Дубинин Н.П. Вечное движение. 3-е изд., испр. и доп. М. : Политиздат, 1989. 448 с.
Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 5. Д. 34.
Кропоткин П.А. Записки революционера. М. : Мысль, 1990. 526 с.
Грэхэм Л.Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе : пер. с англ. М. : Политиздат, 1991. 480 с.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 138. Д. 203.
Богатства земли - на службу Родине: Материалы совещания работников сельского хозяйства Сибири 25-26 ноябри 1961 г. в г. Новосибирске. М. : Политиздат, 1962. 242 с.
Любищев А. А. В защиту науки: Статьи и письма. Л. : Наука, 1991. 295 с.
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 45.
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 24. Д. 574.
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17.
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898-1988) : в15 т. Т. 10: 1961-1965. М.: Политиздат, 1986. 493 c.
Сельское хозяйство. 1959. 1 декабря.
Наливайко Г.А. Пропашная система земледелия. Барнаул : Алт. книж. изд-во, 1962. 178 с.
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 35. Д. 52. Л. 100-101.
РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 22. Д. 263.
Омская правда. 1936. 1 августа.
Куликов В.И. Исторический опыт освоения новых земель. М. : Мысль, 1978. 253 с.
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 24. Д. 538. Л. 23.
Орловский Н.В. Страницы истории аграрной науки ХХ века (воспоминания ученого). Новосибирск : РАСХН, Сиб. отд-е, 1999. 440 с.
Кузьмин М.А. Освоение целинных земель и современная аграрная реформа в Казахстане // Вестник Московского университета: География, серия 5. 2004. № 3. С. 48-54.
Освоение целинных и залежных земель в 1954 году. Материалы совещания при Академии наук СССР по итогам и перспективам научно-исследовательских работ в области освоения целинных земель (21-26 февраля 1955 г.). М. : АН СССР, 1956. 388 с.
Сборник научных работ, посвященных 170-летию Сибирской аграрной науки. II том. Селекция и семеноводство, механизация. Омск: Фрактал, 1998. 165 с.
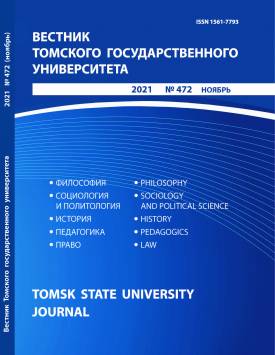

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью