Выявлены угрозы свободе личности в сфере уголовного судопроизводства и исполнения наказаний. На основе анализа судебной практики и позиций ученых делаются выводы о целесообразности распространения запрета, содержащегося в ст. 301 УК РФ, не только на незаконное задержание подозреваемого и заключение под стражу при производстве предварительного расследования, но и на заведомо незаконное задержание и заключение под стражу осужденного.
Criminal Law Protection of the Personal Freedom of the Suspect, the Accused, and the Convicted.pdf Актуальной научной проблемой является повышение эффективности охраны свободы и неприкосновенности личности (ст. 22 Конституции РФ), попавшей в сферу уголовной репрессии. Применяемые в таких случаях меры процессуального принуждения, а также ограничение свободы, имеющее иную правовую природу, должны быть обоснованными, а с их умышленным незаконным применением нужно бороться, в том числе и уголовноправовыми средствами. Достаточно сложной и неоднозначно оцениваемой учеными является степень соответствия этих средств, и в частности ст. 301 УК РФ, задаче предупреждения общественно опасных посягательств на неприкосновенность личности. «К внешним объективным детерминантам заведомо незаконного задержания, -отмечают А.В. Куликов и Г.А. Чобанов, - необходимо отнести недоработки и пробелы уголовно-процессуального и уголовного законодательства, упущения ведомственного контроля и недостатки прокурорского надзора за соблюдением законности задержания, а также факторы экономического характера» [1. С. 28]. Статья 301 УК РФ предусматривает ответственность за заведомо незаконное задержание (ч. 1 ст. 301 УК РФ), а также за заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей (ч. 2 ст. 301 УК РФ). Применительно к заведомо незаконному задержанию в юридической литературе традиционно отмечается, что, «совершая данное преступление, начальник органа дознания, дознаватель или следователь принимают решения в рамках своих процессуальных полномочий (ст. 91 УПК РФ), но при этом злоупотребляют ими» [2. С. 641]. «Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению, поэтому совершить данное преступление может только судья. Именно судья выносит постановление об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ)» [2. С. 642]. Получается, что сферой охраны специальной нормы (ст. 301 УК РФ) обычно признают только общественные отношения, возникающие в досудебном производстве в связи задержанием лица, подозреваемого в совершении преступления, и применением такой меры пресечения, как заключение под стражу. Примечательно, что в ст. 187 «Незаконное задержание или заключение под стражу» УК Киргизской Республики ч. 4 предусматривает ответственность за «неуведомление родственников подозреваемого (курсив наш. - В.Б., Б.Б.) о факте его задержания». Такая же норма, свидетельствующая именно о запрещении незаконного уголовно-процессуального задержания, имеется и в Казахстане, в которой в числе прочего установлена ответственность за «фальсификацию времени составления протокола задержания или времени фактического задержания» (ч. 4 ст. 414 УК РК). Именно с досудебным производством, как правило, связываются проблемы обеспечения неприкосновенности личности и в уголовно-процессуальной науке. «Руководствуясь международными принципами и конституционными положениями, - отмечает Е.В. Авдеева, - УПК РФ в ст. 10 закрепляет неприкосновенность личности как один из основополагающих принципов, обеспечивающих права и свободы человека. Исходя из содержания ч. 1, 2 ст. 10 УПК РФ, положения, регламентированные ст. 91 и 97 УПК РФ, строго определяют законные основания для задержания и заключения под стражу» [3. С. 16]. Применение ч. 1 ст. 301 УК традиционно распространяется на действия, связанные с явным необоснованным задержанием лица, подозреваемого в совершении преступления. Вместе с тем гражданин, в связи с осуществляемым в отношении него уголовным преследованием, может быть незаконно лишен свободы в досудебном производстве и в других случаях: 1. Часть 3 ст. 210 УПК РФ предусматривает, что в случае обнаружения обвиняемого, находящегося в розыске, он может быть задержан в порядке, установленном главой 12 УПК РФ. Представляется, что данная ситуация также должна полностью охватываться объективной стороной незаконного задержания. 2. В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 108 УК РФ судья при рассмотрении ходатайства о заключении лица под стражу может продлить его задержание на срок не более 72 часов «...по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу». Такое продление срока задержания допускается при условии признания судом «первичного» задержания законным и обоснованным, в противном случае, когда судья продлевает срок заведомо для него незаконного задержания, уместен вопрос о возможности квалификации действий судьи по ч. 1 ст. 301 УК РФ. В таком же порядке задержание может быть продлено исходя из п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» [4]. Если участие защитника является обязательным (ст. 51 УПК РФ), а приглашенный подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем либо другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого защитник, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, то дознаватель или следователь принимает меры по назначению защитника (ч. 3 ст. 16, ч. 4 ст. 50 УПК РФ). Судья в этих целях выносит постановление о продлении срока задержания. 3. В отношении задержанного подозреваемого или обвиняемого срок задержания, если оно будет признано законным и обоснованным, может быть продлен судом до внесения залога, но не более 72 часов с момента вынесения судебного решения (ч. 7 ст. 106 УПК РФ). Учитывая наличие необходимого правового регулирования, реальной потребности в правоприменительной деятельности продления судом задержания [5. С. 6770], интенсивность принуждения, состоящего в лишении свободы подозреваемого, обвиняемого до 72 часов, возникает вопрос о том, охватывает ли существующая редакция ч. 1 ст. 301 УК РФ, предусматривающая ответственность за заведомо незаконное задержание, принятие судьей заведомо незаконного решения о его продлении. Распространение ч. 1 ст. 301 УК РФ и на заведомо незаконное «продление задержания» подозреваемого или обвиняемого до 72 часов, с учетом предъявляемого к уголовно-правовой норме требования ее формальной определенности, вряд ли будет согласовываться с принципом недопустимости применения уголовного закона по аналогии. Поэтому считаем возможным дополнить ч. 1 ст. 301 УК РФ запретом на заведомо незаконное продление задержания. Отдельные исследователи предлагают «сделать диспозицию статьи описательной, указав признаки содержащихся в ней деяний, а также определить виды заведомо незаконного задержания, влекущего уголовную ответственность» [6. С. 87], «дополнить диспозицию ч. 1 ст. 301 УК РФ ответственностью за незаконное административное задержание» [7. С. 142; 8. С. 147]. Заметим, что срок административного задержания может быть не только кратковременным, составляя три часа (ч. 1 ст. 27.5. КоАП РФ), а в отдельных случаях длиться и 48 часов (ч. 3 и 4 ст. 27.5. КоАП РФ), что соизмеримо с уголовно-процессуальным задержанием. Между тем важно учитывать место ст. 301 УК РФ в группе норм, охраняющих общественные отношения, развивающиеся исключительно в сфере уголовного судопроизводства: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или заведомо незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ), незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ), принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Исключение составляет ч. 1 ст. 303 УК РФ, но и она подтверждает общее правило, так как в ней законодатель прямо указал на «изъятия» в виде доказательств по гражданскому, административному делу и делу об административном правонарушении. Все другие части ст. 303 УК РФ охраняют «чистоту» доказывания по уголовным делам и документирования результатов оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в связи с совершением преступлений. Повышенная степень опасности заведомо незаконного задержания подозреваемого, в сравнении с задержанием административным, обусловливается особым «контекстом» нарушения права личности на свободу и неприкосновенность в сфере уголовного судопроизводства. Задержание подозреваемого в совершении преступления проводится в ходе осуществляемой стороной обвинения деятельности, направленной на его изобличение и привлечение к уголовной ответственности. Потенциал нарушения законных прав и интересов личности незаконным уголовным преследованием, а возможно, и осуждением, несравнимо больший, чем в случае незаконного административного задержания. Показательна и оценка судами вреда, причиняемого потерпевшему от незаконного административного задержания. В апелляционном определении Московского городского суда по гражданскому иску лица, незаконно задержанного в связи с совершением мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), как выяснилось впоследствии, тоже недоказанным, указывается: «... судебная коллегия находит заявленный истцом ко взысканию размер компенсации морального вреда в размере 1 000 000 руб., завышенным, необоснованным и несоразмерным последствиям происшествия и тем моральным страданиям, которые он переживал. Учитывая фактические обстоятельства дела, характер нарушенных прав истца в результате возбуждения должностным лицом без достаточных оснований дела об административном правонарушении, применения мер обеспечения административного производства в виде доставления и задержания, их продолжительность, негативные последствия, конкретные обстоятельства дела, судебная коллегия приходит к выводу о том, что с Российской Федерации в лице МВД РФ за счет средств казны РФ в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 3 000 руб.» [9]. Отметим, что при оценке данной суммы следует учитывать не только факт незаконного задержания, но и необоснованного привлечения к административной ответственности. Безусловно, что государство должно реагировать на подобные незаконные действия посредством мер административного, гражданско-правового и дисциплинарного воздействия. Рецидив может предполагать и уголовную ответственность, используя институт административной преюдиции. Повышение эффективности уголовно-правовой охраны конституционного права на свободу и личную неприкосновенность возможно при условии обращения не только к УПК РФ, но и к иным нормативным основаниям его допустимого ограничения, а также механизму возможных посягательств со стороны должностных лиц правоохранительных органов и судей. Так, Уголовно-исполнительный кодекс РФ предусматривает возможность задержания осужденных, злостно уклоняющихся от исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. Подобная мера принуждения применяется к осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ (ч. 2 ст. 30 УИК РФ), от оплаты штрафа (ч. 4 ст. 32 УИК РФ), скрывшимся с места жительства осужденным к исправительным работам (ч. 4 ст. 46 УИК РФ), к ограничению свободы (ч. 6 ст. 58 УИК РФ), уклонившимся от получения предписания или не прибывшим к месту отбывания принудительных работ в установленный срок (ч. 4 ст. 60.2 УИК РФ) или уклоняющимся от отбывания принудительных работ (ч. 2 ст. 60.17 УИК РФ). До 48 часов, а в случае продления судом до 30 суток может быть задержан осужденный, уклоняющийся от получения предписания для следования в колонию-поселение или не прибывший к месту отбывания наказания в установленный срок (ч. 6 ст. 75.1 УИК РФ), а также не прибывший в двухнедельный срок со дня его освобождения из исправительного учреждения в уголовно-исполнительную инспекцию или скрывшийся от контроля после постановки его на учет (ч. 9 ст. 178.1 УИК РФ). Порядок задержания осужденного, уклоняющегося от возвращения в установленный срок в исправительное учреждение, отличается от остальных видов задержания, предусмотренных в УИК РФ. При уклонении осужденного он подлежит задержанию органом внутренних дел по месту его пребывания с санкции прокурора на срок не более 30 суток (ч. 11 ст. 97 УИК РФ). Обращает на себя внимание срок задержания, который продляется не судом, а прокурором. В современной юридической литературе проблемы задержания осужденных активно обсуждаются [10. С. 89-91; 11. С. 61-67; 12. С. 113-117; 13. С. 15-22], но они не касаются вопроса о целесообразности установления в ч. 1 ст. 301 УК РФ ответственности за заведомо незаконное задержание осужденного и его продление. При поиске резервов повышения эффективности уголовно-правовой охраны свободы личности в сфере осуществляемой государством правоохранительной функции следует учитывать устоявшуюся правовую позицию Конституционного Суда РФ, в соответствии с которой «... принадлежащее каждому от рождения право на свободу и личную неприкосновенность, воплощая наиболее значимое социальное благо, предопределяет - исходя из признания государством достоинства личности - недопустимость произвольного вмешательства в сферу ее автономии и включает, в частности, право не подвергаться ограничениям, которые связаны с применением задержания, ареста, заключения под стражу или с лишением свободы во всех иных формах, без предусмотренных законом оснований и вне надлежащей процедуры, а также сверх установленных либо контролируемых сроков» [14]. Потенциальные угрозы неприкосновенности личности возможны при задержании осужденных и его продлении. Более того, правовое регулирование данного института осуществляется и в уголовно-процессуальном законе, в частности в ч. 4.1 ст. 396, п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ. Это свидетельствует о возникновении не только уголовно-исполнительных, но и уголовно-процессуальных правоотношениях, которые и охраняются главой 31 УК РФ «Преступления против правосудия». На тесную связь уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права обращают внимание М.К. Свиридов [15. С. 83-85] и В.А. Уткин [16. С. 40]. Вопросы охраны свободы личности, вовлеченной в сферу уголовной репрессии, возникают и в связи с заключением под стражу осужденного. Пункт 18 ст. 397 УПК РФ предусматривает заключение под стражу осужденного, который скрылся в целя уклонения от отбывания наказания (штрафа, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы), либо осужденного к принудительным работам, уклонившегося от получения предписания, предусмотренного ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ, или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, до рассмотрения вопроса, указанного в п. 2 или 2.1 ст. 397 УПК РФ, но не более чем на 30 суток. В процессе производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, также может быть заключен под стражу (п. 18.1 ст. 397 УПК РФ) осужденный к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, уклонившийся от получения предписания, предусмотренного ч. 1 ст. 75.1 УИК РФ, или не прибывший к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, но не более чем на 30 суток, а также о направлении его в колонию-поселение под конвоем (ст. 75 и 76 УИК) либо о рассмотрении вопроса, указанного в п. 3 ст. 397 УПК РФ. Доктринальные исследования, посвященные заключению под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, интенсивно продолжаются [17. С. 135-193; 18. С. 124-160]. В 2018 г. на данные вопросы, обобщив практику применения, обратил внимание Верховный Суд РФ [19; 20. С. 44-49]. Не вдаваясь в научную полемику по поводу специфики нормативного регулирования заключения под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, его целей, оснований, конкуренции и взаимодействия норм УПК и УИК, отметим, что в последние годы отмечается тенденция увеличения поступающих в суд материалов о заключении осужденных под стражу [20. С. 4849]. Согласно данным судебной статистики в первой половине 2020 г. суды рассмотрели 3 767 материалов в соответствии с п. 18, 18.1 ст. 397 УПК РФ. Из них 3 494 осужденных взято под стражу, 171 осужденный оставлен на свободе, 102 материала прекращено, отозвано, возвращено, передано по подсудности [21]. Безусловно, нормальное развитие правоотношений, складывающееся в связи с исполнением приговора, должно быть обеспечено возможностью применения в необходимых случаях мер государственного принуждения. Так, «судом первой инстанции было установлено, что в период отбывания наказания Б. было выдано предписание для трудоустройства. ***. В данную организацию он был трудоустроен 23 января 2018 г., где отработав 1 день, не вышел на работу, совершив прогул, после чего был уволен. В дальнейшем Бирюков неоднократно предупреждался о замене назначенного судом наказания на более строгий вид наказания в связи со злостным уклонением от отбывания наказания в виде исправительных работ. Однако осужденный Бирюков продолжил уклоняться от отбывания наказания, в дальнейшем скрылся от УИИ, в связи с чем 6 марта 2020 г. были начаты розыскные мероприятия. 23 апреля 2020 г. Бирюков объявлен в розыск. 27 мая 2020 г. Бирюков задержан сотрудниками ОМВД России по Савеловскому району г. Москвы. Учитывая, что в представленных материалах имеются достаточные данные о том, что осужденный Бирюков скрылся в целях уклонения от отбывания наказания в виде исправительных работ, по указанному им адресу не проживал, объявлен в розыск, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении представления. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что вывод суда о необходимости заключения под стражу Бирюкова на 30 суток до рассмотрения вопроса о замене ему наказания, ввиду злостного уклонения последнего от отбывания наказания в виде исправительных работ, является правильным» [22]. Практике известны и случаи необоснованных решений о заключении под стражу осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Костромским областным судом было установлено, что «в представленных материалах отсутствовали документы, свидетельствующие о том, что осужденная П. получила предписание о трудоустройстве в МКУ г. Костромы “СМЗ по ЖКХ”. Суд также не принял во внимание, что по предписанию, выданному П. для трудоустройства в МУП “Городская управляющая компания”, ей в трудоустройстве было отказано. По второму предписанию на трудоустройство от 24 сентября 2019 г. ей также было отказано в трудоустройстве в МКУ “СМЗ по ЖКХ”. При этом в материалах имеются два предупреждения, вынесенные 16 и 20 сентября 2019 г., о возможной замене наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания, свидетельствующие, что она не скрывалась. Таким образом, обоснованность объявления розыска осужденной не была подтверждена представленными материалами. Кроме того, при рассмотрении представления судом первой инстанции не были учтены данные о личности осужденной, которая 29 апреля 2020 г. родила ребенка и на момент задержания находилась с ним в ОГБУЗ “Костромская областная детская больница”» [23]. Особенности отношений, развивающихся в сфере применения комментируемой меры принуждения, актуализирует задачу уточнения содержания уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за заведомо незаконное заключение под стражу и содержание под стражей (ч. 2 ст. 301 УК РФ). В исследуемом аспекте важно дать юридическую оценку ситуации, когда судья не осознает незаконности заключения осужденного под стражу на срок до 30 суток, а представленные в суд материалы, якобы свидетельствующие о злостном уклонении от отбывания наказания, сфальсифицированы сотрудником ФСИН. В таком случае действия последнего содержат признаки служебного подлога (ст. 292 УК РФ), который выражается в подделке документа, удостоверяющего «... факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей» [24]. Если судья на основании сфальсифицированных материалов о якобы имевшем место злостном уклонении осужденного от отбывания наказания заключил его под стражу, действия виновного сотрудника ФСИН следует квалифицировать как служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав гражданина (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Еще один пример из судебной практики, свидетельствующий о нарушениях права осужденного на свободу при исполнении наказания: «М. обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором просил признать незаконными решение (ответ на заявление) от 29.12.2015 г. № М-24 начальника ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Нижегородской области И., бездействие данного должностного лица, выразившееся в не-освобождении его после 29.12.2015 г. из СИЗО № 1 ГУ ФСИН России по Нижегородской области. Свои требования М. мотивировал тем, что 27.06.2012 г. приговором Дзержинского городского суда Нижегородской области он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года. По мнению М., он не был в установленном законом порядке направлен сотрудниками ГУ ФСИН России по Нижегородской области к месту для отбытия наказания. 29 декабря 2015 г. начальник СИЗО № 1 ГУ ФСИН РОССИИ по Нижегородской области И, бездействуя, не освободил М., у которого в указанный день окончился срок ареста, установленный судом в постановлении от 30.11.2015 г. В ответе на письменное обращение М. от 29.12.2015 г. № М-24, начальник СИЗО № 1 ГУ ФСИН РОССИИ по Нижегородской области И. сообщил, что М. в настоящее время не содержится под стражей, а отбывает наказание. Данное решение от 29.12.2015 г № М-24 и бездействие начальника СИЗО № 1 ГУ ФСИН РОССИИ по Нижегородской области И., выразившиеся в неосво-бождении М. из СИЗО № 1, по мнению М., не соответствуют закону и нарушают его конституционное право на свободу, поскольку после 29.12.2015 г. он содержался под стражей незаконно.» [25]. Сложно согласиться с И.А. Гааг, которая пишет, что «существующее законодательное определение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 301 УК РФ, позволяет сделать вывод об отсутствии описания в диспозиции указанной статьи всех необходимых и достаточных признаков деяния, за которое виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности» [26. С. 71]. Формулирование запрета на заведомо незаконное заключение под стражу или содержание под стражей с использованием общих, но достаточно определенных, исключающих двусмысленное толкование признаков позволяют распространять его действие и на посягательства, совершаемые и при исполнении наказания. Считаем, что в случае заведомо незаконного заключения под стражу или содержания под стражей осужденного действия виновного должны быть квалифицированы по ч. 2 ст. 301 УК РФ. Если незаконное помещение осужденного под стражу было совершено по неосторожности, то деяние должностного лица при наличии существенного нарушения прав потерпевшего, выразившегося в продолжительном лишении свободы, а также при бесспорном отсутствии оснований для заключения под стражу, следует квалифицировать как халатность. В завершение нельзя не остановиться еще на одной проблеме. В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания его под стражей до судебного разбирательства из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей. Кроме того, в срок содержания под стражей засчитывается запрет выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором подозреваемый, обвиняемый проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ) из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей. Признание законодателем единой природы содержания под стражей, домашнего ареста и запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, свидетельствует об однородном ограничивающем свободу человека характере данных мер пресечения. На то, что «меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста имеют схожую правовую природу», обратил внимание Костромской районный суд Костромской области, предлагая Конституционному Суду РФ проверить на предмет соответствия Конституции РФ «часть пятую статьи 72 УК Российской Федерации, как не предусматривающую, в нарушение конституционного положения о равенстве граждан перед законом и судом, возможность учета времени нахождения лица под домашним арестом до вынесения приговора при назначении ему основного наказания в виде штрафа» [27]. Между тем различная степень посягательства на свободу личности при незаконном заключении под стражу и домашнем аресте, а также прямое запрещение в ч. 2 ст. 301 УК РФ именно заведомо незаконного заключения под стражу не позволяют сделать категоричный вывод о применении данной нормы к судье, заведомо незаконно применившему к обвиняемому запрет, предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК, или домашний арест. Злободневности проблеме добавляет актуализируемая В.А. Уткиным перспектива применения «домашнего ареста как меры пресечения, при исполнении обязательных работ как административного наказания и т.п.» [16. С. 39]. Применительно к перечисленным ситуациям вопрос о достижении возможными соответствующими посягательствами на свободу личности криминальной степени общественной опасности ранее в юридической науке не ставился. А между тем его разрешение является актуальным и в случае положительного ответа может служить основанием для внесения изменений в ч. 2 ст. 301 УК РФ. Несколько иначе видится проблема о принудительном нахождении лица в медицинских организациях, оказывающих медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, в которые помещаются подозреваемый или обвиняемый, содержащейся под стражей, для производства судебной экспертизы (ст. 203 УПК РФ) или для решения вопроса о переводе лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ч. 1 ст. 435 УПК РФ). Фактически имеются предпосылки к тому, что незаконные действия органов расследования и суда в этой части должны охватываться ч. 2 ст. 301 УК РФ. Помещение для производства судебной экспертизы происходит в процессе исполнения меры пресечения - содержания под стражей. Решение о переводе лица, содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, осуществляется судом в порядке, предусмотренном ст. 108 УПК РФ. Те же действия, не связанные с содержанием под стражей подозреваемого, обвиняемого и лица, которое переводится в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, производятся на основании решения суда в соответствии со ст. 165 УПК РФ. Необходимость применения уголовно-правового запрета в отношении должностных лиц органов предварительно расследования и суда нуждаются в доктринальном изучении и обсуждении. В Определении Конституционного Суда РФ от 29.10.2020 № 2592-О «По жалобе гражданина Ремизова Константина Валентиновича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 39, частями шестой и седьмой статьи 109, частью четвертой статьи 217 и частью первой статьи 219 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» отмечается, что, «будучи госпитализированным в психиатрический стационар в недобровольном порядке, лицо принудительно пребывает в ограниченном пространстве, изолировано от общества и семьи, не может выполнять свои служебные обязанности и не в состоянии свободно передвигаться и общаться с неограниченным кругом лиц» [28], это означает лишение личной свободы лица не в результате осуждения за совершение преступления.
Куликов А.В., Чобанов Г.А. Причины и условия, способствующие совершению заведомо незаконного задержания // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9, № 5А. С. 26-35.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учеб. для вузов / под ред. проф. М.В. Бавсуна. Омск : Омск. академия МВД России, 2020. 768 с.
Авдеева Е.В. Неприкосновенность личности в уголовном судопроизводстве // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 3 (3). С. 14-19.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» // СПС КонсультантПлюс.
Булатов Б.Б., Дежнев А.С. Проблемы регулирования и применения органами расследования мер уголовно-процессуального принужде ния. Ч. 1 // Законодательство и практика. 2020. № 1. С. 67- 70.
Баисалуева Э.Ф. Незаконность задержания как основание привлечения к ответственности по части 1 статьи 301 УК РФ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 4. С. 83-87.
Махнева А.Д. Незаконное задержание, заключение под стражу, содержание под стражей // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 4. С. 136-144.
Чобанов Г. А. Совершенствование мер предупреждения незаконного задержания // Вестник Калининградского филиала Санкт- Петербургского университета МВД России. 2019. № 1. С. 147-151.
Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2020 по делу № 2-4286/2020, 33-34637/2020 // СПС КонсультантПлюс.
Николюк В. В. Задержание осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания // Уголовный процесс. 2020. № 10. С. 63-70.
Трухин С.А. Задержание осужденного, который уклоняется от наказания: кому и как оформлять // Уголовный процесс. 2020. № 6. С. 61-67.
Антонов Т. Проблемы правового регулирования задержания осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания // Уголовноисполнительное право. 2020. № 1. С. 113-117.
Булатов Б.Б. Законодательная конструкция задержания осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания наказания, и его правовая природа // Проблемы предварительного следствия и дознания : сб. науч. трудов № 29 : по материалам междунар. науч.-практ. конф. «Принуждение в уголовном процессе: современные проблемы и тенденции» (г. Москва, 5-6 декабря 2019 г.). М. : ФГКУ «ВНИИ МВД РОССИИ», 2020. С. 15-22.
Определение Конституционного Суда РФ от 29.10.2020 № 2592-О // СПС КонсультантПлюс.
Свиридов М.К. Отраслевая принадлежность норм, регулирующих судебную деятельность по исполнению приговора // Вестник Томского государственного университета. Право. 2020. № 36. С. 83-91.
Уткин В. А. Уголовно-исполнительная деятельность и предмет уголовно-исполнительного права // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2. С. 39-43.
Николюк В.В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и проблемы практического применения. Орел : ЮрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2015. 235 с.
Заключение и под стражу и его альтернативы в уголовном судопроизводстве / кол. авт. ; науч. ред. О.В. Качалова. М. : РУСАЙНС, 2019. 171 с.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора», дополненных Постановлением Пленума ВС РФ от 18 декабря 2018 г. № 43 «О внесении изменений в постановление Пленума от 22 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» и от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (пп. 21.1-24.4).
Николюк В.В. Заключение под стражу осужденного, скрывавшегося в целях уклонения от отбывания наказания: новые правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации // Проблемы предварительного следствия и дознания : сб. науч. трудов № 29 : по материалам междунар. науч.-практ. конф. «Принуждение в уголовном процессе: современные проблемы и тенденции» (г. Москва, 5-6 декабря 2019 г.). М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2020. С. 44-49.
Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел за первое полугодие 2020 г. Форма № 1. Раздел 4 // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: www.cdep.ru (дата обращения: 21.03.2021).
Апелляционное постановление Московского городского суда от 22.06.2020 по делу № 10-11298/2020 // СПС КонсультантПлюс.
Справка Костромского областного суда от 29.07.2020 «О результатах обобщения апелляционной практики рассмотрения судами Костромской области уголовных дел за первое полугодие 2020 года» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // СПС КонсультантПлюс.
Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 20.09.2017 по делу № 33а-10836/2017 // СПС КонсультантПлюс.
Гааг И.А. Критерии незаконности заключения под стражу (ч. 2 ст. 301 УК РФ) // Социогуманитарный вестник. 2016. № 1. С. 71-76.
Определение Конституционного Суда РФ от 12.03.2021 № 377-О // СПС КонсультантПлюс.
Определение Конституционного Суда РФ от 29.10.2020 № 2592-О // СПС КонсультантПлюс.
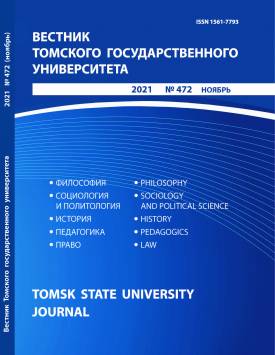

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью