Проведен анализ гражданско-правового регулирования оборота биоматериалов и генетических данных по законодательству Российской Федерации. Сделан вывод о том, что биоматериал является ограниченным в обороте объектом гражданских прав, использование которого должно осуществляться с учетом предварительного информационного согласия его донора. Генетическую информацию, извлекаемую из биоматериала, предложено подразделять на два вида: генетические сведения и генетические данные. Установлено, что каждый из представленных видов информации обладает отличным друг от друга правовым режимом.
Biological Materials and Genetic Data Circulation: Civil Law Regulation.pdf Последние достижения в области технологий значительно повысили точность генетического тестирования и существенно снизили его стоимость, что привело к резкому увеличению объема генетических данных, генерируемых, анализируемых, совместно используемых и хранимых различными субъектами. Учитывая разнообразие таких субъектов, права и законные интересы доноров (субъектов, у которых генетические данные были получены), особую актуальность с точки зрения развития российского законодательства приобретает вопрос гражданско-правового регулирования оборота генетических данных. Категория «гражданский оборот» является одной из наиболее общих и весьма распространенных в гражданском праве. В частности, данная категория неоднократно применяется в ГК РФ (ст. 5, 129, п. 3 ст. 129, ст. 357, п. 1 ст. 401 и др.), а также достаточно широко используется цивилистической наукой. Вместе с тем в условиях отсутствия легальной дефиниции спектр мнений исследователей относительно понятия и содержания рассматриваемой категории чрезвычайно разнообразен. Интерес представляют две основные концепции: сторонники первой концепции [1. С. 110; 2. С. 71] предлагают рассматривать гражданский оборот как «совокупность юридических фактов», сторонники второй [3. С. 17-20; 4. С. 35] - как «совокупность правоотношений». Не имея возможности в рамках настоящей статьи провести детальный анализ перечисленных концепций, отметим следующее. С одной стороны, определять гражданский оборот через категорию правоотношений не вполне точно, потому что прежде чем возникнут правовые связи, им предшествует активная деятельность субъектов права. Соответственно, рассуждать о гражданском обороте без акцента на его волевом и целенаправленном характере видится бессмысленным. С другой стороны, неверно исключать из гражданского оборота правоотношения, поскольку результат оборота зависит и от самого обязательства. Учитывая сказанное, представляется логичным в качестве базового подхода придерживаться подхода Е. А. Суханова, в соответствии с которым гражданский оборот представляет собой совокупность сделок всех его участников и возникающих на этой основе обязательственных отношений, юридически оформляющих экономические отношения товарообмена [5. С. 48]. При этом следует отметить, что гражданский оборот не исчерпывается гражданско-правовыми сделками. В юридической литературе не нашлось существенных причин для «узкого» понимания гражданского оборота. В связи с чем гражданский оборот составляют не только гражданско-правовые сделки, но и иные юридические факты, например, такие как административные акты и судебные решения. Кроме этого, гражданский оборот не ограничивается отношениями по переходу права собственности, он также включает в себя переход иных прав. Прежде чем начать исследование гражданско-правового регулирования оборота генетических данных, представляется необходимым изучить оборот биологических материалов (далее - биоматериалов): генетические данные находятся в тесной взаимосвязи с ними. Согласно п. 9 ст. 2 ФЗ от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», биологический материал определяется как биологические жидкости, ткани, клетки, секреты и продукты жизнедеятельности человека, физиологические и патологические выделения, мазки, соскобы, смывы, биопсийный материал. Донором биологического материала является человек, который при жизни предоставил биологический материал, или человек, у которого биологический материал получен после его смерти, констатированной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Анализ норм российского гражданского законодательства позволяет сделать вывод о том, что биоматериалы (безусловно, после отделения их от организма человека) относятся к таким объектам прав, как вещи. При этом такое отнесение в отечественной юридической литературе в целом никем не оспаривается [6. С. 13-20; 7. С. 35-40; 8. С. 29-31; 9. С. 115]. Кроме этого, биоматериалы признаются российским законодателем свободными в обороте вещами. Ограничения в обороте очевидны для биоматериалов в сфере трансплантологии (п. 1 Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»), а также биоматериалов, используемых в целях, установленных ФЗ от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» (п. 3 ст. 3), в то время как для других органов, костей, тканей человека и продуктов жизнедеятельности таких ограничений нет. Как представляется, сложившийся в отечественном законодательстве поход к гражданско-правовому регулированию оборота биоматериалов не отвечает правам и законным интересам их доноров, поскольку он не учитывает сущностную особенность биоматериалов. Дело в том, что биоматериалы используются медицинскими организациями и научными лабораториями не по прямому значению как вещи, а как источники (средство передачи) информации [10. С. 5465]. Так, исследование образца крови из вены позволяет получить достаточно подробную и точную информацию о состоянии организма и дает возможность диагностировать многие заболевания. На основе биохимического анализа крови можно выделить ее основные биологические показатели и выявить патологические процессы в печени, сердце, почках, сосудах, онкологические заболевания. Учитывая сказанное, биоматериал представляется необходимым рассматривать в двух аспектах: как вещь и источник (средство передачи) информации. Взаимосвязь между данными аспектами можно определить через такие философские категории, как содержание и форма. Как принято считать в философии, «содержание, будучи определяющей стороной целого, есть единство всех составляющих элементов объекта , а форма есть способ существования и выражения содержания» [11. С. 595]. Биоматериал как вещь отражает внутреннее состояние здоровья человека (как текущее, так и возможное будущее), а информация, получаемая из биоматериала, делает его доступным для восприятия субъектов. При этом специфика данной информации заключается в том, что она всегда является результатом деятельности специального субъекта по ее получению, обработке и анализу (например, научно-исследовательского института, медицинского учреждения) . Иными словами, такая информация подвергается определенной обработке, в том числе с помощью средств вычислительной техники. Если информация является генетической, то она довольно часто подлежит анонимизации (обезличиванию). Анонимизация информации осуществляется, как правило, с целью обеспечения возможности доступа к ней третьим лицам, например для проведения научных исследований. В то же время не исключается возможность реидентификации соответствующей информации, т.е. обратное установление связи с конкретным лицом. И тогда эта информация может быть использована для идентификации субъекта, из биологических материалов которого она была получена. Для того чтобы отграничить анализируемые виды информации друг от друга, предлагается генетическую информацию, извлекаемую из биоматериалов, подразделять на два вида: генетические сведения и генетические данные. Генетические сведения представляют собой персонифицированную генетическую (геномную) информацию (сведения), поскольку имеют индивидуальный, персональный характер как относящиеся прямо или косвенно к определенному или определяемому лицу. Генетические данные - это не-персонифицированные (анонимизированные) генетические данные, которые характеризуются формализованным видом, часто содержатся в информационной системе и в связи с этим - систематизированы. Обладателем таких данных выступает специальный субъект - как правило, создатель данных [12. С. 110-122; 13. С. 39-42]. Стоит отметить, что представленная классификация генетической информации имеет весьма условный характер, поскольку в зависимости от воли таких субъектов, как доноры и создатели генетических данных, генетическая информация может переходить из статуса «генетические сведения» в статус «генетические данные» и наоборот. Правовое значение приведенной классификации заключается в том, что поскольку генетические сведения содержат сведения личного характера, то на них должны распространяться правовые режимы тайны частной жизни и персональных данных. Кроме этого, соответствующие правовые режимы тайн должны также распространяться на биоматериалы, поскольку они являются источниками таких сведений [10. С. 54-65]. Принимая во внимание выделенную сущностную особенность биоматериалов, в законодательстве ЕС получил распространение такой механизм обеспечения неприкосновенности частной жизни и соблюдения режима конфиденциальности персональных данных, как предварительное информационное согласие донора на использование его биоматериалов и содержащейся в них информации. Данное согласие, как справедливо отмечает В. А. Трубина, в настоящее время является универсальным и зачастую основным инструментом регулирования различных по своей природе отношений, возникающих в сфере биомедицины при оказании медицинской помощи, проведении научных исследований, применении репродуктивных технологий, проведении генетических тестов, донорстве, трансплантации, использовании биоматериалов и обработке содержащихся в них генетических и иных данных в медицинских, научных, производственных и иных целях [9. С. 5]. Учитывая изложенное, становится очевидным то обстоятельство, что биоматериалы являются ограниченными в обороте объектами гражданских прав, а оставление российским законодателем без внимания их информационной составляющей неминуемо ставит под угрозу нарушения права и охраняемые законом интересы их доноров. Для того чтобы не допустить этого, представляется необходимым распространить правовой режим тайны частной жизни и персональных данных и на биоматериалы. Говоря о генетических данных, следует указать на то, что такие данные, по причине их анононимизиро-ванности, не считаются персональными и на них не должно распространяться требования законодательства о персональных данных. Как справедливо отмечает М. А. Рожкова, «когда персональные данные множества субъектов обезличиваются, - такие данные, отрываясь от субъектов информации, “очищаются” и от субъективных прав на них» [14]. С тем, что на анонимизированные данные не распространяется законодательство о персональных данных, соглашается и законодатель ЕС (см. Регламент № 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС и Конвенции № 108» и Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (заключена в г. Страсбурге 28.01.1981)». Таким образом, генетические данные могут использоваться субъектами, прежде всего создателями таких данных, без каких-либо ограничений. В свою очередь, данный вывод порождает другие вопросы: «Являются ли генетические данные объектами гражданских прав? Если ответ на этот вопрос положительный, то являются ли генетические данные свободными или ограниченными в обороте объектами гражданских прав?». В юридической литературе ведется дискуссия относительно того, может ли в принципе информация, прежде всего, данные (массивы данных), признаваться объектом гражданских прав [15. С. 60-92]. Не вдаваясь в глубокую полемику по данному вопросу, стоит согласиться с мнением М. А. Рожковой о том, что «данные по причине их экономической ценности могут рассматриваться в качестве объекта гражданских прав, однако в силу своих естественных свойств -свойства нематериальности - они не могут становиться объектами гражданского оборота. Как и в случае с результатами интеллектуальной деятельности и маркетинговыми обозначениями, свойством оборотоспособности будут обладать лишь права на них» [14]. При этом, говоря о правах, ученый полагает, что следует выделять новый вид абсолютного имущественного права на данные наряду с уже известными гражданско-правовой науке абсолютными правами: вещными правами и исключительным правом. Как пишет М. А. Рожкова, «имущественные права на такие объекты не втискиваются ни в одну из разработанных в доктрине разновидностей правоотношений. Имея абсолютную природу, права на рассматриваемые (нематериальные) объекты не могут быть отнесены ни к категории вещных прав, ни к категории интеллектуальной собственности. Искусственное же причисление отношений по поводу исследуемых объектов к числу относительных правоотношений представляется довольно проблематичным и вполне способно привести к созданию неадекватного и неэффективного правового регулирования» (см. подробнее: [16]). Содержание выделяемого нового абсолютного имущественного права составляют три правомочия: 1) обладание абсолютным правом на данные; 2) использование данных; 3) распоряжение абсолютным правом на данные (см. подробнее: [16]). Исходя из сказанного, следует признать, что генетические данные являются объектом гражданских прав: они обладают экономической ценностью и могут быть использованы не только в научных, медицинских, но и в производственных целях, например для производства какого-либо лекарства. Однако поскольку такие данные лишены материальной природы (они существуют в цифровой (электронной) форме), поэтому они не могут стать объектами гражданского оборота. Объектами такого оборота являются абсолютные имущественные права на них. В свою очередь, проведенное в рамках настоящей статьи исследование позволяет сделать следующие выводы: 1. С позиции российского гражданского законодательства биоматериалы являются свободными в обороте объектами гражданского права (исключение составляют биоматериалы, используемые в сфере трансплантологии и в целях, установленных № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах»). Однако такой подход не учитывает сущностную особенность биоматериалов. Биоматериалы являются источниками (средством передачи) генетической информации, имеющей личный, персональный характер. По этой причине на них должны распространяться правовые режимы тайны частной жизни и персональных данных, а на их использование должно даваться предварительное информационное согласие их доноров. Предложенное правовое регулирование общественных отношений, возникающих по поводу биоматериалов, позволит ограничить их оборот, а значит - защитить права и законные интересы их доноров. 2. Генетическую информацию, извлекаемую из биоматериалов, предлагается условно подразделять на два вида: генетические сведения и генетические данные. Правовое значение данной классификации заключается в том, что она позволит учесть особенности правового режима каждого из выделенного вида генетической информации, в том числе их оборотоспособность. Поскольку генетические сведения содержат сведения личного характера, то на них должны распространяться правовые режимы тайны частной жизни и персональных данных. В связи с чем какое-либо использование таких сведений должно осуществляться только с предварительного информационного согласия их донора. Генетические данные по причине обезличенности не подпадают под правовой режим тайны частной жизни и не считаются персональными. Генетические данные в силу своей нематериальной природы являются, как и результаты интеллектуальной деятельности, и маркетинговые обозначения, изъятыми из оборота объектами гражданского права, однако оборотоспособными являются абсолютные имущественные права на них.
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995.
Братусь С.Н. О понятии гражданского оборота в советском гражданском праве. Доклад на заседании сектора гражданского права ВИЮН // Советское государство и право. 1949. № 11.
Красавчиков О.А. Советский гражданский оборот (понятие и основные звенья) // Вопросы гражданского, трудового права и гражданско го процесса // Ученые записки СЮИ. Т. 5. М. : Госюриздат, 1957.
Эбзеев Б.Б. Гражданский оборот: понятие и юридическая природа // Государство и право. 1999. № 2.
Гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. Т. 1.
Малеина М.Н. Статус органов, тканей, тела человека как объектов права собственности и права на физическую неприкосновенность // Законодательство. 2003. № 11.
Мызров С.Н., Нагорный В.А. К вопросу о вещно-правовом статусе органов и тканей человека: дифференцированный подход к разрешению проблемы // Медицинское право. 2014. № 3.
Мохов А.А. Правовой режим биомедицинских клеточных продуктов как объектов гражданских прав // Гражданское право. 2017. № 3.
Трубина В. А. Ткани и органы человека как объекты гражданских прав : дис.. канд. юрид. наук. М., 2020.
Имекова М.П. Биобанк как объект прав // Журнал российского права. 2020. № 12.
Философский энциклопедический словарь / под ред. С.С. Аверинцева, Э.А. Араб-оглы, Л.Ф. Ильевичева. М., 1989.
Болтанова Е.С., Имекова М.П. Генетическая информация в системе объектов гражданских прав // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 6.
Крюкова Е.С., Рузанова В.Д. Правовое регулирование деятельности биобанков в России // Гражданское право. 2020. № 6.
Рожкова М.А. Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных прав (часть третья - права на сведения и данные как разновидности информации) // Закон.ру. 2019. 14 января. URL: https://zakon.ru/blog/2019/1/14/ob_imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_chast_tretya__prava_na_(дата обращения: 30.09.2021).
Савельев А.И. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота данных в условиях попыток формирования цифровой экономики // Вестник гражданского права. 2020. № 1.
Рожкова М.А. Информация как объект гражданских прав, или Что надо менять в гражданском праве // Закон.ру. 2018. 6 ноября. URL: https://zakon.ru/blog/2018/1 1/06/informaciya_kak_obekt_grazhdanskih_prav_ili_chto_nado_menyat_v_grazhdanskom_prave (дата обращения: 30.09.2021).
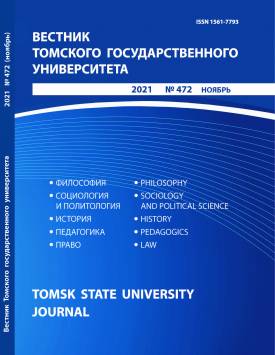

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью