Дифференциация климатипов лиственниц (Larix spp.) в географических культурах в лесостепи Средней Сибири
В географических культурах в Красноярской лесостепи Средней Сибири проведен сравнительный дисперсионный анализ климатических экотипов лиственниц разных видов по высоте деревьев, площади и протяженности (длине) кроны на выборке деревьев с одинаковыми характеристиками по диаметру ствола. Установлено, что различия между климатическими экотипами разных видов лиственницы в географических культурах в условиях Красноярской лесостепи отмечаются как по высоте деревьев, так и по протяженности кроны по стволу и связаны с местом их происхождения. Климатипы лиственницы сибирской из горных территорий имеют низкие показатели высоты дерева и длины кроны. Самую короткую крону имеет высокогорный климатип с наименьшим гидротермическим коэффициентом места происхождения, высокие показатели длины кроны выявлены у климатипов лиственницы сибирской из котловин юга Сибири, а также представителя лиственницы Гмелина (даурской) из Амурской области. Самый северный климатип из южной тайги (мотыгинский, бассейн реки Ангары) уступает представителям лиственницы даурской по длине кроны.
Differentiation of larch (Larix spp.) climatypes in the Central Siberian forest-steppe provenance trial.pdf Введение Интерес к лиственнице в научной литературе связан со значительными различиями в таксономической дифференциации рода Larix, представители которого обладают широкими возможностями отдаленных скрещиваний, высокой экологической пластичностью, открывающей большие возможности интродукции за пределы ареала многих видов. В результате этого представители данного рода популярны при создании культур. Такой опыт имеет Дифференциация климатипов лиственниц (Larix spp.) 171 многолетнюю историю, что отразилось в создании и исследовании географических культур лиственницы в разных регионах России: в Забайкалье [1, 2], в Красноярском крае [3, 4], в Удмуртской Республике [5], в Воронежской [6], Московской областях [7, 8], в Республике Коми [9] и других регионах. Кроме того, существуют исследования разных видов лиственницы в рамках международных проектов [10, 11] и продолжаются работы по созданию испытаний происхождений лиственницы во втором десятилетии XXI в. [9]. Географические и испытательные культуры разных видов лиственницы созданы и изучаются в Швеции [12], Финляндии [13, 14], Германии, Чехии и Словакии [15], Японии [16], Канаде [17], США [18] и других странах. В целом из-за занимаемых лиственницей огромных территорий, особенно в Сибири и Забайкалье, многие климатические расы не изучены. Генетические исследования, проведенные методами аллозимного анализа популяций лиственницы сибирской [19], представляющих широкую географию - от Эвенкии до Тывы, не выявили тесной взаимосвязи между географическим положением насаждений и степенью их генетической дифференциации. Кариологические исследования лиственницы сибирской [20] показали, что этот вид довольно устойчив к антропогенным нагрузкам, что подчеркивает перспективность исследования разных происхождений лиственницы с позиций не только лесовосстановления, но и озеленения в городских условиях. Исследования, проведенные А.И. Ирошниковым [3] в созданных под его руководством географических культурах разных видов лиственниц в Красноярской лесостепи, которые стали объектом исследования в данной статье, показали, что потомство деревьев из высокогорных лиственничников (1 6002 200 м) из Саура, Южного и Центрального Алтая и Танну-Ола в 10-летнем возрасте обладают очень низкими показателями роста и устойчивости. В географических культурах лиственницы в Воронежской лесостепи отмечаются низкие показатели по сохранности потомства с Алтая [6], к 10-летнему возрасту у них отмечается полная элиминация деревьев. С улучшением условий произрастания материнских насаждений (при снижении высоты над уровнем моря) происходит постепенное повышение показателей роста и сохранности потомства. Исследования П.И. Молоткова с соавт. [21] выявили, что наиболее ценный генофонд лиственницы сибирской сосредоточен в равнинных, предгорных и низкогорных популяциях верхнеенисейско-обской и саяно-ангарской рас, так как культуры, созданные из семян из этих регионов, характеризуются наиболее высокими показателями роста и устойчивости и часто не уступают при ее интродукции в европейскую часть России лиственнице Сукачева. В настоящее время использование современного оборудования позволяет продолжать мониторинг за географическими культурами, проводить подробные инвентаризации, получать актуальные научные материалы по комплексу признаков. Цель работы - оценка межвидовых и внутривидовых различий по росту в высоту, площади и длине кроны на примере потомств разных видов ли- С.Р. Кузьмин, А.В. Рубцов, А.П. Барченков, Т.В. Карпюк 172 ственниц, представленных разными происхождениями, произрастающих в географических культурах в одинаковых условиях среды. Материалы и методики исследования Объект исследования - географические культуры лиственницы, созданные в Красноярской лесостепи на экспериментальной базе Института леса - «Погорельский бор» (56°22'06"N, 92°57'23"E) Устюгского участкового лесничества КГБУ «Емельяновское лесничество». В настоящий момент это экспериментальное хозяйство (научный стационар) «Погорельский бор» Института леса - обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН. Посадка 3-4-летних сеянцев лиственниц на экспериментальный участок (далее - географические культуры) проводилась весной 1969-1970 гг. [3]. Биологический возраст исследуемых деревьев на момент инвентаризации в 2016 г. составлял около 50 лет. Площадь участка исследуемых географических культур лиственницы - 1,5 га. В географических культурах представлены следующие виды лиственницы: л. сибирская (Larix sibirica Ledeb.), л. Гмелина (даурская) (L. gmelinii Rupr.), л. Чекановского (L. czekanowskii Szaf.), л. Каяндера (L. cajanderi Mayr), л. японская (L. leptolepis Gord.) и л. Сукачева (L. sukaczewii Dylis). Из них только представители сибирской, даурской, Чекановского и японской сохранились в достаточном количестве для использования их в данной работе (таблица). Характеристики выборки климатипов лиственницы [Selection characteristics of larch climatypes] Название климатипа (вид) rClimatype name (species)l № n Long. Lat. Alt. St5 VP St10 P H Усть-Канский (sibirica) [Ust-Kansk (sibirica)] 1 19/13 84,73 50,92 1145 1540 137 1210 286 2,4 Чемальский (sibirica) TChemal (sibirica)] 2 43/12 86,00 51,38 437 2330 173 2010 405 2,0 Онгудайский (sibirica) [Ongudai (sibirica)] 3 17/13 86,12 50,73 1050 1920 156 1580 286 1,8 Сонский (sibirica) [Son (sibirica)] 4 148/103 90,38 54,37 502 2169 158 1862 245 1,3 Шагонарский (sibirica) [Shagonar (sibirica)] 5 3/3 92,88 51,52 590 2251 161 1930 211 1,1 Манский (sibirica) [Mana (sibirica)] 6 13/9 93,63 55,68 361 1643 135 1305 443 3,4 Туранский (sibirica) [Turukhansk (sibirica)] 7 15/14 93,92 52,13 853 1841 147 1487 232 1,6 Каа-Хемский (sibirica) [Kaa-Khem (sibirica)] 8 19/9 94,58 51,70 633 2334 158 2036 179 0,9 Мотыгинский (sibirica) [Motygino (sibirica)] 9 28/24 94,70 58,18 129 1812 138 1587 286 1,8 Тандинский (sibirica) [Tanda (sibirica)] 10 11/4 94,77 51,00 1005 2079 152 1803 292 1,6 Тес-Хемский (sibirica) [Tes-Khem (sibirica)] 11 6/4 95,15 50,25 1093 2138 155 1864 159 0,9 Дифференциация климатипов лиственниц (Larix spp.) 173 Название климатипа (вид) [dimatype name (species)] № n Long. Lat. Alt. St5 VP St10 P H Шиткинско-чунский (sibirica) [Shitkino-Chuna (sibirica)] 12 9/8 98,37 56,37 219 1967 143 1692 256 1,5 Вихоревско-жигаловский (sibirica) [Vikhorevka-Zhigalovo (sibirica)] 13 9/3 101,13 56,10 354 1749 137 1420 243 1,7 Усть-Ордынский (sibirica) [Ust-Orda (sibirica)] 14 11/14 104,65 52,77 522 1859 139 1588 337 2,1 Петровск-Забайкальский (czekanowskii) [Petrovsk-Zabaikalie (czekanowskii)] 15 6/4 108,82 51,27 872 1654 131 1371 306 2,2 Тунгокоченский (gmelinii) [Tungokochen (gmelinii)] 16 11/7 115,58 53,52 848 1554 127 1266 340 2,7 Чернышевский (gmelinii) [Chernyshevsk (gmelinii)] 17 9/9 117,05 52,50 658 2121 151 1828 290 1,6 Зейский (gmelinii) [Zeya (gmelinii)] 18 18/14 127,22 53,72 221 2160 151 1963 451 2,3 Томаринский (leptolepis) [Tomari (leptolepis)] 19 17/14 142,07 47,75 123 1889 157 1481 341 2,3 Пункт испытания (Погорельский бор) [Place of trial (Pogorelsky bor)] 92,95 56,37 265 1968 149 1627 255 1,6 Примечание. № - номер климатипа; n - количество деревьев в выборке с разными диаметрами (121-160/181-220 мм), шт; Long. - долгота в десятичном формате; Lat. - широта в десятичном формате; Alt. - высота над уровнем моря, м; St5 - сумма температур > 5 °С; VP - продолжительность вегетационного периода, дни; St10 - сумма температур > 10 °С; P - сумма осадков с мая по сентябрь, мм; H - гидротермический коэффициент. [Note. № - Climatype number; n - Selection of trees with different diameters (121-160/181-220 mm), pcs.; Long. - Decimal longitude; Lat. - Decimal latitude; Alt. - Altitude, asl; St5 - Sum of temperatures > 5 °С; VP - Duration of vegetation period, days; St10 - Sum of temperatures > 10 °С; P - Precipitations May-September, mm; H - Hydrothermal coefficient]. Климатическая характеристика мест происхождения лиственниц, представленная в таблице, составлена по данным справочников по климату СССР, гидротермический коэффициент (H) рассчитан по формуле: H = КУ(0,1САТ), где R - осадки с мая по сентябрь, мм; САТ - сумма активных температур (сумма средних суточных температур за период, когда они превышали 10 °С), °С. Инвентаризация живых деревьев географических культур произведена в 2016 г. с помощью программно-инструментального ГИС комплекса «Field-Map» [22] в результате сотрудничества с отделом ГИЛ филиала «ВОСТСИБЛЕСПРОЕКТ» ФГБУ «Рослесинфорг». Комплекс состоит из набора приборов: лазерного дальномера, электронного компаса, инклинометра, GPS-приемника, планшетного компьютера, централизованно управляемых ПО ГИС «Field-Map», и позволяет решать широкий круг задач в лесной отрасли. Инвентаризация включала четыре вида измерений - положение стволов деревьев относительно центра пробной площади с известными координатами, диаметр ствола (на высоте 1,3 м) в мм, высоту деревьев и высоту нижней живой ветки кроны в метрах, из которых рассчитывался показатель протяженности (длины) кроны каждого дерева. Перед проведе- С.Р. Кузьмин, А.В. Рубцов, А.П. Барченков, Т.В. Карпюк 174 нием инвентаризации на пробной площади выполнена работа по расчистке территории от сухостойных и упавших деревьев; в сборе и анализе данных учтены только живые деревья. Общее количество деревьев лиственницы на пробной площади в итоге инвентаризации составило 1 674 шт. Величины площадей крон опытных деревьев получены в результате обработки набора данных аэрофотосъемки пробной площади с высоким пространственным разрешением, которая выполнена на малых высотах в 2016 г. с помощью квадрокоптера «DJI Phantom 3 Pro» со стандартной (RGB) камерой. Этап создания единых скомпонованных изображений (ортофотомозаик) пробной площади выполнен в фотограмметрической программе «Agisoft Photoscan» (версия 1.4.0). Из серии ортофотомозаик контуры крон деревьев оцифрованы в ГИС-программе «QGIS 2.8» методом ручного добавления полигонов в новый векторный слой, из которого рассчитаны площади крон деревьев и добавлены в базу данных инвентаризации климатипов лиственницы. Так как целью данной работы являлось установление различий между происхождениями по особенностям роста, произрастающих в одинаковых условиях среды, то в анализ не вошли потомства происхождений лиственниц, которые сохранились единично или у них не набралось необходимого количества деревьев с определенными значениями диаметров (на высоте 1,3 м) для анализа. Отбор деревьев с определенными значениями диаметров позволяет формировать выборки с максимально схожими условиями произрастания, так как мозаичный характер сохранности и образование «окон» (пустошей) на участке географических культур в результате гибели деревьев за несколько десятков лет может приводить к неравномерности в освещенности и площади питания для оставшихся живых деревьев. Из всего набора данных выбраны 19 происхождений (климатических экотипов) различных видов лиственницы для сравнительного анализа на основе непараметрического метода - дисперсионного анализа с оценкой по критерию Краскела - Уоллиса и медианного теста [23]. Использовался подход с двумя выборками деревьев с разными диаметрами - 121-160 мм (первая группа - основная, из-за большего количества деревьев, представленных в выборках, представляющих отдельные происхождения) и 181-220 мм (вторая группа) для проверки наличия зависимости от этого показателя. Число деревьев внутри каждой выборки у климатипов варьирует от 3 (ша-гонарский - единственный, у которого выборка составляет менее 4 деревьев по отдельным признакам) до 148 (сонский). Общее количество деревьев в первой группе 412 и 291 во второй. В двух случаях деревья разных происхождений объединялись в один климатип из-за близкого географического положения источников семян и небольшой выборки доступных деревьев (см. таблицу): вихоревский, шестаковский и жигаловский (вихоревско-жи-галовский) и шиткинский, тайшетский и она-чунский (шиткинско-чунский). В данной работе потомства лиственницы из различных мест происхождения при сравнительном анализе изначально не разделяются на представите- Дифференциация климатипов лиственниц (Larix spp.) 175 лей разных видов, а сравниваются между собой и названы условно климатическими экотипами. В отдельных случаях объединены только географически близкие потомства по происхождению для получения статистически значимых данных. В выводах представлен анализ полученных результатов с учетом видовой принадлежности исследуемых потомств лиственницы. Вычислены коэффициенты корреляции Пирсона между средними значениями по выборкам климатипов и характеристиками их мест происхождения, так как сравниваемые выборки соответствуют нормальному распределению согласно критерию Колмогорова - Смирнова и тесту Шапиро - Уилка. Коэффициент выбросов, применяемый для характеристики всех выборок, - 1,5. Статистическая обработка полученных данных и построение диаграмм выполнены в программе «StatSoft STATISTICA 8.0». Результаты исследования и обсуждение В результате исследований выявлено, что согласно гистограмме распределения диаметров 77% всех деревьев в географических культурах оказались в диапазоне 110-230 мм, а наиболее часто встречающееся значение диаметра - 150 мм. В первом варианте нашего анализа выбраны деревья с диаметрами 121-160 мм. В результате непараметрического дисперсионного анализа с использованием критерия Краскела - Уоллиса обнаружено, что по высоте деревьев выявлены значимые различия между климатипами как по тесту Краскела - Уоллиса (р < 0,001), так и по медианному тесту (р < 0,001). Индивидуальная изменчивость по климатипам варьирует от 5 до 17%. Далее выбранные климатипы разделялись на три группы по медианам каждой выборки. Общая совокупность значений высот деревьев соответствовала нормальному распределению. Все три группы представлены на рис. 1, за первый вариант выборки отвечает левая половина кругов. У кли-матипов в группе с наименьшими значениями высоты по медиане варьирование идет от 16,8 до 17,8 м, в средней группе - от 18,0 до 18,8 м, в группе с наибольшими значениями высоты - от 19,0 до 21,4 м. Климатипы внутри каждой группы не отличались статистически значимо друг от друга, но отмечены различия между климатипами из разных групп. Значимых корреляционных связей с характеристиками мест происхождения климатипов (см. таблицу) не выявлено. Высота над уровнем моря в местах происхождения всех климатипов в группе с наименьшими значениями высоты деревьев имеет самые высокие показатели (1 005-1 045 м) среди всех анализируемых климатипов лиственниц. Места происхождения этих климатипов (помечены на рис. 1 полностью черным цветом) расположены в юго-западной части Средней Сибири в горных и предгорных территориях Республики Алтай и Тывы. Усть-Канский климатип (№ 1) имеет наибольшее значение медианы в группе с низкой высотой деревьев (17,8 м) (рис. 2) при этом он по критерию Краскела-Уоллиса значимо (р < 0,01) меньше сонского С.Р. Кузьмин, А.В. Рубцов, А.П. Барченков, Т.В. Карпюк 176 (19,6 м), туранского (20,1 м), шиткинско-чунского (20,5 м), тунгокоченского (20,3 м) и при p-05)^зі^(а)а^г0,слз^срс^і^(3> ламанчского, oнIyдaйонoгo, шачонарского, ^инореочі^^-ча^і'нлоі^(арз^]^Оі пі^,чз)(аа^іс-зак£^^-^^і^с^^аі'зі и знйскоао Ляне. -). Встречаются и друндеотделлнвіе отличсм между климатипеми, которые не позволяют говорить о значимом влиянии такого фактора, как площадь кроны, на различие для всей группы по тесту Краскела-Уоллиса (р = 0,10). Нолен рзлачтлсч [Climatype number] П яса-7са сзоцезтлзл [2Cth-7Cth procentiles] I Дл-с-зоз без выбросов [Non-outlier range] о Выбросы [Outliers ] * Кз-азле значения [Extremes] Рис. 3. Диаграммы размахасмедианами (горизонтальные линии) по площадикроныдеревьев(сдиаметрами121-160см) [Fig. 3. Box-and-whiskerdiagrams oftreecrownareawithmedians(horizontal lines) for trees with diameters 121-160 cm. On the X-axis - Climatype number; on the Y-axis - Crown area, m2] Согласно тесту Краскела - Уоллиса (р < 0,001) и медианному тесту (р < 0,01), по длине кроны выявлены значимые различия между исследуемыми климатипами. Между медианами длины кроны и высоты деревьев климатипов отмечается значимая положительная корреляционная связь (г = 0,70; р < 0,001). Таким образом, основной закономерностью среди исследуемых климатипов является увеличение длины кроны при увеличении высоты деревьев. Из этой общей тенденции есть ряд исключений, показывающих, что некоторые климатипы отличаются от других. Эти особенности координации их ростовых процессов напрямую связаны с особенностями их мест происхождения и реакцией на экологические условия в географических культурах в Красноярской лесостепи. С.Р. Кузьмин, А.В. Рубцов, А.П. Барченков, Т.В. Карпюк 180 Индивидуальная изменчивость длины кроны варьирует от 16 до 44%. По длине кроны в группу с лидирующими показателями этого признака (медианные значения от 6,86 до 7,95 м) вошли три климатипа: шагонарский, ту-ранский и зейский (рис. 4). Шагонарский и туранский климатипы по высоте деревьев включены в группу с наилучшими показателями роста, а зейский климатип относится к средней группе с высотой, равной 18,71 м, уступающей значимо (р < 0,05) сонскому климатипу с высотой 19,56 м. По длине кроны зейский значимо превосходит сонский климатип (р < 0,001) и вихо-ревско-жигаловский климатип (р < 0,01), который не отличается значимо от него по высоте. Это говорит, о том, что у зейского климатипа существенно ниже по стволу отмечается рост живой части кроны, что может являться особенностью этого удаленного от пункта испытания климатипа и отличающегося, в первую очередь, более влажными и теплыми климатическими условиями в пункте происхождения. В средней группе по длине кроны (4,68-6,11 м) находится большая группа климатипов, доля кроны которых относительно высоты варьирует от 25 до 32%: сонский (25%), манский (26%), томаринский (26%), тандин-ский (27%), усть-канский (27%), вихоревка-жигаловский (27%), чемальский (27%), тунгокоченский (29%), петровск-забайкальский (28%), шиткино-она-чунский (28%), онгудайский (31%) и чернышевский (32%). В группе с низкими (4,15-4,51 м) значениями длины кроны находятся три климатипа: каа-хемский, усть-ордынский и мотыгинский, отдельно выделяется тес-хемский климатип, имеющий наименьшее значение длины кроны (3,11 м), с медианной долей кроны относительно высоты - 18%. Это самый низкий показатель доли кроны среди всех сравниваемых климатипов, доля кроны у каа-хемско-го климатипа - 23%, усть-ордынского и мотыгинского климатипов - 24%. По высоте деревьев тес-хемский климатип входит в группу с низкими показателями, поэтому реализация его генетической программы проходит согласно общей тенденции. По-другому себя ведет онгудайский климатип, имеющий самый низкий показатель по высоте, но не отличающийся по длине кроны от остальных представителей средней группы. Медианная доля кроны относительно высоты у него составляет 31%. Обратную связь между высотой и длиной кроны можно наблюдать на примере мотыгинского кли-матипа. По высоте он относится к группе с наибольшими показателями, а по длине кроны - с низкими, значимо (р < 0,05) уступая представителям л. Гмелина - зейскому и чернышевскому, у которых медианная доля кроны составляет 38 (самое большое значение) и 32% соответственно. Из представителей л. сибирской самые высокие показатели доли кроны отмечены для туранского (35%) и шагонарского (37%) климатипов. Таким образом, самый северный климатип (мотыгинский) из южной тайги, представляющий л. сибирскую в пункте испытания, имеет меньшую долю кроны, по сравнению с климатипами, представляющими л. Гмелина, при схожих показателях высоты деревьев. В.П. Макаровым [1] при сравнении протяженности кроны Дифференциация климатипов лиственниц (Larix spp.) 181 относительно ствола у л. сибирской и л. Г мелина в географических культуах получены другие результаты. Так, доля кроны у представителей л. сибирской (77-98%) в нескольких случаях может быть выше по сравнению с л. Гмелина (67-77%). Поэтому однозначные различия между разными видами лиственницы по доле кроны относительно высоты ствола нельзя четко обозначить, но можно фиксировать отдельные различия, которые зависят от возраста деревьев (если сравнивать разные объекты в разном возрасте), условий их произрастания и конкретного набора тестируемых климатипов. Номер климатипа [Climatype number] О 25й-75й процентили [25th-75th procentiles] I Диапазон без выбросов [Non-Outlier Range] о Выбросы [Outliers] * Крайние значения [Extremes] Рис. 4. Диаграммы размаха с медианами (горизонтальные линии) по длинекроныдеревьев(сдиаметрами121-160см) [Fig. 4. Box-and-whiskerdiagramsoftreecrownlength withmedians(horizontal lines) for trees with diameters 121-160 cm. On the X-axis - Climatype number; on the Y-axis - Crown length, m] Только по длине кроны выявлены значимые различия между выборками, представляющими разные виды лиственницы, сравниваемые в работе. Лиственница Гмелина отличается значимо большим размером длины кроны от л. сибирской (р < 0,001) и л. японской (р < 0,05). Влияние видовых различий на размеры кроны подтвержается в исследованиях, посвященных аллометрии архитектурных признаков деревьев разных видов в связи с конкуренцией между деревьями иустойчивостью кветровой нагрузке [26]. Выводы 1. В условиях одинакового экологического фона географических культур выявлены различия между климатическими экотипами разных видов лиственниц по высоте деревьев и протяженности кроны по стволу. Дифференциация лиственниц обусловлена генетическими особенностями климатических экотипов, сформированными под действием экологических факторов С.Р. Кузьмин, А.В. Рубцов, А.П. Барченков, Т.В. Карпюк 182 в местах происхождения, и разной реакцией на внешнюю среду в пункте эксперимента. 2. Климатипы лиственницы сибирской, представляющие по происхождению самые горные территории, характеризующиеся различными стрессовыми факторами, в том числе дефицитом увлажнения и бедными почвенными условиями, имеют низкие показатели высоты дерева и длины кроны. 3. Потомство лиственницы сибирской из благоприятных мест происхождения, приуроченных к котловинам юга Сибири, а также из бассейнов рек Бирюсы и Чуны в пределах Предсаянской провинции, а также представители лиственниц даурской и Чекановского из Читинской области обладают стабильно высокими показателями высоты деревьев и длины кроны в условиях географических культур. 4. Значимые различия между климатипами по высоте не всегда определяют наличие различий по длине кроны между ними, так как этот признак имеет свою отдельную стратегию развития, генетически связанную с условиями места происхождения. Самую короткую крону имеет высокогорный климатип с наименьшим гидротермическим коэффициентом в пункте происхождения. Высокие показатели длины кроны выявлены у климатипов лиственницы сибирской из котловин юга Сибири, а также представителя лиственницы даурской из Амурской области. Самый северный климатип (мо-тыгинский) из южной тайги, несмотря на высокие показатели по высоте, уступает представителям лиственницы даурской по длине кроны. Авторы благодарны за помощь в организации и проведении полевых работ Владимиру Калашникову (начальнику отдела ГИЛ филиала «ВОСТСИБЛЕСПРОЕКТ» ФГБУ «Росле-синфорг») и Яне Семенюк за помощь в обработке ГИС данных инвентаризации в рамках ее выпускной квалификационной работы в Сибирском федеральном университете.
Ключевые слова
Larix,
климат,
адаптация,
диаметр ствола,
высота дерева,
крона дереваАвторы
| Кузьмин Сергей Рудольфович | Красноярский научный центр СО РАН; Сибирский федеральный университет | канд. с.-х. наук, с.н.с. лаборатории лесной генетики и селекции, Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН; с.н.с. лаборатории биогеохимии экосистем, Институт экологии и географии | skr_7@mail.ru; srkuzmin@sfu-kras.ru |
| Рубцов Алексей Васильевич | Сибирский федеральный университет | канд. техн. наук, с.н.с. лаборатории биогеохимии экосистем и лаборатории комплексных исследований динамики лесов Евразии, Институт экологии и географии | arubtsov@sfu-kras.ru |
| Барченков Алексей Павлович | Красноярский научный центр СО РАН; Сибирский федеральный университет | канд. биол. наук, с.н.с. лаборатории лесной генетики и селекции, Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН; с.н.с. лаборатории биогеохимии экосистем, Институт экологии и географии | alexbarchenkov@mail.ru |
| Карпюк Татьяна Викторовна | Красноярский государственный аграрный университет | канд. биол. наук, доцент кафедры ландшафтной архитектуры и ботаники, Институт агроэкологических технологий | tkarpyuk@yandex.ru |
Всего: 4
Ссылки
Макаров В.П. Изменчивость морфологических видов и климатипов лиственницы в географических культурах (Восточное Забайкалье) // Лесоведение. 2005. № 4. С. 6775.
Бобринев В.П., Пак Л.Н. Рост 30-летних географических культур в Читинской области // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2007. № 6. С. 38-42.
Ирошников А.И. Географические культуры хвойных в Южной Сибири // Географические культуры и плантации хвойных в Сибири / отв. ред. Е.Г Минина, А.И. Ирошников. Новосибирск : Наука, 1977. С. 4-110.
Барченков А.П. Изменчивость лиственницы в географических культурах в Красноярской лесостепи // Лесное хозяйство. 2011. № 1. С. 25-27.
Ермолаева М.В. Особенности роста и сохранности географических культур лиственницы в Удмуртской Республике // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 2010. № 4. С. 11-14.
Галдина Т.Е., Токорева М.О. Современное состояние географических культур лиственницы в центральной лесостепи // Лесотехнический журнал. 2012. № 1 (5). С. 95-99.
Мельник П.Г., Мерзленко М.Д., Лобова С.Л. Результат выращивания климатипов лиственницы в географических культурах северо-восточного Подмосковья // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2016. № 2 (136). С. 62-67.
Глазунов Ю.Б., Мерзленко М.Д., Лобова С.Л. Результат 60-летнего опыта уникальных географических посадок лиственницы // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 8 (169). С. 44-48.
Fedorkov A. Variation in the leader shoot elongation patterns in Larix species and provenances in the north-west of Russia // Baltic Forestry. 2012. Vol. 18, № 1. PP. 119-124.
Abaimov A.P., Barzut V.M., Berkutenko A.N., Buitink J., Martinsson O., Milyutin L.I., Polezhaev A., Putenikhin V.P., Takata K. Seed collection and seed quality of Larix ssp. from Russia: initial phase on the Russian-Scandinavian larch project // Eurasian Journal of Forest Research. 2002. № 4. PP. 39-49.
Karlman L., Fries A., Martinsson O., Westin J. Juvenile growth of provenances and open pollinated families of four Russian larch species (Larix Mill.) in Swedish field tests // Silvae Genetica. 2011. Vol. 60, № 5. PP. 165-177. doi: 10.1515/sg-2011-0023
Eysteinsson T., Karlman L., Fries A., Martinsson O., Skulason B. Variation in spring and autumn frost tolerance among provenances of Russian larches (Larix Mill.) // Scandinavian Journal of Forest Research. 2009. Vol. 24, № 2. PP. 100-110. doi: 10.1080/02827580902773470
Lukkarinen A.J., Ruotsalainen S., Peltola H., Nikkanen T. Annual growth rhythm of Larix sibirica and Larix gmelinii provenances in a field trial in southern Finland // Scandinavian Journal of Forest Research. 2013. Vol. 28, № 6. PP. 518-532. doi: 10.1080/02827581.2013.786125
Lukkarinen A.J., Ruotsalainen S., Peltola H., Nikkanen T. Bud set and autumn coloration of Larix sibirica and Larix gmelinii provenances in a field trial in southern Finland // Scandinavian Journal of Forest Research. 2014. Vol. 29, № 1. PP. 27-40. doi: 10.1080/02827581.2013.853827
Foff V., Weiser F., Foffova E., Gomory D. Growth response of European larch (Larix decidua Mill.) populations to climate transfer // Silvae Genetica. 2014. Vol. 63, № 1-2. PP. 67-75. doi: 10.1515/sg-2014-0010
Nagamitsu T., Matsuzaki T., Nagasaka K. Provenance variations in stem productivity of 30-year-old Japanese larch trees planted in northern and central Japan are associated with climatic conditions in the provenances // Journal of Forest Research. 2018. Vol. 23, Iss. 5. PP. 270-278. doi: 10.1080/13416979.2018.1490520
Fowler D.P., Simpson J.D., Park Y.S., Schneider M.H. Yield and wood properties of25-year-old Japanese larch of different provenance in eastern Canada // The Forestry Chronicle. 1988. Vol. 64, № 6. PP. 475-479. doi: 10.5558/tfc64475-6
Maass D.I., Irland L.C., Anderson III J.L., Laustsen K.M., Greenwood M.S., Roth B.E. Reassessing potential for exotic larch in northern United States // Journal of Forestry. 2020. Vol. 118, Iss. 2. PP. 124-138. doi: 10.1093/jofore/fvz066
Орешкова Н.В. Генетическая дифференциация лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) в Средней Сибири // Хвойные бореальной зоны. 2010. Т. XXVII, № 1-2. С. 147-153.
Муратова Е.Н., Карпюк Т.В., Владимирова О.С., Сизых О.А., Квитко О.В. Цитологическое изучение лиственницы сибирской в антропогенно нарушенных районах г. Красноярска и его окрестностей // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. 2009. № 9. С. 99-108.
Молотков П.И., Патлай И.Н., Давыдова Н.И., Щепотьев Ф.Л., Ирошников А.И., Мосин В.И., Пирагс Д.М., Милютин Л.И. Селекция лесных пород. М. : Лесная промышленность, 1982. 224 с.
Букша И.Ф., Букша М.И. Применение мобильной ГИС-технологии Field-Map в лесном и садово-парковом хозяйстве // Науковий вісник НЛТУ Украіни. 2013. Т 23, № 5. С. 8-9.
Унгуряну Т.Н., Гржибовский А.М. Сравнение трех и более независимых групп с использованием непараметрического критерия Краскела - Уоллиса в программе STATA // Экология человека. 2014. № 6. С. 55-58.
Рысин Л.П. Лиственничные леса России. М. : Товарищество научных изданий КМК, 2010. 343 с.
Pazdrowski W., Jelonek T., Tomczak A., Stypula I., Splawa-Neyman S. Proportion of sapwood and heartwood and selected biometric features in larch trees decidua Mill.) // Wood research. 2007. Vol. 52, № 4. PP. 1-16.
MacFarlane D.W., Kane B. Neighbour effects on tree architecture: functional trade-offs balancing crown competitiveness with wind resistance // Functional ecology. 2017. Vol. 31, Iss. 8. PP. 1624-1636. doi: 10.1111/1365-2435.12865
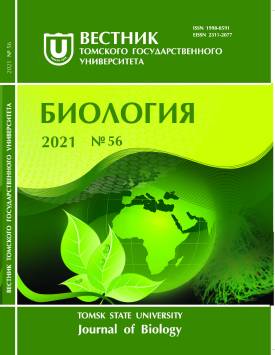

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью