Лесоэкологические последствия ландшафтных пожаров в Забайкалье
Отмечаются региональные особенности возникновения ландшафтных пожаров. Изучены и классифицированы пирологические режимы растительности (благополучный, умеренный, интенсивный, экстремальный) при различной метеоситуации по всем высотно-поясным комплексам (ВПК). Установлены основные параметры для каждого варианта: потенциальные масштабы и длительность пожароопасного состояния в зависимости от ВПК. Ландшафтные пожары возникают при интенсивном и экстремальном режимах, по мере образования на больших территориях состояния пирологической монотонности (отсутствие негоримых по естественным причинам участков ландшафта). За последнее время пирогенные аномалии с ландшафтными пожарами происходили в 2003 и 2015 гг. Обширные ландшафтные пожары в светлохвойных лесах оставляют за собой насаждения, включающие участки поврежденных и погибших деревьев, в зависимости от вида и интенсивности огневого воздействия. Далее в процессе послепожарного лесовозобновления формируется сложная мозаика группово-разновозрастных древостоев, периодически модифицируемая повторными пожарами. При тяжелых поражениях древостоев восстановление их допожарной полноты и запаса растягивается на длительное время, а после повторных пожаров развивается пирогенная дигрессия с катаценозом и неизбежной утратой экологического значения насаждений. Иллюстрируется вековая динамика основных таксационных показателей в пирогенных древостоях. Установлены аналитические зависимости изменений жизнеспособности деревьев после интенсивного низового пожара от их морфологических признаков. Резюмируется негативное влияние ландшафтных пожаров с последующим локальным обезлесением на экологическую ситуацию в регионе. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Environmental Consequences of Landscape Fires in Trans-Baikal Forests.pdf Введение Ландшафтным пожарам принадлежит ведущая роль в современной антропогенной динамике лесных экосистем на юго-востоке Сибири [1-5]. Кроме того, современная пирогенная обстановка на стыке бореальной и умеренной ландшафтных зон Евразии тесно связана с проблемами глобального изменения климата под влиянием увеличения выбросов в атмосферу парниковых газов [6-8]. По определению Н.П. Курбатского [9], к категории ландшафтных относятся растительные пожары, охватившие площадь, занятую двумя и более подтипами растительности. И. С. Мелехов [10] считал их наиболее грандиозным и разрушительным проявлением огненной стихии - экологическим фактором, действующим на большие территории, изменяющим состояние местного ландшафта. Отмечалась недостаточная изученность природы пирогенных лесных экосистем, в особенности динамических ее аспектов в лесообразовательном процессе. Получение данных о природе ландшафтных пожаров, особенно о пирогенной динамике лесных экосистем разного ранга, представляет широкий научный интерес. Новым аспектом в изучении данного вопроса представляется проведенное нами исследование трансформаций экосистем при различных пирологических режимах, которые детерминируют пирогенные сукцессии фитоценозов, гидротермический режим почв, послепожарный сток и др. Хозяйственная история ландшафтных пожаров, оказавших катастрофическое воздействие на лесные экосистемы Прибайкалья и Забайкалья, началась вслед за сооружением Транссибирской железной дороги (Транссиба). Тогда вдоль южного берега оз. Байкал на месте коренной темно-156 Евдокименко М.Д., Кривобокое Л.В., Петренко А.Е. Лесоэкологические последствия хвойной тайги образовалась протяженная полоса прибрежных гемиборе-альных мелколиственных лесов - результат «селективного» воздействия на таежные экосистемы затянувшейся череды пожаров, следовавших за интенсивными лесозаготовками [11]. По данным А.В. Побединского [12], пожары в лесах бассейна оз. Байкал на протяжении этого периода возникали примерно вдвое чаще, чем в лесах Приангарья. Средний уровень продуктивности пирогенных древостоев на северном макросклоне Хамар-Дабана на 30-40% ниже от потенциально возможного [13]. Тяжелый урон лесным экосистемам в зоне Транссиба на юго-востоке Сибири нанесли пожары 1930-1950-х гг., возникавшие при их промышленном освоении, особенно в районах концентрированных лесоразработок. В настоящее время осложняется неблагополучная экологическая ситуация и в природном комплексе Байкала. Темнохвойные леса на Хамар-Дабане заметно пострадали от засух [14], а огненная стихия в них может обернуться катастрофическими потерями. Это несовместимо с высоким биосферным статусом объекта Всемирного природного наследия. Поэтому рассмотрение трансформаций лесных экосистем ландшафтными пожарами является целью данного исследования. Материалы и методики исследования Рекогносцировочные наблюдения за возникновением, распространением и лесоводственными последствиями ландшафтных пожаров осуществлялись в процессе авиапатрулирования территории изучаемого региона. Регулярные полеты, по большей части ежедневные, на протяжении пожароопасных сезонов 1964-1965 гг. выполнялись первым автором статьи, бывшим летчиком-наблюдателем Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Пирологические режимы растительных комплексов установлены по материалам исследований их пожароопасности [15]. Объекты регулярных пирологических наблюдений (площадью 0,3-0,8 га) расположены в различных высотных поясах Малханского хребта и на Хамар-Дабане. Маршрутные исследования выполнены в насаждениях преимущественно подтаежно-лесостепного и светлохвойного таежного высотно-поясных комплексов (ВПК) в районе Селенгинского Среднегорья, включая долины основных притоков р. Селенга (Чикой, Хилок, Уда), а также по бассейнам рек Баргузин, Турка и Верхняя Ангара, Муя и Чара. Картосхема объектов исследования представлена на рис. 1. Опытные участки для исследования сезонной динамики процесса пожарного созревания лесных горючих материалов (ЛГМ) отражают характерные группы типов леса. На каждом из них в течение 5-летнего периода прослежена фактическая пожароопасность по методике Н.П. Курбатского [9]. Условия увлажнения в период исследований варьировали: обычная метеоситуация - 3 года, благополучная - 1, сильная засушливость также наблюдалась в течение одного сезона. 157 Экология / Ecology Рис. 1. Схема расположения объектов исследований. Обозначения: А - стационарные исследования; XSS& - стационарные исследования; - маршрутные исследования, в том числе авиамониторинг [Fig. 1. The layout of the objects of research. Legend: A- stationary studies; CC3333 - route studies, including monitoring from air] Лесоэкологические последствия огневых воздействий разного вида и интенсивности изучали на ландшафтных пожарищах разной давности, а также на участках с экспериментальными выжиганиями напочвенного покрова и подлеска. Пробные площади были заложены в лесах ЮгоВосточного Прибайкалья и Центрального Забайкалья, преимущественно в насаждениях, сохранивших жизнеспособность. Эти объекты представляют собой некоторую современную модель лесов, которая может существовать при умеренном пирологическом режиме на протяжении последующих 60100 лет. На этих площадях определена интенсивность пожара по высоте нагара (обугливания) на стволах деревьев, степени огневых повреждений крон, полноте прогорания напочвенного покрова и др. На каждой пробной площади определяли таксационные показатели древостоя и состояние нижних ярусов в фитоценозах. 158 Евдокименко М.Д., Кривобокое Л.В., Петренко А.Е. Лесоэкологические последствия Огневые опыты проведены в определенной последовательности относительно метеоусловий. Сила огневых воздействий определялась продолжительностью сухой погоды. Слабое выжигание проведено через 2 дня после дождя, а затем с интервалами в несколько дней проведены последующие опыты с выжиганиями средней и высокой интенсивности. Каждый опытный участок был заранее окаймлен защитной минерализованной полосой, а в процессе выжиганий обеспечивались соответствующие меры пожарной безопасности. Поджигания напочвенного покрова проводили в центре участков, что позволяло отслеживать процесс, а в дальнейшем -последствия огневых воздействий, в зависимости от направления движения кромки «пожаров»: фронт, фланги, тыл. Конфигурация кромки огня фиксировалась через равные интервалы времени, от начала опытов до их окончания. Наиболее тщательные наблюдения за динамикой горевших и контрольных фитоценозов проведены на постоянных пробных площадях, где все деревья были пронумерованы. Причем на каждом из них Т-образными метками были зафиксированы точки периодических измерений диаметра ствола. На этих же площадях располагались специальные ящики-опадомеры размером 1^1 м для периодического учета опадающих с полога крон отмерших хвои, шишек и других компонентов [16]. Также были изучены пирогенные вариации жизнеспособности деревьев. Критерием (коэффициентом) жизнеспособности было отношение текущего объемного прироста дерева к среднему приросту, что определялось по модельным деревьям, взятым из разных классов по Крафту от I до V с 4-кратной повторностью. Установлена зависимость снижения коэффициента жизнеспособности деревьев после сильного низового пожара от класса по Крафту и от протяженности кроны по стволу (%) [17]: у = 41,75 + 9,7х1 - 21,25x2 - 7,2x1 x2, где у - снижение коэффициента жизнеспособности дерева, %; Хі - класс дерева по Крафту; x2 - протяженность кроны по стволу, %. Для получения данного уравнения использовали методику Ю.П. Адлера и др. [18]. Использовался вариант 2-факторного эксперимента, с фиксированными кодированными уровнями значений для каждого из факторов. Согласно уравнению, минимальные нарушения жизнеспособности отмечаются у деревьев с хорошо развитыми и высокоподнятыми кронами, занимающих в насаждении господствующее положение. Пирогенные вариации лесообразовательного процесса наблюдали в разных природных округах, преимущественно на ландшафтных пожарищах (рис. 2). Для более основательного анализа вековых аспектов роли пирогенного фактора в лесообразовании использовали материалы прошлых экспедиционных исследований, проведенных лесоводами и географами [11, 12, 19, 20]. В почвенном покрове пробных площадей, заложенных для изучения лесоэкологических последствий ландшафтных пожаров, распространены серогумусные хрящевато-тяжелосуглинистые, а также хрящевато-супесчаные почвы. Гранулометрический состав, физико-159 Экология / Ecology химические свойства почв определены общепринятыми методами [21]. Гидротермический режим почв наблюдали на ландшафтных пожарищах в Прибайкалье и в Центральном Забайкалье (сосняки на хребте Черского). Названия растений даны по International Plant Name Index (IPNI) [22]. Рис. 2. Современные ландшафтные пожарища в Прибайкалье: а - в Баргузинском заповеднике (фото Л.В. Кривобокова); б - в долине р. Баргузин (фото А.Е. Петренко); в - в долине р. Турка (фото А.Е. Петренко); г - на южном макросклоне Хамар-Дабана (фото Л.В. Кривобокова) [Fig. 2. Modern landscape fires in the Baikal Region: a - in the Barguzin Reserve (Photo by L.V. Krivobokov); b - in the Barguzin River valley (Photo by A.E. Petrenko); c - in the Turka River valley (Photo by A.E. Petrenko); d - on the southern slope of the Khamar-Daban range (Photo by L.V. Krivobokov)] Результаты исследования и обсуждение Предрасположенность региона к возникновению обширных и длительных лесных пожаров обусловлена специфическими природными предпосылками: засушливый климат на большей части территории, малоснежная зима, сопровождаемая глубокой и длительной весенне-летней засухой с часто повторяющимися сильными ветрами, абсолютное доминирование в лесных массивах пожароопасных типов светлохвойных насаждений [15, 23, 24]. Сообразно широкому высотному диапазону атмосферного увлажнения закономерно дифференцируются пирологические режимы по высотнопоясным комплексам растительности (таблица), характеризующие пожароопасность конкретных категорий, а также лесоэкологические послед-160 Евдокименко М.Д., Кривобокое Л.В., Петренко А.Е. Лесоэкологические последствия ствия пожаров. Приведенные нами названия режимов связаны с потенциальной экологической ситуацией после пожаров: благополучный, умеренный, интенсивный, экстремальный. Установлена зависимость пирологических режимов от метеорологических условий с оценками размеров пожароопасной территории, а также вероятной длительности пожароопасного состояния как суммарной за год, так и непрерывной в течение весенне-летнего пожарного максимума. Так, при благополучном режиме пожароопасное состояние возможно лишь фрагментарно (до 10% территории соответствующего ВПК); его суммарная длительность за год не превышает 40 дней, а максимальная непрерывная - до 10 дней. При умеренном варианте эти показатели составляют 11- 30% территории, суммарная длительность 41-70, а максимальная непрерывная - 11-20 дней. Интенсивный вариант (31-70%, 71-100 и 21-30 дней, соответственно). При экстремальном режиме наблюдается почти сплошная пожароопасность лесных экосистем - 101-140 и 31-70 дней. Пирологические режимы высотно-поясных комплексов в бассейне Байкала (весенне-летний период) [Pyrological regimes of the altitudinal belt complex in the Baikal basin (spring-summer period)] ВПК (преобладающая растительность) [Altitudinal belt complex (prevailing vegetation)] Пирологические режимы [Pyrological regimes] Обычные сезоны [Regular seasons] Засушливые сезоны [Dry seasons] Влажные сезоны [Wet seasons] Лугово-степной (горная степь) [Meadow-steppe (mountain steppe)] Экстремальный [Extreme] Экстремальный [Extreme] Интенсивный [Intensive] Подтаежно-лесостепной (сосняки разнотравные и рододендроновые) [Subboreal-forest-steppe (Pine forests with grass and rhododendron)] Интенсивный [Intensive] и Умеренный [Moderate] Светлохвойный таежный (сосняки и лиственничники кустарниково-зеленомошные, брусничные и ерниковые) [Light coniferous boreal (Pine and larch forests with subshrubs, moss, cowberry, and dwarf birch] а и II Кедровый таежный (кедровники бруснично-зеленомошные) [Siberian pine boreal (Siberian pine forests with cowberry and moss)] Умеренный [Moderate] Интенсивный [Intensive] Благополучный [Prosperous] Кедрово-пихтовый (кедровники и пихтарники черничнозеленомошные) [Siberian pine and fir (Siberian pine and fir forests with blueberry and moss)] II и и Субальпийско-подгольцовый (хвойные редколесья и заросли кедрового стланика) [Subalpine-krummholz (coniferous woodlands and dwarf pine thickets] Благополучный [Prosperous] Умеренный [Moderate] и 161 Экология / Ecology Каждому ВПК свойственны свои доминанты в растительности и особенности видового состава [25-27]. В условиях крайне недостаточного увлажнения по долинам крупных рек и низкогорьям преобладают степные комплексы с лесостепью и подтайгой, которые регулярно подвержены экстремальному режиму. В составе лесов подтаежно-леостепного ВПК доминирует сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Здесь при обычной метеоситуации характерен интенсивный режим. Пожарное созревание насаждений в светлохвойном таежном ВПК более растянуто во времени по сравнению с лесостепью и подтайгой примерно вдвое. Сосняки рододендроново-брусничные приходят в пожароопасное состояние за 3-4 дня, а сосняки зеленомошные - лишь через 6-10 дней сухой погоды. В лиственничниках рододендроново-брусничных и в сходных по характеру напочвенного покрова березняках критическая длительность сухой погоды составляет 4-6 дней. В зоне умеренного увлажнения, на холодных и мерзлотных почвах среднегорий, господствуют таежные лиственничники (Larix sibirica Ledeb., Larix gmelini (Rupr.) Rupr.). Для пожарного созревания лиственничников багульниковых и зеленомошных необходимо 10-15 дней. Пирологические режимы варьируют по времени и территории от интенсивного до умеренного. К влажным поясам с умеренным пирологическим режимом приурочены темнохвойные комплексы из кедра (Pinus sibirica Du Tour.), пихты (Abies sibirica Ledeb.) и ели (Picea obovata Ledeb.). Растительность, образующая и окаймляющая верхнюю границу леса с характерным для нее избыточным увлажнением и недостатком тепла, представлена сложными субальпийскими комплексами, в которых при обычной метеоситуации превалирует благополучный режим. Лиственные породы в ненарушенных пожарами и рубками комплексах представлены преимущественно в виде примеси к насаждениям из перечисленных хвойных доминантов. Это береза (Betula pendula Roth., B. er-manii subsp. lanata (Regel) A. K. Skvortsov) и осина (Populus tremula L.). После интенсивных пожаров, сопровождающихся значительным изрежи-ванием и отмиранием коренных хвойных насаждений, эти виды образуют собственные производные сообщества. С пирологической точки зрения на большей части Селенгинского среднегорья отмечается неблагоприятное сочетание ксерофитной степной растительности и высокопожароопасных лесов, произрастающих в условиях засушливого климата. Годовая норма атмосферных осадков здесь в пределах светлохвойного таежного ВПК составляет 250-350 мм, а в подтайге и лесостепи она еще меньше. Причем на долю снега приходится лишь 5-10% от годовой суммы. Поэтому маломощный снежный покров сходит рано, преимущественно испаряясь в сухой воздушной среде, обычно уже в марте, по мере установления положительных значений дневной температуры воздуха при его весьма низкой влажности. В результате напочвенный слой горючих материалов почти не увлажняется талой водой, особенно на южных склонах, из-за ее скудности или полного отсутствия. Сходная ситуа-162 Евдокименко М.Д., Кривобокое Л.В., Петренко А.Е. Лесоэкологические последствия ция прослеживается на территории Центрального и Юго-Восточного Забайкалья [28]. Весной и в начале лета на территории, занимаемой лугово-степным, подтаежно-лесостепным и светлохвойным таежным ВПК, как правило, не бывает осадков, способных устранить или хотя бы ослабить пожароопасность. Испаряемость влаги в это время превышает величину осадков в 5- 10 раз [28]. На огромных пространствах при интенсивном, а тем более при экстремальном режиме устанавливается на длительное время специфическая пирологическая монотонность, при которой практически отсутствуют какие-либо естественные препятствия для огня из негоримых участков леса. К тому же озера, реки и относительно влажные гребни горных хребтов разрознены и поэтому не задерживают распространение пожаров. Более того, луга и заросли горючих кустарников (ерников), изобилующие в долинах небольших рек (падей), только усиливают интенсивность горения. При порывах ветра в ерниках огонь легко преодолевает узкие водные преграды, оставшиеся снежники и наледи. Причем хаотически разветвляющиеся по горным падям шлейфы пламени стремительно переходят на таежные массивы в широком высотном диапазоне. Такова спонтанная схема возникновения ландшафтных пожаров, которая наблюдалась при авиамониторинге территории Забайкалья. Пожароопасность горно-таежных темнохвойных ВПК наступает существенно позже, по мере схода относительно мощного для Байкальского региона снежного покрова. Так, в таежном кедровом и в кедрово-пихтовом ВПК таяние снега растягивается на весь май, а в субальпийско-подгольцо-вом ВПК, где распространены заросли пожароопасного кедрового стланика, снег сходит лишь к середине июня. К тому же здесь вследствие высокой влажности мощного мохового покрова и подстилки пожарное созревание протекает медленно и регулярно прерывается обильными атмосферными осадками. Однако на определенных участках встречаются лишайниковые парцеллы, представляющие пожарную опасность. Ландшафтные пожары на территории верхних лесорастительных поясов возникают редко, однако в отдельные годы, во время длительных летнеосенних засух, они приводят к потерям особо важных для Байкальского природного комплекса кедровых лесов, а в субальпийском поясе после выгорания местообитаний с кедровыми, кедрово-пихтовыми и лиственничными редколесьями с кедровым стлаником понижают верхнюю границу леса. Согласно лесопожарной статистике, общий фон горимости лесов определяется низовыми пожарами, после которых большая часть горевших насаждений сохраняет жизнеспособность в меру их пожароопасности и огнестойкости, а также фактической интенсивности огня на данном участке. На рис. 3 иллюстрируется типичная картина современной динамики сосновых древостоев, установленная по данным лесоустройства [29]. Ландшафтный пожар, распространившись на большую территорию, представляет собой многообразие физических вариаций стихийного горения, оставляющих за собой в лесных массивах морфологически трансфор-163 Экология / Ecology мированные фитоценозы на пожарищах, от умеренных огневых повреждений под пологом древостоев до их ослабления и полного отмирания вследствие интенсивного низового огня. Наиболее негативный сценарий представляет тотальную гибель деревьев после прохождения верхового пожара с вероятным локальным обезлесением. Рис. 3. Возрастная динамика запасов древесины (a) и густоты древостоев (b) в сосняках. Обозначения: сплошные линии - нормальные насаждения; пунктир -пирогенные (модальные) насаждения; 0,54.. .0,50 - относительная полнота древостоев [Fig. 3. The age dynamics of wood stocks (a) and density of forest stands (b) in pine forests. Designations: solid lines are normal plantations; dotted line - pyrogenic (modal) plantings; 0.54 ... 0.50 is the relative fullness of tree stands] Механизм пирогенных трансформаций экосистем с сосновыми насаждениями наиболее детально прослежен на юго-восточном мезосклоне Яблонового хребта, где проводились огневые опыты. Высота нагара на стволах и степень повреждения крон деревьев обусловлены преимущественно их расположением относительно характерных частей кромки огня. Губительные высота и ширина пламени были на фронтальном направлении, совпадающем с направлением ветра, что однозначно прослеживалось по картосхемам огневых опытов. Фронтальный огонь причинял деревьям наибольшие повреждения. Напротив, совершенно не пострадали деревья, оказавшиеся в зоне тыла огня, где невысокое пламя слегка охватывало комлевые части ствола, камбий которых защищен достаточным слоем корки. Средние значения огневых повреждений отмечались на флангах кромки огня [30]. 164 Евдокименко М.Д., Кривобокое Л.В., Петренко А.Е. Лесоэкологические последствия Нагар на стволах был асимметричным. Односторонний (предельный) нагар был заметно выше зоны кольцевого обугливания стволов. Особенно контрастные различия между кольцевым и односторонним нагаром регистрировались на участке со слабым огнем (в 3-4 раза). В зоне действия сильного огня различия между предельным и кольцевым нагаром менее выражены. Прослеживалась тенденция зависимости высоты нагара от диаметра деревьев. На толстых деревьях, особенно в зоне действия слабого и среднего огня, нагар был выше, чем на тонких. Это обстоятельство обусловлено увеличенным количеством опада под крупными деревьями, а также более сильными завихрениями пламени. Аномальный отпад деревьев, вызванный непосредственными огневыми травмами, отчетливо наблюдался на протяжении первых двух лет после выжиганий. Поскольку все деревья на каждом участке после выжиганий пронумерованы и маркированы Т-образными метками точек измерения диаметра ствола, обеспечивалась корректность повторных измерений через 2, 5 и 10 лет после выжиганий. При выжигании слабой и средней силы губительное действие огня проявлялось в основном локально - там, где были зарегистрированы максимальные значения параметров пламени. На участке с высокой интенсивностью горения обширная зона поврежденного древостоя образовалась по направлению фронта огня. Когда степень термического воздействия на камбий ствола и ветвей, а также на хвою превышала предел пожароустойчивости деревьев, то уже в первые 2 недели после опытов на нижних мутовках наблюдалось массовое пожелтение хвои. Изменение ее окраски в последующем охватывало расположенные выше ветви. По исследованиям Г.И. Гирс [31], летальное повреждение флоэмных тканей происходит после действия температур свыше 55 °C, а побурение хвои от нагретого воздуха отмечается при 50 °C. Изучены постпирогенные вариации жизнеспособности деревьев [17]. После слабых и средних выжиганий усыхают деревья, которые в нормальных условиях могут существовать примерно на 5 лет дольше. Что же касается сильного выжигания, то на этом участке отпад в большей степени отличается от нормального. Средний диаметр деревьев отпада всего на 23% меньше диаметра среднего дерева всего древостоя. Изменилась и пространственная структура отпада. Он был сконцентрирован в зоне движения фронтальной части огня. Спустя 10 лет на этом участке образовалась редина, состоящая из крупных деревьев, диаметр которых был больше среднего по древостою. Среди деревьев, сохранившихся спустя 10 лет после выжиганий, почти нет таких, жизнеспособность которых была бы заметно нарушена огнем, т. е. в такой степени, когда это может отрицательно отразиться на динамике прироста. В данном случае мы не принимаем во внимание влияние на прирост изменившейся лесной среды, полагая, что микроклимат под пологом и влагообеспеченность корневых систем трансформируются после выжиганий на малой площади не так заметно, как на обширных естественных пожарищах. По нашим наблюдениям, проведенным в различные сроки 165 Экология / Ecology первого вегетационного периода после опытов, полевая влажность на выжженных участках не отличалась от контроля во всех почвенных горизонтах до 1 м от поверхности. Это можно объяснить отсутствием предпосылок для усиления поверхностного стока при небольших размерах выжженных участков и незначительной крутизне местоположения. Пирогенные вариации отпада и прироста деревьев на обычных пожарищах отличаются от рассмотренной модельной картины. Сообразно выгоревшей площади и интенсивности пожаров расширяются амплитуда и контрастность ценотических повреждений и других нарушений в лесных экосистемах Забайкалья [12, 17, 20, 30]. Одновременно с огневой деструкцией древесных ценозов сгорает напочвенный покров, а также трансформируется лесорастительная среда [32, 33], усугубляется общий дефицит влаги на выгоревших горных склонах [34-36]. Наиболее полная и длительная картина пирогенных нарушений в лесных экосистемах наблюдалась на ландшафтном пожарище в Центральном Забайкалье. Получены комплексные данные о постпирогенной динамике экологической ситуации и лесорастительной среды [34, 35, 37, 38]. Особенно аномальными оказались нарушения в гидротермическом режиме почв, происходящие после интенсивных пожаров. Эти сведения можно рассматривать оригинальными, так как отмечается лишь небольшое число современных публикаций с результатами исследований гидротермического режима почв бореальных лесов Байкальского и соседних регионов [39-42]. Данные по изменению температурного режима почв на пожарищах, несмотря на их широкое распространение, также очень скудны, кроме того, часто они получены дистанционными методами [41, 42]. Повышенный нагрев обгоревшей поверхности почвы в дневное время является особенно очевидным при сопоставлении максимальных температур. В жаркие дни первого послепожарного года значения максимальных температур на пожарище превышали контрольный уровень более чем на 20 °C. Через год контраст был вдвое меньше в жаркие дни, а в обычную погоду сокращался до 3-5 °C. Соответственно изменялась температура верхних горизонтов почвы. Даже в течение второго послепожарного сезона (с мая по сентябрь) разность температур между горевшим и контрольным участками на глубине 10 см составляла 3-5 °C. На глубине 50 см она уменьшалась до 2-3 °C. Деструкция напочвенного покрова, полное уничтожение огнем нижних ярусов фитоценоза негативно отразились на водном режиме почвы. На фоне общего дефицита увлажнения, связанного с засушливостью климата в регионе, запасы влаги на участках с пожаром были систематически снижены по сравнению с контролем. Восстановление нормальной лесной подстилки, согласно наблюдениям за опадомерами, растягивается в подобной ситуации на 15-20 лет. Ландшафтные пожары в горах часто вызывают необратимые деструктивные процессы, ведущие к разрушению почвы как природного тела. Пожары средней и высокой интенсивности на горных склонах при частичном 166 Евдокименко М.Д., Кривобокое Л.В., Петренко А.Е. Лесоэкологические последствия или полном сгорании защитного растительного слоя способствуют резкому снижению водопоглотительной способности лесных подстилок и водопроницаемости почв [43]. Это создает условия для формирования поверхностного стока и усиления эрозионных процессов. На свежих пожарищах в зависимости от интенсивности огня поверхностный сток возрастает в 3-15 раз, а твердый - в десятки и сотни раз, что многократно превосходит последствия концентрированных лесозаготовок [44]. Деревья лиственницы находятся в преимущественном положении по отношению к соснам, поскольку они лучше защищены от термических повреждений толстым слоем коры. Кроме того, кроны лиственниц способны к регенерации хвои и побегов, поврежденных пожаром. Однако при интенсивном и экстремальном пирологических режимах в лиственничниках бывают сильные пожары, при повторении которых развивается дигрессия насаждений. Обобщенную схему пирогенной дигрессии лиственничников иллюстрирует рис. 4, где сопоставлена возрастная динамика числа деревьев и полноты древостоев в пирогенных и в ненарушенных насаждениях, относящихся к третьему классу бонитета [29]. Рис. 4. Возрастная динамика численности деревьев в нормальных (1) и пирогенных (2) лиственничниках. Стрелками обозначены потенциальные интервалы времени, необходимые для восстановления нормальной полноты и густоты; 0,60.. .0,50 -относительная полнота древостоев соответственно их возрасту [Fig. 4. Age dynamics of tree quantity in normal (1) and pyrogenic (2) larch forests. The arrows indicate the potential time intervals necessary for restoration to normal fullness and density; 0.60 ... 0.50 - relative fullness of tree stands, according to their age] 167 Экология / Ecology Существенное падение полноты 20-50-летнего древостоя может быть восполнено в течение одного класса возраста (на рис. 4 обозначено стрелками), если сохраняется нормальный темп прироста оставшихся жизнеспособных деревьев, численность которых составляет 2-4 тыс. шт. на 1 га. Временной интервал (i) на восстановление нормальной полноты древостоя в общем виде можно определить по формуле i = a2 - a + Aa, где a1 - возраст, в котором древостой был поврежден пожаром; а2 - возраст, соответствующий данной густоте или полноте при естественном (беспожарном) изреживании древостоев; Да - поправка на естественное изреживание пирогенного древостоя в интервале от a1 до a2. Длительность периодов восстановления полноты увеличивается с возрастом в геометрической прогрессии, поскольку по мере старения древо-стоев неизбежно снижается их прирост. Для перестойных насаждений анализируемый процесс имеет лишь гипотетическое значение. Более вероятно появление новых поколений там, где почвенно-экологические условия благоприятствуют возобновлению лиственницы, а в иной обстановке - смена пород или образование пустошей. На многолетней мерзлоте пирогенная дигрессия лиственничников в большей степени усугубляется. При вертолетном мониторинге послепожарных мерзлотных лиственничников в середине лета наблюдалось массовое пожелтение хвои. Более того, в местах с прогоранием мощного торфянистого слоя происходил вывал деревьев, что в дальнейшем приводило к появлению ерниковых зарослей. Известно, что при одинаковой потенциальной пожароопасности отдельных фаций и урочищ фактическая их горимость зависит от многих факторов. Так, на горных склонах наиболее сильный огонь наблюдается при движении снизу вверх. Большую роль в распространении кромки пожаров играют скорость и направление ветра, а также суточная ритмика температуры и влажности воздуха. Огонь ослабевает к концу дня, а ночью едва тлеет. Отсюда следует неравномерность воздействия долговременных ландшафтных пожаров на лесные массивы. Отмеченные вариации используются лесной охраной при выборе тактических решений для остановки и локализации пожаров. Обширные ландшафтные пожары в светлохвойных лесах оставляют за собой мозаику из участков поврежденных и погибших насаждений в зависимости от вида и интенсивности огневого воздействия. Далее в процессе послепожарного лесовозобновления формируется сложная структура группово- или куртинно-разновозрастных древостоев, периодически модифицируемая повторными пожарами. В соответствии с известной гипотезой об эволюционно обусловленной пирофитности сосны обыкновенной [45-47], подобная структура древостоев определяется механизмом циклически импульсной пирогенной стабильности лесов. При тяжелых поражениях древостоев восстановление их допожарной полноты и запаса растягивается на длительное время, а после повторных пожаров развивается пирогенная дигрессия с катаценозом и неизбежной утратой экологического 168 Евдокименко М.Д., Кривобокое Л.В., Петренко А.Е. Лесоэкологические последствия значения насаждений. На сухих местоположениях, особенно в подтаежных и подтаежно-лесостепных светлохвойных лесах на крутых южных склонах катаценоз заканчивается локальным обезлесением. В лесах подтаежно-лесостепного ВПК пожары слабой и средней интенсивности обычно оказывают слабое влияние на состав и структуру гемибо-реальных лесов, но отрицательно сказываются на их продуктивности [8, 48]. После таких пожаров происходит умеренное изреживание древостоев, ксерофитизация и остепнение подчиненных ярусов (кустарникового и травяного), нередко снижается бонитет. После пожаров высокой интенсивности лесной фитоценоз сменяется степным. Лесовосстановление растягивается на длительный период, исчисляемый многими десятками лет [46]. В светлохвойном таежном ВПК интенсивность пожара во многом зависит от состояния ЛГМ, т.е. от погодных условий, предшествующих пожару. Запасы ЛГМ в таежных лиственничниках и сосняках обычно значительны вследствие большого межпожарного интервала и замедленного разложения мертвого органического вещества. В засушливые периоды при интенсивном и экстремальном режимах неизбежны пожары средней и высокой интенсивности, которые приводят к гибели значительной части древостоя и подчиненных ярусов растительности, а также к уничтожению органогенных горизонтов почв. Несмотря на то, что сосна и лиственница имеют эволюционные приспособления для выживания от пирогенных воздействий, при прогорании подстилки обычно повреждаются их корни, близкие к поверхности почвы, что приводит к гибели деревьев. Пожары слабой интенсивности, в особенности беглые низовые, обычно не приводят к гибели древостоев. Сукцессии после пожаров разной интенсивности протекают по-разному, а последовательность сукцессионных стадий зависит от фактической нарушенности экосистем. При полном уничтожении фитоценозов огнем на гари развиваются травяные фитоценозы из дерновинных трав (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Calamagrostis lansdorffii (Link) Trin.), которые в течение длительного времени могут переходить в стадии производных (виды рода Betula L., Populus tremula) либо коренных древостоев, а также на длительные периоды времени замещаться ерниками (Betula ex-ilis Sukaczev, B. divaricata Ledeb., B. fruticosa Pall.). Пожары слабой интенсивности, как правило, не нарушают естественные сукцессионные процессы. Интенсивные обширные пожары в верхних таежных ВПК приводят к снижению верхней границы лесного пояса в горах. Далее гари, особенно по каменистым склонам, могут зарастать кедровым стлаником [49]. В горно-таежном темнохвойном ВПК пожары бывают сравнительно редко, лишь при длительной засухе. Но зато они почти всегда носят губительный характер, так как отличаются интенсивным горением, а темнохвойные породы лесообразователи (Abies sibirica, Pinus sibirica, Picea obo-vata) не имеют эволюционно сформировавшихся механизмов для защиты от огня. Поэтому они погибают даже при пожарах умеренной интенсивности. Пирогенная сукцессия в темнохвойных лесах протекает сложно и долго, обычно через луговую (дерновинные злаки и осоки, Chamaenerion an-169 Экология / Ecology gustifolium) и производную стадии березовых (Betula pendula, B. pubescens Ehrh.) или осиновых древостоев (Populus tremula). На верхней границе леса во влажных климатических фациях темнохвойные леса после пожаров могут замещаться субальпийскими лугами. Подгольцовый ВПК потенциально подвержен пожарам сильной интенсивности из-за своеобразия состава и структуры фитоценозов, несмотря на высокое атмосферное увлажнение. Там обычно преобладает кедровый стланик (Pinus pumila (Pall.) Regel), значительно реже - кустарниковые березы (Betula divaricata, B. rotundifolia Spach.). Как кедровый стланик, так и доминанты напочвенного покрова, такие как брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) и кустистые лишайники родов Cladonia P. Browne, Cetraria Ach., отличаются интенсивным горением вследствие большой концентрации в фитомассе смолистых веществ (циклических углеводородов). Поэтому пожары, возможные там даже в короткие периоды без дождей, приводят, как правило, к полному уничтожению такой растительности. Последующее крайне длительное восстановление растительного покрова протекает преимущественно по схеме первичной сукцессии (на скальных невыветренных породах) [50, 51]. Лесные пожары принято считать мощнейшим дестабилизирующим фактором для лесных экосистем [52, 53]. Вслед за пирогенной деструкцией насаждений неизбежно происходит деградация их защитных функций и развитие эрозионных процессов. Вследствие выгорания подстилки, мохового покрова и органического слоя резко снижаются фильтрационная способность почв и их противоэрозионная устойчивость, разрушается структура почвенных агрегатов, происходит заиливание (лессивирование) почв. В результате внутрипочвенный сток заменяется разрушительным поверхностным, показатели которого могут возрастать на целый порядок [54]. Масштабы пирогенной эрозии бывают более внушительными по сравнению с последствиями сплошных концентрированных рубок леса [20]. Органическое вещество, приносимое водотоками с гарей в Прибайкалье, минерализуется довольно медленно по сравнению с негоревшими участками. Следовательно, пожары увеличивают «грязевый» сток. На склонах возможно развитие эрозионных процессов с суммарной величиной эрозии до 4,5 тыс. т/км2 [55, 56]. Экспериментально установлено, что противоэрозионная устойчивость почв на гарях в регионе снижается в 15-50 раз. Восстановление данной функции до нормы растягивается на многие десятилетия [57]. Между тем губительные для лесных экосистем Забайкалья ситуации регулярно повторяются, что установлено как по лесопожарной статистике, так и по динамике годичных колец у деревьев. У старых сосен, произрастающих в долине р. Турка, впадающей в оз. Байкал в средней части восточного берега (светлохвойный таежный ВПК, географическая широта местности ~53° с.ш.), на высоте 1,3 м были взяты образцы для исследования динамики ширины годичного кольца и построена хронология (рис. 5). Несмотря на то, что местоположение данных деревьев соответствует умеренному действию лимитирующего фактора (атмосферных осадков), об-170 Евдокименко М.Д., Кривобокое Л.
Ключевые слова
лесные экосистемы,
ландшафтные пожары,
фитоценозы,
дигрессия,
обезлесение,
стокАвторы
| Евдокименко Михаил Данилович | ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН" | канд. с.-х. наук, с.н.с. лаборатории лесоведения и почвоведения Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделения | evdokimenko@ksc.krasn.ru |
| Кривобоков Леонид Владиленович | ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН" | канд. биол. наук, с.н.с. лаборатории фитоценологии и лесного ресурсоведения Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделе ния Российской академии наук - обособленного подразделения | leo_kr@mail.ru |
| Петренко Алексей Евгеньевич | ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН" | канд. биол. наук, н.с. лаборатории лесоведения и почвоведения Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделения | alcorsci@bk.ru |
Всего: 3
Ссылки
Ермаков Н.Б. Разнообразие бореальной растительности Северной Азии. Гемибореальные леса. Классификация и ординация. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2003. 232 с.
Anenkhonov O., Chytry M. Syntaxonomy of vegetation of the Svyatoi nos peninsula, Lake Baikal. 2. Forests and krummholz in comparison with other regions of Northern Buryatia // Folia Geobotanica. 1998. No. 33. PP. 31-75.
Soil sampling and methods of analysis / ed. by M.R. Carter, E.G. Gregorich. Boca Raton : CRC press. Publ., 2007. 1205 p.
IPNI.International Plant Names Index. Kew: The Royal Botanic Gardens. Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens Publ., 2020. URL: http://www.ipni.org (дата обращения: 14.03.2021).
Поликарпов Н.П., Чебакова Н.М., Назимова Д.И. Климат и горные леса Южной Сибири. Новосибирск : Наука, 1986. 226 с.
Владимиров И.Н., Софронов А.П., Сороковой А.А., Кобылкин Д.В., Фролов А.А. Структура растительного покрова западной части Верхнеангарской котловины // География и природные ресурсы. 2014. № 2. С. 44-53.
Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М. : Наука, 1976. 278 с.
Евдокименко М.Д. Жизнеспособность деревьев после низового пожара // Вопросы лесной пирологии / отв. ред. Н.П. Курбатский. Красноярск : Институт леса и древесины СО АН СССР, 1974. С. 167-196.
Методы изучения лесных сообществ / Е.Н. Андреева и др. ; под ред. В.Т. Ярмишко, И.В. Лянгузовой. СПб. : НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с.
Евдокименко М.Д. Потенциальная пожароопасность лесов в бассейне оз. Байкал // Лесоведение. 1991. № 5. С. 14-25.
Kharuk V.I., Im S.T., Petrov I.A., Golyukov A.S., Ranson K.J., Yagunov M.N. Climateinduced mortality of Siberian pine and fir in the Lake Baikal Watershed, Siberia // Forest Ecology and Management. 2017. Vol. 384. PP. 191-199. doi: 10.1016/j.foreco.2016.10.050
Побединский А.В. Сосновые леса Средней Сибири и Забайкалья. М. : Наука, 1965. 268 с.
Зиганшин Р. А. Послепожарные насаждения экологического профиля Бабушкин-Таежный на Хамар-Дабане // Пожары в лесных экосистемах Сибири. Красноярск : ИЛ СО РАН, 2008. С. 127-130.
Панарин И.И. Леса Прибайкалья. М. : Наука, 1979. 264 с.
Мелехов И.С. Лесная пирология и ее задачи // Современные вопросы охраны лесов от пожаров и борьбы с ними / под ред. И.С. Мелехова. М. : Лесная промышленность, 1965. С. 5-25.
Brazhnik K., Hanley Ch., Shugart H.H. Simulating Changes in Fires and Ecology of the 21st Century Eurasian Boreal Forests of Siberia // Forests. 2017. No. 8 (49). PP. 127. doi:10.3390/f8020049
Курбатский Н.П. Исследование количества и свойств лесных горючих материалов // Вопросы лесной пирологии / под ред. Н.П. Курбатского. Красноярск : ИЛиД СО АН СССР, 1970. С. 5-58.
Vasileva A., Moiseenko K. Methane emissions from 2000 to 2011 wildfires in Northeast Eurasia estimated with MODIS burned area data // Atmospheric Environment. 2013. Vol. 71. PP. 115-121. doi: 10.1016/j.atmosenv.2013.02.001
Jolly W.M., Cohrane M.A., Freeborn P.H., Holden Z.A., Brown T.J., Williamson G.J., Bowman D.M. J.S. Climate-induced variations in global wildfire danger from 1979 to 2013 // Nature Communications. 2015. No. 6 (7537). PP. 1-11. doi: 10.1038/ncomms8537
Safronov A.N. Effects of Climatic Warming and Wildfires on Recent Vegetation Changes in the Lake Baikal Basin // Climate. 2020. No. 8 (57). PP. 1-25. doi: 10.3390/cli8040057
Kukavskaya E.A., Buryak L.V., Shvetsov E.G., Conard S.G., Kalenskaya O.P. The im pact of increasing fire frequency on forest transformations in southern Siberia // Forest Ecology and Management. 2016. Vol. 382. PP. 225-235. doi: 10.1016/j.foreco.2016.10.015
Ponomarev E.I., Kharuk V.I., Ranson K.J. Wildfires dynamics in Siberian larch forests // Forests. 2016. No. 7 (6). PP. 1-9. doi: 10.3390/f7060125
Kharuk V.I., Dvinskaya M.L., Petrov I.A., Im S.T., Ranson K.J. Larch forests of Middle Siberia: long-term trends in fire return intervals // Regional Environmental Change. 2016. Vol. 16, No. 8. PP. 2389-2397. doi:10.1007/s10113-016-0964-9
Валендик Э.Н., Кисиляхов Е.К., Рыжкова В.А., Пономарев Е.И., Данилова И.В. Крупные пожары в таежных ландшафтах Центральной Сибири // География и природные ресурсы. 2014. № 1. С. 52-59.
Намзалов Б.Б., Богданова К.М., Бардонова Л.К., Митупов Ч.Ц., Гришкина Т.М., Холбоева С.А., Быков И.П. Бурятия: растительный мир. Вып. II. Улан-Удэ : Изд-во Бурятского государственного университета, 1997. 250 с.
Петров К.М., Терехина Н.В. Растительность России и сопредельных стран. СПб. : Химиздат, 2013. 328 с.
Карта «Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий». Масштаб 1:7 500 000. (Карта на 2 листах; пояснительный текст и легенда к карте) / под ред. Г.Н. Огуреевой. М. : Изд-во ТОО «ЭКОР», 1999.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специализированные массивы. URL: http://meteo.ru/data (дата обращения: 18.03.2021).
Козловский В.Б., Павлов В.М. Ход роста основных лесообразующих пород СССР. М. : Лесная промышленность, 1967. 327 с.
Евдокименко М.Д. Роль пирогенного фактора в продуктивности древостоев // Факторы продуктивности леса / отв. ред. И.Н. Елагин. Новосибирск : Наука, 1989. С. 53-90.
Гирс Г.И. Физиология ослабленного дерева. Новосибирск : Наука, 1982. 256 с.
Barrett K., Baxter R., Kukavskaya E., Balzter H., Shvetsov E., Buryak L. Postfire recruitment failure in Scots pine forests of southern Siberia // Remote Sensing of Environment. 2020. Vol. 237. PP. 1-16. doi: 10.1016/j.rse.2019.111539
Holloway J.E., Lewkowicz A.G., Douglas T.A., Li X., Turetsky M.R., Baltzer J.L., Jin H. Impact of wildfire on permafrost landscape: A review of recent advances and future prospects // Permafrost and Periglacial Processes. 2020. Vol. 31, No. 3. PP. 1-12. doi: 10.1002/ppp.2048
Евдокименко М.Д. Лесоэкологические последствия пожаров в светлохвойных лесах Забайкалья // Экология. 2011. № 3. С. 191-196.
Евдокименко М.Д. Пирогенные нарушения гидротермического режима мерзлотных почв в светлохвойных лесах на юго-востоке Сибири // Почвоведение. 2013. № 2. С. 133-143. doi: 10.7868/S0032180X13020044
Евдокименко М.Д. Пирогенные нарушения лесорастительной среды в сосняках Забайкалья и их лесоводственные последствия // Лесоведение. 2014. № 1. С. 3-12.
Евдокименко М.Д. Микроклимат древостоев и гидротермический режим почв в сосновых лесах Забайкалья после низовых пожаров // Горение и пожары в лесу. Ч. III / отв. ред. В.В. Фуряев. Красноярск : Институт леса и древесины СО АН СССР. 1979. С. 130-140.
Евдокименко М.Д. Пирогенные трансформации сосновых лесов в Забайкалье // Лесоведение. 2008. № 4. С. 20-27.
Anenkhonov O.A., Korolyuk A.Yu., Sandanov D.V., Liu H., Zverev A.A., Guo D. Soil-moisture conditions indicated by field-layer plants help identify vulnerable forests in the forest-steppe of semi-arid Southern Siberia // Ecological Indicators. 2015. Vol. 57. PP. 196-207. doi: 10.1016/j.ecolind.2015.04.012
Kharuk V.I., Ranson K.J., Oskorbin P.A., Im S.T., Dvinskaya M.L. Climate induced birch mortality in Trans-Baikal lake region, Siberia // Forest Ecology and Management. 2013. Vol. 289. PP. 385-392. doi: 10.1016/j.foreco.2012.10.024
Juricka D., Novotna J., Houska J., Parilkova J., Hladky J., Pecina V., Cihlarova H., Burnog M., Elbl J., Rosicka Z., Brtnicky M., Kynicky J. Large-scale permafrost degradation as a primary factor in Larix sibirica forest dieback in the Khentii massif, northern Mongolia // Journal of Forestry Research. 2020. Vol. 31, No. 1. PP. 197-208. doi: 10.1007/s11676-018-0866-4
Forkel M., Thonicke K., Beer Ch., Cramer W., Bartalev S., Schmullius Ch. Extreme fire events are related to previous-year surface moisture conditions in permafrost-underlain larch forests of Siberia // Environmental Research Letters. 2012. Vol. 7, No. 4. PP. 1-9. doi: 10.1088/1748-9326/7/4/044021
Краснощеков Ю.Н., Евдокименко М.Д., Чередникова Ю.С. Влияние пожаров на экосистемы подтаежно-лесостепных сосновых лесов в Юго-Западном Прибайкалье // Сибирский экологический журнал. 2013. № 5. С. 633-643.
Евдокименко М.Д., Краснощеков Ю.Н. Лесоэкологические последствия пирогенных аномалий в бассейне озера Байкал // Сибирский лесной журнал. 2017. № 4. С. 66-77. doi: 10.15372/SJFS20170406
Санников С.Н., Санникова Н.С. Экология естественного возобновления сосны под пологом леса. М. : Наука, 1985. 149 с.
Фуряев В.В., Цветков П.А., Фуряев И.В. Пожароустойчивость сосновых лесов Евразии в экстремальные пожарные сезоны // Хвойные бореальной зоны. 2017. Т. XXXV, № 3-4. С. 68-73.
Санников С.Н., Санникова Н.С. Эволюционные аспекты пироэкологии светлохвойных видов // Лесоведение. 2009. № 3. С. 3-10.
Park S.-B., Knohl A., Lucas-Moffat A.M., Migliavacca M., Gerbig Ch., Vesala T., Peltola O., Mammarella I., Kolle O., Lavric J.V., Prokushkin A., Heimann M. Strong radiative effect induced by clouds and smoke on forest net ecosystem productivity in central Siberia // Agricultural and Forest Meteorology. 2018. Vol. 250-251. PP. 376-387. doi: 10.1016/j.agrformet.2017.09.009
Zhao F.J., Shu L.F., Wang M.Y., Liu B., Yang L.J. Influencing factors on early vegetation restoration in burned area of Pinus pumila - Larch forest // Acta Ecologica Sinica. 2012. Vol. 32, No. 2. PP. 57-61. doi:10.1016/j.chnaes.2011.12.006
Kharuk V.I., Ranson K.J., Dvinskaya M.L. Wildfires dynamic in the larch dominance zone // Geophysical research letters. 2008. Vol. 35, No. 1. PP. 1-6. doi: 10.1029/2007GL032291
Krivobokov L.V., Kharpukhaeva T.M., Mukhortova L.V. Surface fire impact on the floristic composition and structure of larch forest on permafrost to Western Baikal Region (Eastern Siberia, Russia) // Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety. 2013. Vol. 7 (2). PP. 83-96.
Sofronov M.A., Volokitina A.V., Kajimoto T., Matsuura Y., Uemura S. Zonal peculiarities of forest vegetation controlled by fires in Northern Siberia // Eurasian Forest Journal Research. 2000. Vol. 1. PP. 51-57.
Sofronov M.A., Volokitina A.V. Wildfire ecology in continuous permafrost zone // Permafrost ecosystems. Ecological studies (Analysis and synthesis) // ed. by A. Osawa, O.A. Zyryanova, Y. Matsuura, T. Kajimoto, R.W. Wein. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York : Springer, 2010. Vol. 209. PP. 59-82. doi: 10.1007/978-1-4020-9693-8_4
Yevdokimenko M.D. Fire-induced transformations in the productivity of light coniferous stands of the Trans-Baikal region and Mongolia // Fire in ecosystems of boreal Eurasia. Forestry sciences / ed. by J.G. Goldammer, V.V. Furyaev. Dordrecht: Springer, 1996. Vol. 48. PP. 211-218. doi: 10.1007/978-94-015-8737-2_16
Лебедев А.В., Горбатенко В.М., Краснощеков Ю.Н., Решеткова Н.Б., Протопопов Н.В. Средообразующая роль лесов бассейна Байкал. Новосибирск : Наука, 1979. 255 с.
Тармаев В.А., Корсунов В.М., Куликов А.И. Линейная эрозия в Байкальском регионе. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. 164 с.
Краснощеков Ю.Н. Почвозащитная роль горных лесов бассейна озера Байкал. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2004. 223 с.
Харук В.И., Пономарев Е.И. Пожары и гари сибирской тайги // Наука из первых рук. 2020. № 2 (87). С. 56-71.
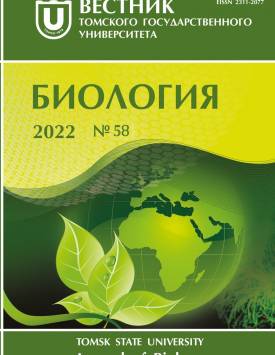

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью