Важное место в теоретической рефлексии о природе поэтики М. Шишкина занимает его творческий метод. Критики дают ему разные именования: реализм, постмодернизм, протомодернизм и др. Разнообразие мнений объясняется изменчиво-игровой, гибридной культурой постмодерна, которой принадлежит писатель. В статье М. Шишкин характеризуется как литературный преемник модернистской традиции Дж. Джойса. Природа связей его творческого метода с джойсовским рассматривается в двух аспектах, определяющих и особенности нарративной структуры его текстов: автобиографическом и интертекстуальном.
Joyce’s Literary Tradition in Mikhail Shishkin’s Prose and Its Evocation in the Story “The Blind Musician”.pdf В значительном корпусе исследований прозы Михаила Шишкина, помимо интересных статей [1-3], внимание привлекают два первых фундаментальных труда [4-5] и коллективная монография, созданная на базе материалов конференции, посвященной Шишкину как знаковому для современной русской литературы писателю [6]. Важное место в дискуссии занимает его метод. Есть работы, в которых прямо ставится вопрос о том, модернист Шишкин или постмодернист, но ответа на него не дается [7]. Есть и конкретные определения его метода, включающие реализм, постмодернизм, протомодернизм и другие именования, о чем обзорно написала С.Н. Лашова в своей диссертации [5]. Трудности определения понятны, если учитывать, что творчество М. Шишкина принадлежит современному этапу постмодерна с его изменчиво-игровой, цитатной, гибридной природой, сделавшего таковыми и жанры искусства. Представляется верной трактовка самой С.Н. Лашовой, которая характеризует метод Шишкина как «синкретичную художественную систему, доминантой которой является модернистское миропонимание, обрастающее постмодернистскими технологиями» [8. С. 18]. Джойсовская традиция письма в прозе Михаила Шишкина 41 М. Шишкин мастерски использует постмодернистские приемы письма, среди которых едва ли не основным является интертекстуальность. Роман «Венерин волос» в свое время даже вызвал многочисленные обвинения критиков и блогеров в плагиате из-за открытого «присвоения» автором чужих текстов. И.М. Каспэ, однако, справедливо считает эту тактику «осознанной программой письма, отличной от постмодернистской» [1. С. 27]. По словам самого Шишкина, «раскавыченные цитаты» из разных книг выполняют в его романе особую миссию: «Я хочу написать идеальный текст, текст текстов, который будет состоять из отрывков из всего, написанного когда-либо. При этом простой читатель сразу догадается, что предложение “Да”, заключающее этот кусок (кусок под названием “Последнее слово”. - Л.К.), есть Джойсово “yes”. Но мне важнее, что идеальный читатель знает, что это “да” - последний ответ Велимира Хлебникова на вопрос крестьянки, в доме которой он уходил из жизни: “Ну что, трудно умирать?”» [9]. Упоминание Джойса в этом ответе Шишкина оппонентам - беглое и вторичное, но в общем контексте интервью и эссе писателя далеко не единственное. И прямые отсылки в них к основателю модернизма, и композиционно-стилистические особенности художественных текстов Шишкина характеризуют его как «литературного сына» Джойса, преемника его модернистской традиции. Новое поколение он считает выпавшим «из мирового потока», пропустившим Джойса, и потому свою задачу видит в том, чтобы «пройти тот непройденный путь, сказать то же самое по-русски» и заставить западного читателя оценить новую русскую литературу не только из-за Толстого и Достоевского, которые в свое время оказали влияние на Джойса и его современников [10]. Тяга Шишкина к Джойсу, конечно, не раз отмечалась исследователями, но природа связей его поэтики с джойсовской - вопрос, заслуживающий специального исследования, пока еще не предпринятого. Оно сможет объяснить формирование модернистской доминанты в мировоззрении писателя и, соответственно, эстетические принципы интертекстуальности его прозы, восходящие к поздним романам Джойса с их «наглым» присвоением чужих текстов. В этой статье мы рассмотрим два аспекта генеалогических «сцеплений» текстов Шишкина и Джойса: биографический и художественно- Л.В. Комуцци 42 технический. Первый заключается в инкорпорировании автобиографических фактов в художественный нарратив, второй - в интертекстуальности как технике ритмизации нарратива. Для обоснования необходим сопоставительный анализ, для которого мы воспользуемся фактами биографий двух писателей, рассказами Шишкина «Урок каллиграфии», «Пальто с хлястиком» и его ранней повестью «Слепой музыкант», которую рассмотрим в указанных аспектах системно, рассказами Джойса из «Дублинцев» и его романами. Выбор повести «Слепой музыкант» в качестве основного объекта анализа можно объяснить тем, что произведения малых жанров Шишкина, в отличие от его романов, удостаивались исследовательского внимания в меньшей степени. Возможно, это объясняется предпочтениями самого автора: «Дело не в романе, это может быть и рассказ, какая разница. Просто новая дорога ведет через новый языкомир. Для меня роман более «ковчежен», потому что в коротком рассказе я просто ничего не успеваю, не умещаюсь» [11]. Но рассказы обоих писателей являются своего рода эмбрионами, прототипическими текстами, из которых вырастают образно-идейно завершенные «организмы» их романов. Такая литературная генеалогия дает основание предположить развитие «джойсовских» принципов автобиографизма и интертекстуальности в романных формах шишкинской прозы, в данной статье не уместившихся. Об этой органической связи между малыми и крупными формами произведений Джойса и Шишкина мы будем тем не менее тоже говорить. Автобиографичность как принцип модернистского письма Дж. Джойса и М. Шишкина Исследования историко-биографического контекста творчества Джойса, включая самый известный труд Ричарда Эллмана, составляют уже огромное поле джойсоведения, и оно постоянно расширяется [1213]. Об автобиографичности произведений ирландского модерниста можно уверенно судить по документальным свидетельствам его жизни, собираемым в многочисленных архивах и центрах Джойса в Дублине, Цюрихе, Триесте и др. Михаил Шишкин - наш современник, и о фактах его биографии мы судим по скупым анонимным статьям в Интернете [14]. Зато мы находим их творческое осмысление в литературных Джойсовская традиция письма в прозе Михаила Шишкина 43 творениях самого писателя, которые по степени приближения к правде намного превышают таковые у Джойса, эстетически преображавшего эпизоды своей жизни. Конечно, Шишкин не может и не стремится управлять фактами своей биографии, уподобляя ее джойсовской, но истории их жизней порождают заметный параллелизм - по сути, ритм биографий. И Джойс, и Шишкин получили образование в лучших столичных школах, одарены лингвистически, выполняли одинаковую временную работу помимо писательской (учитель, журналист, лектор, переводчик), для обоих смерть матери от рака и болезнь или утрата ребенка стали регулярными мотивами творчества, оба уехали в Швейцарию, чтобы писать о родине с дистанцированной метапозиции художника. У Джойса уже в университетские годы сформировалась жизненная стратегия отчуждения, «вненаходимости» по отношению к менее интеллектуальным сверстникам, семье, к популярному движению Ирландского Возрождения, традициям ирландской литературы и к католичеству. Тогда он публиковал в газете статьи об искусстве и эссе ницшеанского и социалистического толка. Написав восторженную рецензию на пьесу Ибсена, он получил письмо от самого норвежского драматурга, который высоко оценил своего восемнадцатилетнего рецензента. По замечанию Р. Эллмана, «до письма Ибсена Джойс был ирландцем; после него он стал европейцем» (Before Ibsen’s letter Joyce was an Irishman; after it he was a European [12. P. 75]). В 1904 г. он уехал за границу вместе с будущей женой Норой Барнакл и там публиковал газетные статьи об Ирландии, читал лекции в Народном университете, преподавал английский в школе Берлица - в Триесте, потом в Хорватском городке Пула, затем в Цюрихе. Шишкин уехал в Цюрих в 1995 г. со своей женой-итальянкой и стал, подобно Джойсу, «фигурой стороннего наблюдателя (“чужака”)», позволяющей «занять позицию “над”, т.е. остаться не до конца включенным в ассимилируемый контекст» [4. C. 8]. Помимо литературного труда он давал уроки, преподавал в университете, занимался переводами. Незаконченный роман Джойса «Стивен-герой», позднее переделанный в «Портрет художника в юности», - воплощение идеи создания автобиографического романа с героем-Художником, претворяющим предметность жизни в эстетические образы. Тот же принцип Л.В. Комуцци 44 сохраняется и в «Улиссе». В этих произведениях, особенно в «Портрете», прослеживается становление личности Художника с раннего детства. Необычно сильное для Джойса-ребенка влечение к языку, к слову характерно для протагониста рассказа «Сестры» с его зачаро-ванностью звучанием странных слов из катехизиса - «паралич», «гномон», «симония». В «Портрете» маленький Стивен также повторяет про себя «непонятные слова» пока не запоминает их наизусть. В романе отражено и детское переживание семейных раздоров на почве политических и религиозных убеждений. Таков эпизод с рождественским семейный ужином, закончившимся ссорой. Она разразилась между гувернанткой, католичкой миссис Конвэй, и отцом Джеймса вокруг национального героя Ирландского освобождения Парнелла. Миссис Конвэй (в романе - тетя Данте) отстаивала сторону клерикалов, которые прокляли Парнелла, а отец был его горячим последователем. Другой конфликт был спровоцирован уже самим повзрослевшим Джойсом. В 1904 г. у постели матери, умиравшей от рака печени, он отказался принять причастие. В первом эпизоде «Улисса» Стивен, глядя на гавань Кингстауна, реинкарнирует образ умершей матери и ту психотравмирующую сцену из прошлого: Stephen, an elbow rested on the jagged granite, leaned his palm against his brow and gazed at the fraying edge of his shiny black coatsleeve. Pain, that was not yet the pain of love, fretted his heart. The green of bay and skyline held a dull green mass of liquid. A bowl of white china had stood beside her deathbed holding the green sluggish bile which she had torn up from her rotting liver by fits of loud groaning vomiting [15. P. 5]. Натуралистичная сцена поднимается до завершенного эстетически образа с помощью ассоциативных переключений художественной реальности, которую Стивен видит сквозь обветшавший край рукава (зеленая вода в чаше бухты), на образ памяти - «чашу с зеленой желчью», которую мать Стивена «извергала из своей разложившейся печени в приступах рвоты», и чувствует «боль любви». Шишкин, перенося сходные драматичные события детства и юности в ткань литературных произведений, продолжает джойсовский жанр автобиографической прозы. В рассказе «Пальто с хлястиком» Я-повествователь раскрывает причины конфликта с матерью: в семнадцать лет он перестал разговаривать с ней из-за того, что она была в партии, а ему хотелось «вести борьбу с ненавистной системой» [16]. Год молчания сына и последующее увольнение с работы из-за вечера Джойсовская традиция письма в прозе Михаила Шишкина 45 в память Высоцкого, который мать - директор школы - разрешила провести старшеклассникам, привели к ее болезни. Болезнь матери и раскаяние сына изображены Шишкиным с джойсовским натурализмом, причем в двойной перспективе: через восприятие Я-повествователя и затем через отсылку к художественному воспроизведению им того опыта в романе «Взятие Измаила» [17]: Потом я описал это во «Взятии Измаила»: ее соседку в больнице, лысую от химиотерапии и не снимавшую беретку ; как разлетались по палате обрезки ее ногтей, когда я неуклюже пытался их постричь в нем было много цитат, связей, переплетений, а к концу я просто описывал то, что было в моей жизни. От сложного к простому. От книжного, начитанного - к маминому лифчику, набитому поролоном, который она надевала после того, как ей отрезали грудь [16]. Эта психотравма отражена и в ранней повести «Слепой музыкант», в образе умирающей от той же болезни героини: «Я ведь понимаю, как это неприятно: хождение в больницу, бинты, гной, судно. / Прекратите! Вам принесли протез? / Какой это протез, обыкновенный бюстгальтер. Набили чем-то. Помоги застегнуть» [18. C. 62]. В самом романе «Взятие Измаила», точнее, в его Эпилоге, Я-повествователь получает имя Михаил Шишкин [17]. Такая степень самоидентификации Шишкина-писателя со своим героем-повест-вователем ставила критиков в недоумение [4. С. 93]. На самом деле ее можно рассматривать как усиление джойсовского автобиографизма и, шире, как шаг вперед на пути уподобления современной художественной прозы реальности, отвечающий идеям А.Н. Веселовского и М.М. Бахтина о взаимовлиянии языков поэзии и прозы. В романе повествователь Михаил Шишкин детально излагает всю свою жизнь: детство (в частности, первый писательский опыт - «роман», отвергнутый «Пионерской правдой»), гибель восьмилетнего сына и как следствие - психическое расстройство первой жены, отношения с будущей женой, Франческой, которой посвящен роман. До Эпилога рассказаны две другие истории, объединенные общей метафабулой судебного дела (Страшного Суда) и, на первый взгляд, с историей жизни Михаила Шишкина не связанные. Первая происходит в XIX в. - защита адвокатом, Александром Васильевичем, молодой матери, убившей сына, вторая перемещена в сталинское послевоенное время - защита Владимира Павловича Мотте, подозреваемого в убийстве. Казенный стиль автобиографической статьи дореволюци- Л.В. Комуцци 46 онного адвоката, которую он пишет для энциклопедии, переходит в его рассказ-откровение о детстве, родителях, отношениях с женой и трогательное описание слабоумной дочери Анечки. Эта история из прошлого дистантно повторяется в современной истории Михаила Шишкина - его погибший малолетний сын и психическое расстройство жены становятся новой вариацией на тему отца, страдающего из-за болезни (смерти) ребенка. Автобиографический мотив любви-боли к ребенку - одно из сильных подводных течений текстов Джойса. Его переживания из-за дочери Лючии, склонной к помутнениям рассудка, отразились в «Улиссе» в виде травмы сознания Блума из-за умершего в младенчестве сына. Сама Лючия стала прототипом дочери Блума, Милли. О болезненной любви к детям - стихотворения «На берегу у Фонтана» и «Цветок, подаренный моей дочери» из сборника «Пенни за штуку» (1927). Первое связано с рождением сына и потрясением, которое осталась в записной книжке писателя в виде эпифании: «Я купал его в море на берегу у Фонтана, чувствуя с испугом и нежностью дрожание его худеньких плеч Пока он не родился, я не знал страха перед судьбой». Стихотворение - поэтическая вариация той дневниковой записи [19]: From whining wind and colder Grey sea I wrap him warm And touch his trembling fineboned shoulder And boyish arm. Around us fear, descending Darkness of fear above And in my heart how deep unending Ache of love! В стихотворении «Цветок, подаренный моей дочери» Джойс описывает встречу Амалии Поппер - его ученицы в Триесте - с Лючией. Влечение к Амалии отодвинуло любовь-сострадание к дочери, и стихотворение отражает чувство вины. Беглого взгляда на особенности автобиографичности прозы Джойса и Шишкина достаточно, чтобы сложилась общая картина. Шишкин следует писательской стратегии Джойса, вплетая в художественную текстуру сокровенные, болезненные эпизоды из собственной жизни. Сходны даже сами эти эпизоды произведений двух писателей, принадлежащих разным национальным и временным культурам. Сходны они и натурализмом, и психологическим реализмом изображения. Джойсовская традиция письма в прозе Михаила Шишкина 47 Шишкин лишь пошел дальше Джойса в прямоте и правдивости, назвав лирического героя своим именем и доведя джойсовский принцип мимесиса до предела. Предельная автобиографичность, с одной стороны, делает его продолжателем традиции классической русской литературы («любовь к Акакию Акакиевичу») и традиции отражения правды в литературе XX в., а с другой - присоединяет его к постмо-дернистсткой тенденции превращения художественного текста в реальность. Но если постмодернисты уничтожают романный дискурс вместе с персонажами, озвучивающими его, то Шишкин «играет» с ним для возвращения романа к жизни: «Новый тип романа - это просто другой путь, что приводит в ту же Ниневию, в которой каждого из нас любят и ждут» [11]. Интертекстуальность как прием ритмизации нарратива: Джойс и повесть Шишкина «Слепой музыкант» Новаторство Джойса состояло в изобретении радикальной интертекстуальности - метода письма, основанного на обширном подготовительном чтении для накопления «резервного фонда» слов и фраз, распределяемого затем по страницам «Улисса» и «Поминок по Финнегану» [20. P. 53-55]. Если Джойс придумал свой метод наглого использования чужих текстов для поздних романов, Шишкин наследует его уже в дебютном рассказе «Урок каллиграфии» (1993). О том, что он не изменяет данной технике и в последующих своих произведениях и доводит ее до буквального, компьютерного копирования и вставления, Михаил Шишкин свидетельствует сам спустя семь лет, за которые написал основные свои романы: «Я пишу следующим образом -собираю фразы, слова. Они могут прийти, откуда угодно. У меня в компьютере огромное количество файлов, которые собираются годами. Потом, когда появляется текст, я оттуда начинаю набирать эти фразы совершенно из разных миров. Они сцепляются, какая-то новая энергия появляется» [10]. Вторая идея, которой Джойс опередил постструктурализм, связана с биологическим образом анастомоза1 - текстуального сцепления, -1 Анастомоз (от гр. аѵааторюак;, сообщающееся отверстие) - биологический, медицинский и геологический термин. Он означает соединение трубчатых орга- Л.В. Комуцци 48 одновременно провоцирующим и отрицающим генеалогическое мышление. Этот образ возникает в воображении Стивена в эпизоде «Быки Солнца», происходящем в родильном приюте. Он думает, что все люди носят на теле знаки Евы как знаки своей предыстории, соединенные посредством «последовательного анастомоза пуповин»: «In woman’s womb word is made flesh because she is the second Eve whereas that other, our grandma, which we are linked up with by successive anastomosis of navelcords sold us all, seed, breed and generation, for a penny pippin» [15. P. 391]. Джойс мыслил литературное творение как параллель развитию эмбриона уже при создании «Дублинцев» [22. Эпизод 3]. В «Портрете» Стивен размышляет о «явлениях художественного зачатия» (the phenomena of artistic conception, artistic gestation and artistic reproduction) [23. C. 402]. Биологическая модель соединяется с теологической в образе «девственной утробы воображения», который возвышает нормативный процесс репродукции, уравнивая художественные творения с беспорочным зачатием: «O! In the virgin womb of the imagination the word was made flesh» [Там же. C. 409]. Идея художественного зачатия и развития «организма» текста обосновывается теорией «ритма красоты», которую автобиографический герой, Стивен Дедалус, формулирует в пятой главе «Портрета». Эта концепция составляет эстетический базис генеалогической преемственности его произведений: «Ритм это первичное формальное отношение части к части в эстетическом целом, или эстетического целого к его части или частям, или любой части к эстетическому целому» [Там же. C. 399]. В той же теории он излагает и свое видение драматической формы творения эстетического образа как оптимальной, позволяющей обезличить автора и превратить его в художника -«Бога-творца, остающегося внутри или вне своего создания» [24. C. 439]. В финале романа, обращаясь к Дедалу: «Old father, old artificer, stand me now and ever in good stead» [23. C. 441], - он утверждает генеалогию, основанную на расположении букв на странице (момент, который трудно поддается переводу), а не на узах кровной связи. нов - кровеносных сосудов, вен листа, линий эволюции и других естественных каналов [21. С. 72]. Джойсовская традиция письма в прозе Михаила Шишкина 49 В рассказе Шишкина «Урок каллиграфии» мир истории задается с самого начала буквой и строится на искусной имитации стиля русской прозы XIX в., причем ведущим приемом является игра даже не в слова, а в буквы алфавита, в смысло- и ритмообразующие эффекты почерка: «Заглавная буква, Софья Павловна, есть начало всех начал, так что с нее и начнем. В первой букве, как в эмбрионе, затаена вся последующая жизнь до самого конца - и дух, и ритм, и напор, и образ» [25. С. 1]. Выбор переписчика в качестве главного героя - интертекстуальная отсылка к Акакию Акакиевичу и князю Мышкину - попытка оправдать их ущербность освященной временем монастырской традицией и магической силой их занятия, которым движет некая «высшая воля» языка. Язык в его графическом воплощении доминирует над сюжетом, и создается иллюзия, что переписчик - это исполнитель Божьей воли, а образ совершенного листа бумаги «приподнимается над происходящим» и становится «кусочком пространства, отвоеванным другим, высшим миром, миром гармонии у этого царства червей» [Там же. C. 7]. Интертекстуальность повести «Слепой музыкант» уже становилась предметом исследования и трактовалась как прием повествования, связывающий реализм с постмодернизмом [26]. Из этой связи выпадает джойсовская функция анастомозных соединений «всего со всем», в данной повести реализуемая через ритм переходов внутреннего монолога героини по имени Женя с миметического на игровой, интертекстуальный. История Жени сплетена из четырех сюжетов: 1) любовная история с другом отца, Алексеем Павловичем; 2) история самоубийства ее матери; 3) история ее жизни с отцом; 4) побочная история с Ромой -слепым музыкантом. Фабульные события начинаются и заканчиваются в прихожей, создавая мотив «пороговости» ситуации и отмечая точки «земного» пути героини. Чередование этапов ее пути перебивается «голосами» второстепенных персонажей, которые травмируют Женю и заставляют ее сознание переходить из настоящего в прошлое. Из рассказов матери Ромы Женя узнает подробности самоубийства своей матери в ванной, жестокие детали вымещения ею отчаяния на маленькой дочери. От матери Алексея Павловича она узнает историю его женитьбы на Вере Львовне, о ее выкидышах и изменах. От самой Веры Львовны она слышит Л.В. Комуцци 50 признание в том, что ее любовником был не кто иной, как ее, Жени, отец. Этот контрапункт порочных речевых партий, в свою очередь, с определенной регулярностью перебивается партией «слепого музыканта», которая составляет особый иронично-отчужденный лейтмотив за счет самой формы, имитирующей речевую манеру XIX в. В отличие от героя одноименной повести Короленко, слепой музыкант у Шишкина является второстепенным персонажем, беспомощным объектом манипуляций матери и главной героини, и музыкального таланта не имеет. Все это многоголосие, воспринимаемое «дневным» слухом Жени, в свою очередь, ритмически чередуется с ее ночными внутренними монологами. Их она излагает в письмах Алексею Павловичу, которые никогда не отправляет. Всего писем девять, и они составляют почти половину повести - такой объем текста свидетельствует об их ценностной значимости в смысловом пространстве произведения. Письма Жени контрастируют с миметическими, реалистичными сценами из ее дневной жизни. Контраст создается интертекстуальностью, позволяющей перевести «дождливую реальность» в фантазийные субъективные миры, в альтернативное пространство, где она «в недосягаемости». В первом письме героиня видит себя персонажем иллюстрации «Гулливера» - в окно заглядывает «не наших, лилипутских мерок лицо», и это приводит ее в замешательство. В поэтике Свифта лилипуты - фантастические участники карнавальных игр с телесными функциями «низа» вроде пикантного способа тушения Гулливером дворца королевы и экспериментов лапутянского академика по превращению испражнений в еду [27]. В финале романа Гулливер после совокупления с самкой йеху получает способность видеть в людях йеху - их «другое я». Перенос свифтовской соматико-психологической поэтики на образ Жени подсвечивает ее игровую и феминную составляющую. Увидев лилипута, она осознает, что объект ее страсти - лишь «плод ее фантазий». Свифтовские художественные эксперименты, трансформированные в сознании Жени, «ризоматично» сцепляются с упомянутыми матерью Алексея Павловича гастролями театра лилипутов в Ялте. Женя запоминает комичную повторяемость этого явления: «Вот Джойсовская традиция письма в прозе Михаила Шишкина 51 смешно - я в Ялте сто лет назад была, и тоже лилипуты». [18. С. 73]. Как и другие детали повествования, этот обрывок чужого воспоминания является способом «анастомозной» связи, соединяющей мир фантазийного дискурса героини с миром обыденной жизни. Перевоплощение в Психею помогает читателю понять лучшие качества героини - совестливость, готовность проходить через испытания, чтобы обрести бессмертие души, любопытство, присущее Луцию и самому Апулею (он отождествляет себя с героем в последней книге «Метаморфоз»), Одиссею, Робинзону Крузо, Гулливеру и другим хрестоматийным героям-путешественникам. Земное странствие Жени - модернизированное повторение пути Психеи: 1) счастье с «тайным мужем» и потеря его вследствие осложнения ситуации (возвращение из больницы жены); 2) испытания в виде «слепца и его мамаши» (первый мучает Женю отталкивающими привычками, вторая - психотравмирующими речами) и других участников истории с их воспоминаниями об отце героини, добровольным уходом за больными Верой Львовной и Ромой; 3) восстановление душевной и телесной гармонии и божественный дар видеть истину. Течение ее речи-мысли там, где она входит в образ Психеи, почти сливается с текстом Апулея, с его описанием кульминационной сцены «в спальне Амура»: «Тут Психея, слабея телом и душою, но подчиняясь жестокой судьбе, собирается с силами и, вынув светильник, взяв в руки кинжал, преодолевает женскую робость. Психея не владеет собой, покрывается томною бледностью и, трепеща, опускается на колени, ища, куда бы спрятать оружие» [28. C. 187]. Сравним: «И вот, оставшись одна, она волнуется в скорби, хотя решение принято и душа непреклонна, все же еще колеблется . Тут Психея, слабея телом и душой, встает, вынимает светильник, стискивает в кулаке бритву, делает шаг, все еще не смея взглянуть, потом поднимает лампу, ожидая увидеть на ложе своем бога или зверя, а там - Вы» [18. C. 63]. Во втором письме интертекстуальность формируется отсылкой к первой почтовой открытке1: «Вы просили: никаких писем. Наивный мой Алексей Павлович, Вы забыли про cartes postales. Ведь недаром же плешивый профессор Венской военной академии опустил когда-то 1 Первая почтовая карточка с маркой достоинством в два крейцера была выпущена в Австро-Венгрии 1869 г. [29]. Л.В. Комуцци 52 в почтовый ящик первую открытку, отдав за нее два крейцера и всю душу» [Там же. C. 64]. Эта отсылка к истории почтовой открытки переходит в монолог-медитацию Жени о прошлом, об отрочестве, когда и проснулось в ней чувство к Алексею Павловичу. Заканчивается «открытка» раскавыченной цитатой сразу из Ветхого и Нового Заветов и отсылкой к рекуррентной для произведений Шишкина теме Страшного Суда, вплетенными в монолог пьяного отца (врача роддома): «Я им: вот и вы! И пуповинки им отрезаю. С появлением на свет Божий! А они кричат, недовольны! Думали, тут свет Божий, а здесь самое Царство Тьмы и есть. всю чашу каждому испить придется!» [18. C. 64]. Переклички с джойсовскими генеалогическими образами здесь очевидны - и дерево, и родильный дом, и пуповины, «привязывающие» человека с рождения к первородному греху. Сцепление этих тем с образом открытки определяет и сюжетное развитие - важную функцию в нем играет «обманный ход» с реальной пустой открыткой из Крыма, которую Женя принимает «на свой адрес», думая, что это знак любви от Алексея Павловича, а в конце узнает, что это знак любви Веры Львовны к ее отцу. В четвертом письме - чистом потоке сознания - она в духе последней главы «Улисса» фантазирует на тему своего первого свидания. Алексея Павловича она возвышает до самого Зевса в его перевоплощениях («то быка-грубияна, то лебедя-шептуна», то «солнечного луча», то орла), а себя - до многоликой жертвы его любвеобилия (Европы, Леды, Данаи и «индийского пастушка» - Ганимеда). Но ее «Бог» подчиняется страстной воле «жертвы»: «Бог-дитя, даже на ворованном ложе, на той небесной простыне ты хотел быть моим послушным отражением, податливым поводырем, и тут ты хотел быть моим ребенком» [Там же. С. 66]. В последнем письме, излагающем жестокий ее поступок - игру на чувствах Ромы и обманный маневр со свадьбой и обещанием «сделать все, чтобы ему было хорошо», - героиня в качестве защитной реакции деперсонализуется, называя себя «Женей». Театральное вживание в роль будущей жены слепого, который вызывает у нее физическое отвращение, доводится до садомазохистской игры с «низом»: «Женя просиживала у его кровати дни и ночи, кормила с ложечки, давала лекарства, протирала потное тело губкой, меняла постель, водила в уборную» [Там же. С. 76]. Джойсовская традиция письма в прозе Михаила Шишкина 53 В «феминном» дискурсе Жени иррациональное подавляет социальную личность, и ее «Я» предстает расщепленным - «Я и не Я». Она может видеть свое «другое Я» и в Данае, и в лилипуте, и в похотливой самке, и в реальной «Жене», которая способна на садизм. Но эта размытость границ между «Я» и «Другим / Другими» вводится и в миметически воспроизведенный дискурс. Из слов матери Алексея Павловича Женя понимает, что та тоже была «самкой»: «Еще не знаешь, что ты - это я. Я-то знаю. Все ведь было. У меня, Женя, представляешь, после каждого раза через какое-то время снова зарастало» [18. С. 70]. Она умрет, но ее женская природа остается в Жене, которая дает ей выход в конце повествования. В своей освобожденной агрессии самки она не только «вырывает с мясом» пуговицу из пальто Веры Львовны, но и фактически добивает ее саму: «В ванной что-то тяжело шлепнулось на пол» [Там же. С. 79]. Творя альтернативный дискурс, героиня уходит на «метапозицию», дающую возможность увидеть мир «дождливой реальности» отраженным в зеркале искусства. Интертекстуальность обеспечивает игровую возможность «расщепить» сознание героини, чтобы исцелить ее. В первых письмах она лилипут и самка йеху, предающаяся, как и все вокруг, порочным телесным играм, подчиняющая морально и физически ущербных мужчин и уничтожающая соперницу. Но благодаря этим письмам она получает и волшебную способность видеть и принимать себя и других. Этот же прием, ритмизуя повествование, организует и тематические оппозиции «тьма / свет», «жизнь (рождение) / смерть», «тело / душа», «грех / святость», «ад / рай». Они получают сначала символические актуализации в первых письмах, а затем конкретизируются денотативными значениями в контекстах реальных эпизодов. Переход от «феминной» рефлексии к фактам отражает разворот ментального пути героини от небезопасных игр разума к готовности увидеть действительность без иллюзий и обмана. Ад и «свет Божий» соединяются через природные образы - ботанические, зоологические и антропологические. «Рай» представлен фантазийными картинами «дачного пейзажа», все равно отмеченного образами смерти: мертвые рыбки на опавших листьях, «дохлые мошки», «зудение жуков в запотевшей морилке», юная «инсектантка». «Ад» в повести - это и виварий, в котором свершается акт любви сре- Л.В. Комуцци 54 ди лая собак, брызгающих слюной, и лаборантская со «строем заспиртованных наших меньших братьев с кишками наружу», где происходят унизительные разговоры Жени с трусливым прелюбодеем «Алешенькой», и ванна, в которой страшно умирает мать Жени, и дом, где живут и «умертвляют друг друга по кусочкам» родные люди, и больница с «усохшей старухой». В диалоге с «Алешей» в лаборантской, на фоне банок с «препарированными пучеглазыми», Женя называет их любовную связь «Гимном пошлости. Пестиками и тычинками. Жизнью и смертью» [18. С. 65]. Биологический образ совокупления - «пестики и тычинки» - и тема греховного сладострастья являются в повести всеобъемлющими. Финальная фраза повести: «Крепче обхватила, прижала изо всех сил Засмеялась, уже вбирая в себя жизнь» [Там же. C. 79]. Помимо «пестика» в семантической сетке повести есть и другие «соединительные сосуды». Одним из них является стеклянная колба, которую Женя приставляет к стене и подслушивает беспощадный рассказ тети Мики о самоубийстве матери. Другой - замочная скважина, через которую Женя подглядывает за тетей и ее слепым сыном. Но животворящая энергия «пестиков и тычинок», как и ботанических образов в финале «Улисса», перекрывает мрачные картины адовых мук. Заключение Художественная система М. Шишкина генеалогически связана с модернистской традицией письма. Она формируется джойсовской теорией ритма красоты, обнаруживаемой в тривиальной природе жизни. Шишкин развивает поэтику джойсовского автобиографического романа, воспроизводит джойсовскую технику интертекстуальности и анастомозных соединений «всего со всем». Повесть «Слепой музыкант» содержит все названные свойства модернистской поэтики. Игра со светом и тьмой, заданная циклическим ритмом смены дня и ночи, периодичностью переключений дискурса с миметического на мифопоэтический (интертекстуальный), приводит к выходу героини к свету жизни. Эти структурные приемы повествования напоминают таковые в рассказах и романах Джойса, герои которых, подобно Минотавру, бессмысленно передвигаются по лабиринтам Дублина, пока в моменты просветления-эпифании их сознание Джойсовская традиция письма в прозе Михаила Шишкина 55 не уловит правду о себе, запечатлев красоту тривиального. Модернистской является и идеология Шишкина - его «новый языкомир» творится как форма примирения человека с несовершенством мира и способ прояснения его смыслов.
Каспэ И.М. «Глина документа»: роман Михаила Шишкина «Венерин волос» // Когда говорят вещи: документ и документность в русской литературе 2000-х : препринт WP6/2010/02. М. : Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. 48 с.
Рыбальченко Т.Л. Дети и детство в романе М. Шишкина «Венерин волос» // Русская литература в XX веке. Томск : Том. гос. ун-т, 2008. С. 247-269.
Рогова Н.Е. Некоторые аспекты художественной целостности романа М. Шишкина «Письмовник» // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 5 (31). С. 105-118.
Оробий С.П. «Вавилонская башня» Михаила Шишкина: опыт модернизации русской прозы. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2011. 161 с.
Лашова С.Н. Поэтика Михаила Шишкина: система мотивов и повествовательные стратегии : дис.. канд. филол. наук. Пермь, 2012. 178 с.
Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин / под ред. А. Скотницкой и Я. Свежего. Краков : Scriptum, 2017. 507 c.
Безрукавая М.В. М. Шишкин: кто он - модернист или постмодернист? // Приволжский научный вестник. 2014. № 11-1 (39). С. 74-76. URL: https://cyberlenmka.ru/article/v/m-shishkm-kto-on-modemist-ili-postmodernist (дата обращения: 19.01.2019).
Лашова С.Н. Поэтика Михаила Шишкина: система мотивов и повествовательные стратегии : автореф. дис.. канд. филол. наук. Пермь, 2012. 20 с.
«...наносит ответный удар». URL: https://mezhdu.livejournal.com/9359.html (дата обращения: 19.01.2019).
Шишкин М. «Писатель должен ощутить всесилие» : интервью, 04.08.2010. URL: http://apps.kontrakty.ua/coffe/17-mikhail-shishkin/32.html (дата обращения: 15.01.2019).
Шишкин М. «Язык - это оборона». Михаил Шишкин о новом типе романа, русском языке и любви к Акакию Акакиевичу (беседу вел Г. Морев) // Критическая Масса. 2005. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/km/2005/2/sh3.html (дата обращения: 11.01.2019).
Ellmann R. James Joyce. Oxford : Oxford University Press, 1983. 887 p.
Bowker G. James Joyce: a New Biography. New York : Farrar, Straus and Giroux, 2013. 656 p.
Шишкин Михаил Павлович : биография и книги автора // RuLit : электронная библиотека. URL: https://www.rulit.me/authors/shishkin-mihail-pavlovich (дата обращения: 20.01.2019).
Joyce J. Ulysses. New York : Vintage Books, 1966. 783 p.
Шишкин М. Пальто с хлястиком. URL: https://7books.ru/readbook/palto-s-khlyastikom-mikhail-shishkin (дата обращения: 15.02.2019).
Шишкин М.П. Взятие Измаила // Знамя. 1999. № 10-12. URL: http://lib.ru/PROZA/SHISHKIN/izmail.txt (дата обращения: 25.01.2019).
Шишкин М.П. Слепой музыкант // Знамя. 1994. № 1. 62-79.
Джойс Дж. Стихотворения : сб. : на англ. яз. с парал. рус. текстом / сост. Г. Кружков. М. : Радуга, 2003. 240 с. URL: http://www.james-joyce.ru/works/joyce-poems.htm#t1 (дата обращения: 19.01.2019).
Baron S. Joyce, Genealogy, Intertextuality // Dublin James Joyce Journal. 2011. № 4. P. 51-71. URL: http://ucl.academia.edu/ScarlettBaron/Papers/1520098/Joyce_ Genealogy_Intertextuality (accessed: 10.01.2019).
Червинский П., Надель-Червинская М. Толково-этимологический словарь иностранных слов русского языка. Тернополь : Крок, 2012. 640 с.
Хоружий С.С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Дж. Собрание сочинений : в 3 т. М. : ЗнаК, 1994. Т. 3: Улисс : роман (ч. Ш) / пер. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего. С. 363-605. URL: http://joyce.msk.ru/horuj.htm (дата обращения: 15.01.2019).
Джойс Дж. Дублинцы. Портрет художника в юности : на англ. яз. / предисл. и коммент. Е.Ю. Гениевой. М. : Прогресс, 1982. 588 с.
Джойс Дж. Дублинцы. Портрет художника в юности. Стихотворения. Изгнанники. Статьи и письма / пер. М.П. Богословской-Бобровой. М. : Пушкинская библиотека : АСТ, 2004. 439 с.
Шишкин М.П. Урок каллиграфии. URL: https://www.rulit.me/books/urok-kalligrafii.read-274845.html (дата обращения: 29.01.2019).
Ингеманссон А.Р. Особенности повествовательной структуры повести М. Шишкина «Слепой музыкант» // Ярославский педагогический вестник. 2012. № 2, т. 1. С. 230-233.
Вахрушев В.С. Джонатан Свифт // Вахрушев В.С. Поэтика английского романа XVI-XVIII веков. Балашов : Николаев, 2008. С. 45-69.
Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел : роман / пер. М. Кузмина) // Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М. : Худож. лит., 1988. С. 112-304.
Краткая история почтовой открытки // Каталог почтовых открыток СССР. URL: http://izogiz.ru/statiya/istoriya_otkrytki (дата обращения: 16.02.2019).
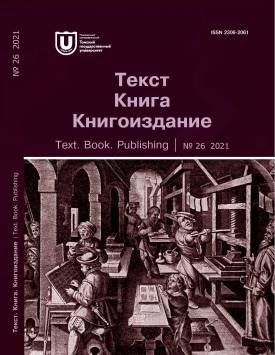

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью