Постсоветская история в зеркале литературы
Предпринята попытка нарративного анализа современных художественных текстов, посвященных трагическим событиям 1990-х гг. на постсоветском пространстве. Предметом анализа стали роман В. Медведева «Заххок» и книга рассказов Н. Абгарян «Дальше жить». Исследование опирается на модель повествовательной структуры В. Шмида и ее ключевые компоненты: совокупность событий, персонажей и действий, способы их организации и презентации. Делаются выводы о сочетании персонального, публичного и эпического нарративов как авторской стратегии повествования. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Post-Soviet history in the “mirror” of literature: Experience in narrative analysis.pdf Нарративный анализ художественных произведений позволяет, используя накопившийся в науке инструментарий, раскрывать современные повествовательные тексты во всей их многоуровневой глубине особенно если эти тексты касаются актуальных и злободневных политических событий, о которых привычнее говорить языком публицистического дискурса. Из всего многообразия жанрово-стилевых решений проблемы «человек в потрясенном мире» автор статьи выбрал для исследования прозу, отразившую жестокую и трагическую реальность через магический кристалл многовековой культуры, на территорию которой обрушилась война. Сюжетной основой книг В. Медведева «Заххок» и Н. Абгарян «Дальше жить» стали военные конфликты, спровоцированные в Таджикистане и Нагорном Карабахе, так или иначе, распадом Советского Союза. Цв. Тодоров, один из основоположников нарратологии, выделял в структуре фабулы два принципиально значимых состояния: равновесие, 23 Отургашева Н.В. Постсоветская история в зеркале литературы его нарушение и последующее восстановление [1. С. 88-89]. Ю.М. Лотман, предложивший структурно-семиотический метод изучения литературы и культуры, в качестве главного звена сюжета называл событие -«перемещение персонажа через границу семантического поля», предполагающее нарушение принятых в данном мире правил и нормального, привычного порядка вещей [2. С. 223]. В выбранных для анализа произведениях причиной нарушения равновесия и привычного уклада жизни является война: она разворачивается перед читателем в рассказах ее очевидцев и участников (В. Медведев) или в рефлексии и воспоминаниях переживших ее людей (Н. Абгарян). Специфичность авторского взгляда заключается в осознании войны не как завершившегося события, но как до сих пор длящегося состояния, которое пронизывает, деформирует и разрушает судьбы людей и целых народов. По горькому замечанию Н. Абгарян, «это война, в которой мы живем». Однако именно преодоление враждебного человеку состояния ужаса и страдания является единственно возможным залогом наступления будущего. Представленные книги - серьезный вклад в эту трудную, но необходимую духовную работу. Профессор славистики Гамбургского университета и руководитель Гамбургского центра нарратологии В. Шмид признаками нарративной структуры называет не только изменение состояния (внутреннего или внешнего), но и наличие повествующей об этом инстанции, обладающей персональной точкой зрения и, соответственно, специфическим языком сообщения (презентация наррации). Уровнями нарративной структуры в его концепции выступают, взаимодействуя друг с другом, событие («совокупность ситуаций, персонажей, действий»), история («результат смыслопорождающего отбора ситуаций, лиц, действий и их свойств»), наррация («результат композиции, организующей элементы событий в искусственном порядке») и презентация наррации (собственно, нарративный текст, доступный читателю) [3. С. 158-160]. Эти ключевые для анализа повествовательного текста уровни его организации и будут предметом рассмотрения в данной статье. Действие романа «Заххок» разворачивается в Таджикистане, в далеком горном кишлаке Талхаке в 1990-е гг., в разгар гражданской войны между правительственными войсками и оппозицией. Сюжетообразующее значение хронотопа в конструировании текста показал в свое время М. Бахтин: хронотопы «являются организационными центрами основных сюжетных событий романа», в них «завязываются и развязываются сюжетные узлы» [4. C. 282]. Талхак расположен далеко от больших городов, его население живет привычным крестьянским трудом, именно 24 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice поэтому укрыться в нем от политических страстей и гражданской войны надеется семья убитого таджикского врача Умара. В тесном мирке горного селения пространство большого мира уплотняется, время сжимается в тугую пружину перипетий, а идеологические и политические коллизии неминуемо осложняются бытовыми разногласиями людей, веками живущих бок о бок. Роман имеет полифоническое звучание: представление и осмысление реальности осуществляется голосами разных персонажей, втянутых, зачастую помимо их воли, в круговорот страшных событий военного лихолетья. Повествование ведут убегающие от гражданской войны 16-летние дети русской учительницы и таджикского врача Андрей и Зарина; их дядя, сельский ветеринар Джоруб; простодушный парень из горного кишлака Карим по прозвищу Тыква; российский журналист Олег, прибывший в Таджикистан по заданию редакции газеты; бывший советский офицер, возглавляющий личную армию полевого командира Даврон; суфийский шейх, а в прошлом - светский человек, кандидат философских наук, Эшон Ваххоб. У каждого из них свой жизненный опыт, своя шкала оценок и, вследствие этого, персональная точка зрения: специфический ракурс наблюдения за происходящим, собственная интерпретация событий и определенный речевой регистр. Многоголосие не схожих между собой взглядов, рассказов, оценок создает широкий и разнообразный контекст повествования, тем более что эти голоса принадлежат представителям разных культур, вероисповеданий и поколений. Культурная память, различными способами артикулируемая в «Зах-хоке», начиная с названия, становится мощным основанием для происходящих событий, придает им вневременную и трагическую окраску, проявляет страшную закономерность в отношениях тирана и его жертв. В условиях деформации и прямого уничтожения государственных структур утвердить свое владычество над миром и людьми стремятся самые разные персонажи: и бандиты, и вчерашние партийные функционеры, и затаившие обиду на сельчан лукавые интриганы, представители крестьянского мира. Все они унижают, предают, уничтожают соплеменников в стремлении к вожделенному господству. Феномен зла в разных его проявлениях и на разных уровнях общества исследуется автором с большой художественной силой и глубиной. Зухуршо - «главный злодей» романа, бывший инструктор райкома, а ныне полевой командир, претендующий на безграничную власть над людьми: «Теперь я - государство», - провозглашает он. Для поддержания авторитета Зухуршо носит на плечах удава - аллюзия на змеиного царя Заххока из древнеиранского эпоса, жестокого и властного правите-25 Отургашева Н.В. Постсоветская история в зеркале литературы ля, который скармливает змее человеческий мозг. Имя этого преступного царя и стало названием книги. Зухуршо нет среди повествователей, он лишен автором права голоса и, соответственно, персональной точки зрения на происходящие события - кредит доверия ему не выдан: «Никто ему не верил. Да и как поверить человеку, таскающему на себе огромного удава... - Он что, клоун? Зачем людей смешит?» [5. С. 170]. Олег, корреспондент московской газеты, делает интересное наблюдение: Зухуршо «...жрет власть в три горла. Обжирается. Представляю, как он в бытность свою партийным инструктором подчинялся, терпел, сдерживался, откладывал и теперь, когда дорвался до “настоящей”, абсолютной, никем не ограниченной власти, не желает себя сдерживать и хоть на секунду откладывать получение того, что захотелось.» [5. С. 183-184]. Нарратив Олега ориентирован на анализ и рефлексию, в центре его размышлений - проблема нового мироустройства и, в частности, феномен власти, ее сущность и проявления. Этические «границы семантического поля» нарушаются и разрушаются в романе героями - двойниками центрального персонажа, которые наряду с ним стремятся захватить власть и употребить ее себе во благо. Сводный брат Захуршо замышляет его убийство, неслыханное преступление против устоев патриархального общества: «Милиции нет, прокуратуры нет, никакой власти нет. Я буду здесь власть» [5. С. 331]. Гадо умен, коварен, двуличен и жесток - им движет ненависть к брату и желание мести за многолетние унижения. Религиозно-духовную власть в горном кишлаке испокон веков представляли суфийские шейхи, однако Эшон Ваххоб, в прошлом кандидат философских наук, член Таджикской академии наук, получил этот статус вопреки своему желанию принял его от отца вместо умершего старшего брата. Бремя ответственности мучительно и безрадостно: невозможно «поддерживать гармонию и равновесие» в мире, если «сухо и пусто внутри. Гулко, как в пещере» [5. С. 209]. Неслучайно Эшон Вах-хоб чувствует себя самозванцем и обманщиком: он не в силах защитить соплеменников от вражды и тирании: «...коли я не имею права распорядиться собственной жизнью - смогу ли властвовать над душами мюридов?» [5. С. 203]. Эшон Ваххоб тоже пытается организовать заговор против Захуршо, надеясь взять бразды правления в свои руки. Именно он формулирует лукавые основы манипулятивной стратегии: «... в этом и состоит главное искусство власти - управлять не действиями, а желаниями подвластных, чтобы желания в свою очередь управляли их действиями.» [5. С. 339]. 26 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Именно он рассказывает притчу, которая раскрывает философию власти и настраивает оптику читательского восприятия событий определенным образом: жители некоей страны, убив жестокого царя, безуспешно пытались сделать правителем то пастуха, то земледельца, то рыбака, которые каждый раз не оправдывали их ожиданий. Тогда они решили править сообща, а «через год страна пришла в запустение и была завоевана соседним правителем» [5. С. 343]. Система персонажей романа так же, как и в притче, представляет разнообразный спектр претендентов на власть и носителей злой воли. Сниженный, бытовой вариант «злодея из дешевой мелодрамы» -сельский староста Шокир, калека, озлобленный и обиженный на односельчан, пытается утвердить свою значимость ценой интриг и предательства интересов общины: «А я зэком быть не желаю. Я, может, сам вертухаем стать хочу» [5. С. 51]; «Молодежь теперь бунтует... Старших не слушают, не уважают. Меня, асакола, не уважают, власти моей не признают. Еще такие слова про вас говорят, что пересказать не смею», -нашептывает он Эшону Ваххобу [5. С. 335]. На узкие улочки горного кишлака выплескивается агрессия и ненависть, противостоять которым способен только деревенский дурачок Милиса, закрывший собою старосту от разъяренной толпы, готовой свести с ним счеты: «... печальны времена, когда одно только безумие противостоит неразумию», - восклицает Джоруб [5. С. 400]. Его голосом в романе говорит сельская община, сплоченная веками трудной трудовой жизни, но распадающаяся на наших глазах под давлением грубой, жестокой силы и соблазна вседозволенности. Патриархальный уклад рушится под натиском новой идеологии, которую провозглашает совхозный водитель Шер: «Отцы и деды скудно жили, во всем уступая, всем подчиняясь. Это мудрость слабых. Другое время пришло. Время сильных» [5. С. 49]. И сила эта разрушительна и слепа. «Порча, которую занес к нам Зухуршо, заразила и старших, и младших», - с горечью замечает Джоруб. Вирус зла продолжает распространяться и после смерти его главного носителя, он растлевает тех, кто с ним соприкасался, склоняя их к жестокости, заговорам, бесчинствам и убийствам. Скверна зла распространяется по миру, заражая и победителей и побежденных. Хотя если война идет в одной стране, нет ни первых ни вторых. Феноменология злодейства раскрывается в романе на разных уровнях организации текста: событийно-фабульном, этическом, онтологическом. Действие начинается с убийства таджикского врача Умара, в результате которого его семья и оказалась в горном кишлаке у таджикских 27 Отургашева Н.В. Постсоветская история в зеркале литературы родственников. А заканчивается вопросом шестнадцатилетнего Андрея, взывающего к его памяти: «Что с нами со всеми будет?» И нет ответа на этот трудный вопрос. Композиция романа имеет центрический характер: события разворачиваются вокруг полевого командира Захуршо или инициируются им непосредственно, а сам он, по сути, выступает персонифицированным образом зла. Персонажи занимают в произведении определенный статус в зависимости от тех действий (функций), которые они совершают по отношению к Захуршо: среди них есть деятели и борцы, вступающие в открытое столкновение с новоявленным тираном, и его жертвы; есть честолюбивые искатели власти и наблюдатели происходящей борьбы. Определенная автором последовательность их рассказов задает динамику и объемность повествования. Острая социальность и злободневность произведения поверяется иным, вневременным масштабом истории и культуры человечества. В терминах социолога М. Соммерса [6], персональный нарратив (личная история) трансформируется в публичный нарратив (гражданская война, социальная история) и, далее, в метанарратив, который выходит за пределы конкретной эпохи, развивается в разных пространственновременных границах и превращается, таким образом, в эпическое повествование. Подобная трансформация обеспечивается включением в нарративную структуру компонентов мифологического сознания: это и живущие в народной памяти предания старины (священное дерево арча, охранники полевого командира - дэвы, советы горцы спрашивают у эшона), и переходящие от поколения к поколению законы предков, которые не только цементируют уклад нелегкой патриархальной жизни горцев, но и формируют их ментальность. Заметим, что Джоруб периодически вспоминает лирические сентенции «великого поэта, соловья Талхака», Валиддина Хирс-зода: повторяясь, история каждый раз доказывает непреложность уже изреченных истин: «Мой друг, не торопи событий лёт - На смену, может, худшее придёт». Критики справедливо отметили эту смысловую объемность романа, заданную сложной структурой нарративных стратегий: «По форме -образцовый постколониальный роман, по сути - универсальное и вневременное повествование, работающее сразу и на сюжетном, и на фило-софски-метафизическом уровне, “Заххок” Владимира Медведева -определенно одна из лучших книг года, да и вообще один из лучших романов, написанных по-русски за последнее время» [7]. Прошлое с его преданиями и верованиями прочно укоренено в представлениях героев романа - носителей мифологического сознания: для 28 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Карима Тыквы естественно советоваться с умершим дедом, для жителей кишлака - поклоняться священному дереву арча. Собственную мифологическую концепцию создает Даврон - для объяснения наступившего хаоса; Пользуется сложившимся в иранском эпосе образом отцеубийцы и тирана Зухуршо - для устрашения толпы. Даже стилистика речи Джоруба приобретает свойственную эпическому нарративу формульность и динамичность: «Зухуршо в камуфляж одет, на плечах у него огромная змея лежит... Змея голову вытягивает, вперед смотрит. Хвост шевелится. Змея в серых и черных пятнах, и камуфляж у Зухуршо тоже серо-черный, пятнистый. И кажется, что змея из плеч растет. Стоит Зухуршо, перед народом красуется. Ноги широко расставлены, голова высоко поднята. Змей на плечах шевелится.» [5. С. 84]. В соответствии с образом повествователя меняется и строй его речи, и интерпретация события. Содержательность манеры повествования -необходимое условие для возникновения эстетической установки читателя, который воспринимает текст целостно, в единстве его содержательных и формальных структур [8. С. 37-38]. Движимый любовью к Зарине и ненавистью у ее мучителю Зухуршо, Карим Тыква сумел ценой собственной жизни осуществить замышляемую многими расправу над злодеем. Героизация мужественного деревенского парня также происходит по законам эпического жанра и артикулируется в соответствии с поэтическими формулами героического эпоса: «Целый день война шла - наукары автоматным огнем били, попасть не могли, Абдука-рим Тыква между скал прятался, камнями отвечал. Шикор-охотник Тыква очень сильным был, не сразу умер - Волка до смерти удавил, Богу помолился, только тогда от ран скончался» [5. С. 447]. По замечанию критика, «древность оказывается сильнее современности, точнее - подчиняет ее себе и разрушает как ненужную декорацию» [8]. Вряд ли можно согласиться с данным утверждением: древность, «прорастающая» в современность, скорее, проявляет неизменные черты человека и системные характеристики общества, обусловленные балансом созидательных и разрушительных сил. Главная тревога писателя связана именно с этой неизменностью и цикличностью возвращения змеиного царя в разных обличьях в разные эпохи. Верность традициям, уважение к старшим, поддержание издревле заведенного порядка цементируют общество и формируют его представление о должном и правильном мироустройстве. Неслучайно воспитанные этим обществом люди оказываются способными противодействовать злу. Именно Карим Тыква, простодушный и непосредственный сельский парень, убивает Захуршо, не задумываясь при этом о неизбежных, тра-29 Отургашева Н.В. Постсоветская история в зеркале литературы гических для него последствиях. А голос Джоруба выступает в романе камертоном, обозначающим границы гармонии и дисгармонии, порядка и хаоса в мыслях и поступках его соплеменников. Непосредственно он говорит от имени жителей горного кишлака, которые еще недавно считали обычаи и традиции предков нравственным основанием справедливой и устойчивой жизни: «Испокон веков мы выживали единственно потому, что твердо держались дедовских заветов. Старшие учили младших тому, что сами получили от дедов. Но те, кто не уважают старших, глухи к их поучениям и тем рвут свою связь с прежними поколениями... Вместе со стыдом они теряют совесть, а лишившись совести, забывают об ответственности перед людьми и не заботятся ни о чем, кроме своего благополучия...» [5. С. 168-169]. Суждения Джоруба звучат как непреложный закон, но некому передать ему выстраданные истины: у сельского ветеринара нет детей. Государство выстраивает каркас здания, возводит его стены, но фундамент, на который эти стены опираются, - самосознание народа, его представление о благе, справедливости и порядке. Поэтому в трагическую эпоху социальных потрясений, в экстремальных условиях разрушения или деградации государственных скреп индивидуальная ответственность (Даврон) и традиционная культура с ее запретами и установлениями (Джоруб, Карим Тыква) способны удержать хрупкое равновесие человеческой жизни на краю социальной бездны. Особенно проникновенно звучит эта тема в книге Н. Абгарян «Дальше жить», вышедшей в 2017 г. и имеющей название «Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет». В ней собраны рассказы о жителях приграничного армянского городка Берда, на землю которого обрушилась война (речь идет о военном конфликте в Нагорном Карабахе). Выбор времени и места действия принципиально важен: маленькое горное селение на границе враждующих миров, здесь жизнь и смерть - на виду у всех, война уже отгремела в долинах и оставила свой черный след в судьбах людей. В книге нет описания сражений и боевых операций, но есть глубокое и художественно-выразительное осознание трагических последствий войны и невосполнимости человеческих, физических и духовных, утрат. Это реквием о погибших, исполненный лаконичным и бесконечно трогательным языком талантливого писателя. Названия рассказов лаконично, одним словом обозначают имя человека («Заназан»), вещь или традиционное армянское блюдо («Ковер», «Узелок», «Ботинки», «Пахлава», «Багарадж»), состояние людей или природы («Смех», «Ожидание», «Лето», «Гроза», «Туманы»). Эти слова описывают привычные границы естественной жизни и устойчивого се-30 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice мантического поля древней культуры - границы, которые разрушает трагический конфликт между двумя народами. Война не разворачивается как событие, не определяет фабулу рассказов, она раскрывается как состояние катастрофы, в которой людям приходиться жить: «Снаряды ухали по Берду, тут и там содрогались стенами старые каменные дома, вылетали последние стекла в окнах, сходила с ума домашняя живность. Людской страх - мешкотный, неподъемный - одыш-ливо полз по дворам, заполняя собой щели между рядами поленниц, кри-венькие дымоходы, чердаки и подполы. Было безвыходно и тоскливо -так, как будто враз выключили все, что дарит надежду» [9. С. 48]. Мир, созданный Н. Абгарян, полон бытовых деталей и подробностей, в нем есть место рецептам блюд, их запахам и вкусам: бердские бабушки пахнут «простым мылом, сухофруктами и закваской для теста» [9. С. 181], пахлаву они готовят из тонкого теста с воздушной прослойкой из взбитых белков с сахаром и грецких орехов, в погребе у них хранится «домашний сыр, всякий: жирная брынза, малосольный чанах, волокнистый чечил, зрелый овечий - с сушеными травами» [9. С. 132]. За кажущейся избыточностью этих описаний встает горький опыт голодающих людей, переживших блокаду, окружение и мучительную невозможность достать пропитание для себя и своих близких: “Страшнее голода ничего нет”, - считал Алексан, и он знал, о чем говорит, потому что видел голод в лицо. Он явился к нему в облике изможденного старика: ввалившиеся щеки, ниточки бескровных губ, пергаментная кожа, обтягивающая остро выступающие скулы» [9. С. 137]. Плотное бытовое письмо - автор подробно, с любовью и со знанием дела описывает незамысловатый и уютный быт бердцев, каждодневные заботы о починке крыши или забора, веками сложившийся уклад жизни - противоестественно взрывается неодолимой, враждебной и бессмысленной силой, осознать причины и масштаб которой персонажам не дано. Но их осознает рассказчик, неожиданно для читателя сталкивая в пространстве короткой новеллы дискурсы жизни и смерти: искусно испеченная пахлава остается на коленях убитой случайной пулей на горном перевале женщины, ковер соткан руками погибшей в плену мастерицы Антарам, ожидание бесконечно и бессмысленно, потому что мертвые не возвращаются. Границы жизни и смерти стремительно и резко сменяют друг друга: при этом тональность авторского нарратива не меняется - меняется ракурс взгляда и интерпретация события: из настоящего в прошлое, от следствия к причине. Резкость этих переходов становится мощным средством воздействия на читателя, который даже не успевает осознать 31 Отургашева Н.В. Постсоветская история в зеркале литературы хрупкую грань между бытием и небытием - настолько нелогичен и неожидан композиционный стык: ведь у войны своя логика. Вот Андро поправляет неправильно произнесенное матерью слово, она охотно соглашается - «жжет», «но на следующий день допускала ту же ошибку. В гробу она казалась совсем маленькой, даже ногами до нижнего края не доставала. Выглядела не мертвой, а задремавшей - шепотом окликнешь - проснется» [9. С. 38]. В попытке преодолеть трагическую дисгармонию мира герои апеллируют к мифологическим представлениям, прочно укорененным в их сознании, одушевляют стихии, природу, вещи и саму войну, которая «хозяйничает» на перевале, бесчинствует в соответствии со «своими правилами», губит молодых и старых. Постепенно они узнают ее жестокие, бесчеловечные, противоестественные законы: «бомбят всегда там, где можно собрать большой урожай жертв»; «здесь - родная земля, там - чужая. Между - ничейная, отторгнутая жизнью нейтральная полоса, дорога, которая отрезана всем» [9. С. 72]. Осознать этот «недоступный человеческому пониманию Божий замысел» никак не может старая Маро, которая перестала печь пахлаву, потому что «последняя ее пахлава так и осталась на коленях погибшей невестки» [9. С. 54]. Социальные потрясения раскрываются через персональный нарратив, что задает оптику читательского восприятия созданного писателем мира через призму обыденной, совсем не героической жизни горного селения, трагически разрушенной военной катастрофой. Эхо войны болью отзывается в каждом рассказе, они нанизываются, как бусины, на общую нить повествования: в каждой последующей новелле читатель встречает персонажей, мимоходом упомянутых в предыдущей. Композиция выстраивается в последовательно излагаемую цепочку персональных историй с пересекающимися в них лицами соседей-односельчан. При обсуждении творчества Н. Абгарян критики упоминают термин «магический реализм», который в свое время удачно отразил художественное своеобразие латиноамериканского романа. Герои ее произведений живут в соответствии с вековыми устоями древней культуры, поэтому миф является для них неотъемлемой частью сознания, определяющей их отношение к людям, природе, вещам и событиям. Они верят в приметы (в мае нельзя жениться) и в рассказанные бабушками легенды, совершают жертвоприношения в соответствии с обычаями предков, почитают старших («почтение к старшим - превыше всего»). Обычные вещи - сотканный руками матери ковер, приготовленная по традиционному рецепту пахлава - приобретают в контексте повествова-32 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice ния глубокий символический смысл и хранят память об ушедших родственниках. Бытовое измерение сопрягается с бытийным: вещи, еда, животные, люди включаются в общий контекст мифологической картины мира -неслучайно Левон с нетерпением ждет, когда соседка «принесет золотистые кусочки благословенного багараджа» и «каждый раз ест так, словно пробует на вкус солнце» [9. С. 34]. Природный универсум, в соответствии с законами мифа, не делает различия между живым и мертвым, бытом и бытием, животным и человеком. Поэтому герой рассказа «Гулпа» не доверяет новому ветеринару: он «молодой еще, жизни не знает, животных за равных не держит. А раз не держит - смысл от него толковое ждать?» [9. С. 60]. А старая Маро, объясняя внуку необходимость прятать от снарядов тело погибшего деда в подвале, утверждает непреложный нравственный закон: «Мертвый или живой - человек остается человеком» [9. С. 50]. Даже время в рассказах имеет мифологическое измерение, оно определяется не датами и часами, а естественным движением природных ритмов: «Невестка Маро погибла на третий день ливня, когда вконец развезло дороги и деревья намокли так, что не держали ветвей...» [9. С. 51]. Природа, по мысли автора, одна из тех сил, которые способны принести утешение человеку, залечить его душевные раны. Пейзажные зарисовки Н. Абгарян звучат мощным контрапунктом разрушительному образу войны: «Стая деревенских ласточек, вспорхнув с кипарисовой рощи, кружит в выси, черкая по стремительно сверкающему небесному полотну острыми крыльями. Бесшумно падает первая роса - густая, живительная, - выпроваживает ночь. Спутав время, заводит протяжную песню сверчок.» [9. С. 6]. Природа разделяет человеческое горе и откликается на него оглушительной тишиной, безмолвием небес, «непоколебимое молчание которых убивало всякую веру в спасение» [9. С. 43]. В свою очередь, человек включается в круговорот природы и подчиняется естественному ходу вещей: нани (прабабушка) «стала облетать событиями и людьми, словно осеннее дерево - листьями» [9. С. 67]. Бытовое и бытийное, малое и большое, профанное и сакральное соединяются в единый и целостный мир, гармонию которого безжалостно разрушает война. Нарушенный миропорядок проявляет себя и в природе: вместе с войной пришли на окрестные земли шакалы, они «были частью войны. пахли ею» [9. С. 74]. А человек, участник и наблюдатель, с горечью сетует на диссонанс: «...до чего бессмысленной может казаться в войну красота природы!» [9. С. 200]. 33 Отургашева Н.В. Постсоветская история в зеркале литературы Трагедия войны, по мысли писателя, заключается еще и в том, что «однажды начавшись, она может не закончиться никогда. Война будет медленно расползаться, отравляя смрадным дыханием все на своем пути» [9. С. 194], забирая мужчин, разрушая дома, напуская болезни на женщин и детей, отравляя души разъедающей ненавистью к людям другой веры и другой культуры. «Война каждого помечает своим клеймом и никому не дает спастись» [9. С. 175]. Единственным противоядием этому бедствию современного мира в книге Н. Абгарян выступают преодоление ненависти, любовь к близким и милосердие к поверженным - вопреки законам военного времени и жажде личного отмщения. Убедительным свидетельством их торжества служат многие новеллы и в частности «Ожидание» и «Кружева», в которых армянская бабушка Цовинар отпускает на волю плененного сыном противника, а рассказ старой азербайджанки позволяет героине-армянке почувствовать ее поддержку и дает утешение. Мир спасает доброта, явленная не только в поступках и словах жителей Берда, но и в улыбке девушки, физически выжившей, но душевно искалеченной войной: «Этот мир еще не совсем безнадежен, если его согревает улыбкой старшая дочь Азинанц Тиграна» [9. С. 167]. Смысл жизни для героев исчерпывается простой и емкой формулой: «Жизнь имеет смысл, пока есть о ком заботиться, часто повторяет Алек-сан. Арпине не возражает... жизнь имеет смысл тогда, когда есть для кого жить» [9. С. 143]. В романе «Заххок» по преимуществу звучат голоса молодых мужчин (Зарина - единственная девушка среди повествователей), в книге Н. Абгарян - голоса старых армянских женщин, матерей, жен и вдов. Письмо В. Медведева жестче и динамичнее, коллизии разворачиваются на наших глазах, почти детективная интрига держит читателя в напряжении до последних страниц. В произведении Н. Абгарян фабула не играет большой роли, поскольку все ключевые события случились в прошлом: погромы, обстрелы, блокады. Читателю представлены личные истории, высказанные языком человеческого горя и одновременно надежды. Этот голос принадлежит повествователю, который включен в созданный им мир через сопричастность к судьбе персонажей. Вместе с тем он обнаруживает себя и как создатель текста, наделенный памятью о страшной войне и ответственностью за высказанное слово («Вместо послесловия»). Код повествовательного дискурса, обусловленный типом нарратора, определяет, в свою очередь, стилистику текста, характер действия, интерпретацию событий: они стремительно развиваются усилиями рас-34 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice сказчиков, непосредственных и деятельных участников военных и бытовых конфликтов в романе Медведева. Персонажи Н. Абгарян неторопливы и несуетны, их долгая и трудная жизнь дает им выстраданную мудрость принимать действительность во всей ее горькой полноте, ощущать целостность мироздания в разъятом войной мире. Личные драмы персонажей включаются в общую трагедию целого народа, выходящую за пределы конкретной эпохи, что позволяет автору выявить этнокультурные детерминанты нарративной идентичности. Общее горе преодолевается любовью, трудом, терпением и тем культурным капиталом, который, проявляясь в менталитете и образе жизни народа, обеспечивает возможность его физического выживания и запас духовной прочности. Переживая страшный опыт, люди не только восстанавливают быт, чтобы жить дальше, но и сохраняют в сердце скорбную память, обретая в ней основы новой культурной идентичности, вне которой невозможно подлинно человеческое существование. Коллективная трагедия (социальная история), открываясь читателю через судьбы персонажей (персональный нарратив), становится, в свою очередь, частью истории эпической (метанарративной). Подобная авторская стратегия придает рассказанным историям вневременной масштаб и онтологическую глубину.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 18
Ключевые слова
художественный текст, повествовательная структура, нарративный анализАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Отургашева Наталья Вадимовна | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | кандидат филологических наук, доцент кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления - филиала | vialuna@list.ru |
Ссылки
Абгарян Н.Ю. Дальше жить. М. : Изд-во АСТ, 2018. 252 с.
Юзефович Г. О книгах «Заххок» и «Черный ветер, белый снег». URL: https://meduza.io/feature/2017/05/08/luchshiy-russkiy-roman-goda-i-issledovanie-shefa-mos-kovskogo-byuro-ft-o-evraziystve (дата обращения: 4.01.2021).
Спорная книга: Владимир Медведев, «Заххок». URL: https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/intervyu/spornaya-kniga-vladimir-medvedev-zahhok.html (дата обращения: 8.01.2021).
Качанов Д.Г. Нарративный анализ как метод исследования традиционных и мультимедийных журналистских произведений // Медиаскоп. 2020. Вып. 2. URL: http://www.mediascope.ru/2621 (дата обращения: 4.01.2021).
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М. : Художественная литература, 1986. 543 с.
Медведев В.Н. Заххок : роман. М. : ArsisBooks, 2017. 460 с.
Шмид B. Нарратология. М. : Языки славянской культуры, 2003. 312 с. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/shmid/03.php (дата обращения: 4.01.2021).
Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. СПб. : Искусство - СПБ, 1998. С. 14-285.
Тодоров Цв. Поэтика // Структурализм: «за» и «против» : сб. ст. М. : Прогресс, 1975. С. 37-113. URL: https://narratology.at.Ua/_ld/0/24_.1.pdf (дата обращения: 10.01.2021).
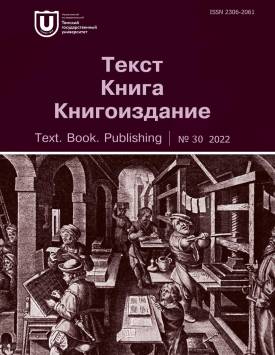
Постсоветская история в зеркале литературы | Текст. Книга. Книгоиздание. 2022. № 30. DOI: 10.17223/23062061/30/2
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 119

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью