В статье представлен кейнсианско-институциональный подход к изучению макроэкономической динамики экономики переходного типа (на примере России). В работе предлагается подход, связанный с включением оценки институционального фактора в распределение национального дохода, а также авторский подход к моделированию влияния институтов на совокупный спрос, основанный на построении уравнений линейной регрессии, отражающих изменение потребления, инвестиций и институциональной среды. Предложенный подход применен для оценки макроэкономической динамики российской экономики, в которой в последние пять лет до пандемии COVID-19 наблюдалось снижение волатильности потребления и инвестиций, связываемое с макроэкономической стабилизацией и развитием институтов социальной поддержки. Однако ожидания экономических субъектов являются скорее неблагоприятными, и необходимы дальнейшие меры по стабилизации совокупного спроса. Согласно анализу официальных статистических данных, институциональные факторы значимо влияют на совокупный спрос, но не являются приоритетными. При этом общие условия институциональной среды сильнее отражаются на инвестициях, чем на потреблении. На этом основании сделан вывод о том, что прогресс институтов способен не только ускорить экономический рост, но и увеличить макроэкономические риски, поэтому он повышает ответственность политиков за принимаемые решения в области регулирования экономики.
The Influence of Institutional Factors on Macroeconomic Dynamics (On the Example of the Russian Federation).pdf В настоящее время у экономистов возникает стремление к пересмотру мейнстрима и повышаются требования к объясняющей способности макроэкономических моделей. Распространенные в экономической теории взгляды все чаще подвергаются критике по причине преобладания эконометрического анализа над качественными интерпретациями, нереалистичности гипотезы о рациональности поведения экономических субъектов и совершенства рыночных механизмов, из-за предположения о возможности предсказания будущего, исходя из анализа прошлого. С целью решения обозначенных проблем нередко предлагают использовать синтетические теории, соединяющие в себе достижения нескольких школ экономической мысли. Одной из таких синтетических теорий является кейнсианскоинституциональный синтез. О. С. Демченко, Ю.Ю. Суслова, С.К. Демченко и др. 280 Дж.М. Кейнс [1] соединил подход к анализу макроэкономической динамики с позиции определяющей роли совокупного спроса с положениями институциональной теории; такой вывод можно сделать из его работ. Дж.М. Кейнс неоднократно подчеркивал значимое влияние факторов институциональной среды на поведение людей. Дж.М. Кейнс считал, что неопределенность будущего заставляет экономических субъектов следовать стандартам и нормам социального взаимодействия. Проблемами, близкими институциональной экономике, все больше интересуются представители современного посткейнсианства. Например, вопросы информационной асимметрии рынков, смежной с теорией информационных издержек рыночных транзакций, рассматривали лауреаты Нобелевской премии 2001 г. Дж. Стиглиц [2] и Дж. Акерлоф [3]. Представители нового институционализма связывают асимметрию информации с ее неравномерным распределением между продавцом и покупателем, что создает необоснованное преимущество одной из сторон в обмене. Дж. Акер-лоф также анализировал институты как инструменты оценки рыночной неопределенности, ликвидности товаров длительного пользования, структуры денежных рынков, понятия «страхуемости». В становление посткейнсианского институционализма ряд экономистов уже внесли свой вклад. Так, В. Петерсон [4] определил ключевые принципы, общие для кейнсианской и институциональной теорий: - государство является важнейшим экономическим субъектом, который может действовать как во благо, так и во вред экономике; - экономическая деятельность должна изучаться как динамический процесс; - поведение экономических субъектов значительно зависит от ожиданий по поводу неопределенного будущего; - конфликт является внутренней составляющей социальной жизни из-за отсутствия заложенного внутри капитализма механизма экономического равновесия. Обе теории - кейнсианство и институционализм, как подчеркивает Д. Дилард [5], уделяют особое внимание финансовым институтам и их влиянию на экономические циклы. В.Р. Бразелтон [6] указал на то, что институционализм и посткейнсианство изучают формирование цен и зарплат на реальных рынках, анализируют институциональные факторы заработной платы и рыночной наценки. Р.Р. Келлер [7] добавлял, что обе теории выступают за активное вмешательство государства в экономику, однако институционализм уделяет больше внимания механизму функционирования государства в экономике, а посткейнсианство - анализу экономических проблем, которые государство призвано решать (например, стагфляцию), используя широкий набор прямых и косвенных инструментов. Р. Маршалл [8] назвал монетаризм и экономическую теорию предложения дискредитированными и призвал к синтезу институционализма и посткейнсианства. На этот вызов ответили Ч.К. Вилбер и К.П. Джеймсон в своей работе 1983 г. [9], в которой кейнсианско-институциональная теория Подход к моделированию влияния институтов 281 рассматривается как холистическая (экономика не отделяется от других сфер жизни общества), систематическая (все части взаимозависимы), эволюционная и направленная на решение реальных экономических проблем. В середине 1980-х гг. с участием Х. Мински кейнсианско-институциональной теории было задано новое направление развития - изучение экономической нестабильности с акцентом на взаимодействие макроэкономики и финансов. Х. Мински считался одновременно посткейнсианцем и институционалистом. В 1969 г. он написал, что монетарная экономика «не может не быть институциональной» [10, с. 225]. К. Ниггл [11] в работе, посвященной синтезу институциональной и посткейнсианской макроэкономики, отмечает, что представители посткейнсианства и институционализма прокомментировали теоретические и концептуальные общности между этими двумя школами, причем некоторые из них предложили теоретический синтез, основанный на общих чертах. Вместе с тем К. Ниггл утверждал, что, несмотря на наличие общности, каждая традиция разработала существенно различные методы анализа, поэтому предложил вместо теоретического или концептуального синтеза представить методологический синтез, сочетающий элементы «институциональной динамики» с эвристической структурой, основанной на «инструментальной логике» Джона Дьюи, и предположил, что такой подход преодолевает недостатки в методах анализа обеих школ. В современных русскоязычных публикациях мысль о методологической совместимости посткейнсианства и институционализма развивают И.В. Розмаинский [12], Т.В. Гайдай [13] и др. В работах нобелевского лауреата Д. Норта [14], в трудах Дж. Ходжсона [15] рассматривается идея о влиянии институтов на макроэкономическую динамику в разрезе исторического подхода [16]. После мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., значительно возросла популярность идей кейнсианства с его допущениями о несовершенной конкуренции на рынках и необходимости государственного регулирования на уровне макроэкономики. При этом неоинституциональная теория выступает хорошим микроэкономическим средством прогнозирования и обоснования причин шоков совокупного спроса. Кейнсианско-институциональная теория уделяет особое внимание макроэкономической динамике, институциональным изменениям, структурным сдвигам (например, Х. Мински подчеркивал важность структурных сдвигов в финансово-банковской сфере [10]). Применительно к проблеме нелинейности макроэкономической динамики кейнсианско-институциональная теория рассматривает экономический цикл как внутренне присущий современной рыночной экономике. Хотя до сих пор различным экономическим циклам нет единого объяснения, часто используется типичное для институционализма понимание расширения и сужения кредита как фактора макроэкономических колебаний. В рамках неоинституциональной теории анализ экономического цикла ведется по различным направлениям интегрированно, с эволюционных пози- О. С. Демченко, Ю.Ю. Суслова, С.К. Демченко и др. 282 ций. В качестве противоциклической политики предлагаются способы подстройки институтов, позволяющие продлить подъемы и сократить спады. Современная кейнсианско-институциональная теория также включает «гипотезу финансовой нестабильности», т. е. предположение о неэффективности и несовершенстве финансовых рынков и фундаментальной неопределенности при принятии финансовых решений. Гипотеза финансовой нестабильности восходит к работам Х. Мински и предполагает, что финансовые «пузыри» и кризисы являются неизбежными в рыночной экономике [10]. Таким образом, несмотря на имеющийся плюрализм подходов относительно взаимодействия основных положений посткейнсианства и институционализма, до сих пор остается слабоизученной проблема влияния структурных и институциональных изменений на макроэкономическую динамику. Данный вопрос в работах исследователей зачастую рассматривается с позиций эконометрического моделирования [17, 18]. Сложность заключается в неоднозначности выводов о мере влияния на макроэкономическую динамику структурных и институциональных факторов [16]. Следовательно, существует потребность в подходе к анализу влияния институциональных факторов на макроэкономическую динамику, опирающихся на количественную оценку таких индикаторов, как инвестиции и потребление, и качественную оценку формирования институтов рынка и государства. На наш взгляд, институциональные изменения влияют на совокупный спрос, его структуру и чувствительность к различным факторам [19], тем самым отражаясь на его волатильности и макроэкономической динамике. Вместе с тем к настоящему времени недостаточно работ, содержащих интеграцию оценки качества институтов и традиционных кейнсианских функций потребления и инвестиций. В данной работе основные индикаторы оценки качества институтов использованы агрегированно, на основе значения компонентов «Отчета о конкурентоспособности» Всемирного экономического форума за 2016- 2019 гг. (из первого столбца «Институты» (“Institutions”)) [20-23]. Поскольку методология расчета глобального индекса конкурентоспособности за данный период менялась, нами были отобраны десять наиболее характерных институциональных факторов, влияющих на потребление и инвестиции. В набор этих институтов входят: надежность полицейских служб, организованная преступность, бремя государственного регулирования, независимость судебной системы, эффективность правовой базы в оспаривании нормативных актов, права собственности и защита интеллектуальной собственности, нерегулярные выплаты и взятки (с 2018 г. - случаи коррупции), стандарты аудита и отчетности, эффективность советов директоров корпораций (с 2018 г. - акционерное управление). Поскольку все эти институты определяют рамки экономической деятельности в целом, мы считаем, что они влияют как на инвестиции, так и на потребление. Для сравнения влияния развития институтов на макроэкономическую динамику были составлены уравнения линейной регрессии с определением ко- Подход к моделированию влияния институтов 283 эффициента корреляции (R2) и критерия Дурбина-Уотсона (DW) и вычислены соответствующие их значения для различных оценок качества институтов. Для оценки влияния институтов на макроэкономическую динамику были использованы широко известные кейнсианские функции потребления и инвестиций [24]; мы ввели в них некоторые изменения, учитывающие уровень развития институтов [уравнения (1) и (2)]. Предполагая влияние институциональных факторов на волатильность потребления и инвестиций, внесем их в угловые коэффициенты соответствующих уравнений: С = Са + (МРС + А • I)Y, (1) где C - валовое потребление; Ca - автономное потребление, не зависящее от уровня реального располагаемого дохода; MPC - предельная склонность к потреблению; А - угловой коэффициент, отражающий степень влияния институциональный факторов на потребление; I - институциональный индикатор; Y - валовый внутренний продукт. Ig= Ia + (MPl + В • l)Y, (2) где Ig - валовые инвестиции; Ia - автономные инвестиции, не зависящее от уровня национального дохода; MPI - предельная склонность к инвестированию; B - угловой коэффициент, отражающий степень влияния институциональных факторов на инвестиции. В качестве институционального индикатора I мы использовали среднее значение выбранного набора показателей, входящих в столбец «Институты» индекса глобальной конкурентоспособности, ежегодно публикуемого Всемирным экономическим форумом. Для удобства оценивания разделим функции (1) и (2) на Y (GDP) и получим - = ^ + МРС + А • I, (3) ТУ w 'jl= k + Mpi + в • I. (4) Из-за невозможности высокой точности оценивания статистическими данными автономных инвестиций и потребления слагаемыми ^7 и ^ в (3) и (4) можно пренебречь. В результате получим следующий вид уравнений для оценивания: С- = МРС + А^І, (5) 'jl = МРІ + ВЧ. (6) Для устранения значительной автокорреляции остатков модели и влияния неблагоприятной динамики инвестиций в анализируемом периоде воспользуемся методом последовательных разностей для оценивания функции инвестиций. В итоге получим Д^ = В •А/. (7) Уравнения (5) и (7) позволяют вывести уравнения линейной регрессии для количественной оценки влияния институционального фактора на макроэкономическую динамику, в частности, потребления и инвестиций, как важнейших составляющих распределения ВВП. О. С. Демченко, Ю.Ю. Суслова, С.К. Демченко и др. 284 Выбор российской экономики в качестве объекта исследования обусловлен ее особым положением в ряду современных моделей - рыночная экономика с высокой долей государства в инвестициях (до 30%) и занятости (до 25%), с развитой промышленностью и сравнительно невысокой национальной конкурентоспособностью, с высоким уровнем потребления и неудовлетворительным состоянием предпринимательского сектора. Все это свидетельствует в пользу авторской гипотезы зависимости макроэкономической динамики от качества институтов. На современном кризисном этапе большое значение придается макроэкономической стабилизации. Ориентируясь на кейнсианско-институциональный синтез, основным драйвером макроэкономической динамики мы считаем совокупный спрос, поведение которого зависит от институциональных факторов. В структуре совокупного спроса потребление является наиболее значимым компонентом и способно оказывать стабилизирующее воздействие своей низкой волатильностью. По расчетам авторов, в период до распространения коронавирусной инфекции в России волатильность потребления стабильно превышала волатильность ВВП - 3,7% против 2,2% за 2016-2019 гг. [25]. Для стабилизации макроэкономической динамики необходимо сокращение амплитуды колебаний потребления. Оценка институционального фактора макроэкономической динамики российской экономики проводилась с учетом широко известного рейтинга, подготовленного Всемирным экономическим форумом. В 2016-2019 гг. в развитии российской экономики не произошло каких-либо резких колебаний. По данным «Отчета о конкурентоспособности», в этот период Россия по глобальному индексу конкурентоспособности занимала место в последней части первой трети из 138-141 обследованных стран (табл. 1). Таблица 1. Положение Российской Федерации в глобальном индексе конкурентоспособности по уровню развития основных институтов государства и бизнеса 2016 2017 2018 2019 № Индикаторы Место / Зна- Место / Зна- Место / Зна- Место / Зна- 138 137 140 141 1 Индекс глобальной конкурентоспособности 43 4,5 38 4,6 43 66,0 43 66,7 2 Строка «Институты» 88 3,6 83 3,7 72 52,7 74 53,0 3 Надежность полицейских служб 109 3,5 98 3,8 88 4,1 93 4,0 4 Организованная преступность 85 4,4 86 4,5 78 4,7 73 4,6 5 Бремя государственного регулирования 103 3,0 79 3,3 73 3,3 90 3,2 6 Независимость судебной системы 95 3,4 90 3,5 92 3,3 91 3,2 7 Эффективность правовой базы в оспаривании 91 3,3 77 3,1 79 3,2 93 3,1 нормативных актов Подход к моделированию влияния институтов 285 № Индикаторы 2016 2017 2018 2019 Место / 138 Зна чение Место / 137 Зна чение Место / 140 Зна чение Место / 141 Зна чение 8 Права собственности 123 3,5 116 3,6 112 3,6 113 3,7 9 Защита интеллектуальной собственности 117 3,5 93 3,7 85 3,9 90 3,8 10 Нерегулярные выплаты и взятки (с 2018 г. -случаи коррупции) 83 3,6 76 3,8 113 2,9 116 2,8 11 Стандарты аудита и отчетности 103 4,0 100 4,0 89 7,3 97 4,3 12 Эффективность советов директоров корпораций (с 2018 г. - акционерное управление) 73 4,8 51 5,0 15 7,3 17 7,3 13 Средне значение (I) 3,7 3,8 4,4 4,1 Значение институционального индикатора (I) мы определили как среднее значение составляющих строки «Институты» для каждого года (табл. 1). Как следует из данных, представленных в табл. 1, Россия, сохраняя 43-е место в общем рейтинге, постепенно улучшает институциональную среду (подъем с 88-го на 74-е место за 2016-2019 гг.). Можно наблюдать подъем в рейтинге по уровню надежности полицейских служб и противодействию организованной преступности, бремени государственного регулирования, эффективности советов директоров корпораций, стандартам аудита и отчетности, правам собственности и защите интеллектуальной собственности. Вместе с тем по независимости судебной системы и эффективности правовой базы в оспаривании нормативных актов, нерегулярным выплатам и взяткам Российская Федерация теряет места в глобальном индексе конкурентоспособности. Наряду с институциональными индикаторами национальной конкурентоспособности для российской экономики отмечается рост показателя макроэкономической стабильности в глобальном индексе конкурентоспособности - в 2019 г. - 43-е место из 143, за счет показателей инфляции (1-е) и динамики государственного долга (43-е). Кроме того, в 2019 г. наблюдается улучшение инновационного потенциала России (32-е место), благодаря постоянным расходам на НИОКР (34-е место) и повышению качества научно-исследовательских институтов (9-е место). Все это позволяет охарактеризовать институциональную динамику российской экономики в 2016-2019 гг. как слабоположительную, с неустойчивым трендом роста. В частности, в 2019 г. произошел спад большинства показателей качества институтов, что привело к снижению среднего значения I с 4,4 до 4,1 - после роста с 3,7 до 4,4 с 2016 г. Для оценки экономической динамики Российской Федерации были проанализированы квартальные и годичные данные ВВП, потребления и инвестиций в 2016-2019 гг. (рис. 1). О. С. Демченко, Ю.Ю. Суслова, С. К. Демченко и др. 286 24000 420С 23000 370С 22000 320С 21000 270С 20000 220С 19000 170С 18000 120С 17000 16000 700 15000 200 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 ВВП (Y) Потребление(С) -Инвестиции (lg), вспомогательная ось (справа) Рис. 1. Динамика ВВП (Y), потребления (C) и валовых инвестиций (Ig) в Российской Федерации (по вспомогательной оси) в постоянных ценах 2016 г. с исключением сезонного фактор, млрд руб. [26] Представленная на рис. 1 динамика основных компонентов совокупного спроса - потребления и инвестиций - позволяет отметить следующие ее черты. Несмотря на незначительный рост ВВП в постоянных ценах - на 4,9% за 2016-2019 гг., рост потребления составил 7,23%, отличаясь большей волатильностью. При этом с 1-го квартала 2018 г. по 4-й квартал 2019 г. волатильность потребления в постоянных ценах 2016 г. снижалась. Коэффициент вариации для нее составил 2,49%, стабильно превышая аналогичный показатель для ВВП в целом (1,93%), хотя инвестиции остались наименее стабильным компонентом ВВП с коэффициентом вариации 4,42%. Однако общий рост инвестиций за 2016-2019 гг. составил всего 1,3%, что предполагает их большую подверженность воздействию со стороны институциональной среды, чем потребления. Годовые средние значения институционального индикатора и макроэкономических показателей представлены в табл. 2. Как следует из данных табл. 2, наряду со снижением качества институтов в 2019 г. (среднее значение институционального индикатора снизилось в 2019 г. с 4,4 до 4,1 - после роста с 3,7 до 4,4 с 2016 г.), для динамики инвестиций в анализируемом периоде характерны неблагоприятные тенденции. Хотя инвестиции в среднем растут, темп их роста замедляется (составив в 2019 г. 1,3% относительно 2016 г.), а предельная склонность к инвестированию MPI, рассчитанная по квартальным данным, снижается, уходя в отрицательную область. Динамика инвестиций может свидетельствовать о неблагоприятных ожиданиях инвесторов - несмотря на достигнутую в Подход к моделированию влияния институтов 287 2019 г. макроэкономическую стабилизацию, предприниматели ожидают кризиса. Виной тому они видят не только экзогенный фактор пандемии COVID-19, но и ухудшение институциональной среды и макроэкономической динамики. Таблица 2. Годовые значения институционального индикатора (среднее) и макроэкономической динамики российской экономики (в постоянных ценах 2016 г. с исключением сезонного фактора) Годовые значения 2016 2017 2018 2019 Среднее значение институционального индикатора (I) 3,7 3,8 4,4 4,1 ВВВ (Г), млрд руб. 8 6024,4 87 422,7 89 324,6 90 210,1 Потребление (С), млрд руб. 6 1396,2 63 261,8 64 399,3 65 834,6 Валовые инвестиции (Ig), млрд руб. 14 560,1 15 167,4 14 940,1 14 749,1 В свою очередь, наиболее сильными колебаниями и высокими долями в структуре потребления в текущих, а не в постоянных ценах характеризуются расходы на продукты питания, транспорт и организацию отдыха. Таким образом, в среднем потребители меняют свое поведение за счет изменения структуры расходов на эти статьи. Уменьшение колебаний потребления можно связать с общей макроэкономической стабилизацией после кризиса 2014-2015 гг., а также с совершенствованием институтов поддержки малоимущих, семей с детьми, заемщиков по кредитам. Однако при этом общая задолженность физических лиц по кредитам в рублях продолжает расти, хотя и медленными темпами (в декабре 2019 г. она увеличилась на 1,06%). Вероятными причинами нестабильности потребления населения являются ожидание кризиса в российской экономике, снижение реальных доходов, закредитованность потребителей. Во 2-м квартале 2020 г. индекс потребительской уверенности резко упал до значения -30 с -11 в прошлом квартале. Близкие значения данного индекса наблюдались во время кризиса в 2015 г. [27]. Население воспринимает ситуацию в экономике как предкризисную. Реальные доходы населения демонстрировали тенденцию к снижению в 2014-2017 гг., и только в 2018 и 2019 гг. произошел незначительный рост в пределах 1% [28]. За период с 01.01.2020 по 01.08.2020, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, задолженность домохозяйств по кредитам выросла на 5,8% [29]. Для количественной оценки влияния институциональных факторов на макроэкономическую динамику на примере Российской Федерации были составлены уравнения линейной регрессии для показателей соотношения потребления и ВВП (8), и инвестиций и ВВП (9), на основе уравнений (5) и (7) с использованием данных официальной государственной статистики (представлены на рис. 1 и в табл. 2), а также показателя, отражающего значение столбца «Институты» индекса глобальной конкурентоспособности: £ = 0,54 + 0,05 • I. (8) О. С. Демченко, Ю.Ю. Суслова, С. К. Демченко и др. 288 При полученных значениях коэффициента корреляции R2 и критерия Дурбина-Уотсона DW (R2 = 0,26, DW = 0,9) а уравнение регрессии и его коэффициенты значимы на уровне 6%: Д^= 0,10 •Д/. (9) При R2 = 0,31, DW = 2,01 уравнение регрессии и его коэффициент значимы на уровне 3%. С 1 Построение линий динамики показателей - и Д -у представлено на рис. 2. Рис. 2. Динамика показателей С/Y и AI/Y в российской экономике Как следует из данных, представленных на рис. 2, полученные результаты позволяют предполагать наличие слабого влияния институтов на потребление и более значительного - на инвестиции. Поскольку используемый индикатор отражает общие условия институциональной среды в стране, понятна их большая важность для инвесторов. При этом влияние институтов на совокупный спрос является значимым, но не преобладающим, что согласуется с теоретическими положениями. Согласно уравнениям (8) и (9) прогресс институтов приводит к увеличению чувствительности совокупного спроса к изменениям дохода. Таким образом, он может стать источником как ускоренного экономического роста, так и дополнительных макроэкономических рисков. В данной модели высокое качество институтов увеличивает ответственность лиц, принимающих политические решения. Невысокие значения коэффициентов корреляции и проведенное исследование динамики потребления и инвестиций говорят о необходимости Подход к моделированию влияния институтов 289 использовать другие более специфичные индикаторы институциональных изменений, учитывающие правила и нормы, касающиеся потребителей и инвесторов напрямую. Построение таких индикаторов является перспективной задачей. Анализ влияния изменения институциональных условий развития экономики (согласно оценкам национальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума) на макроэкономическую динамику в России позволил выделить две закономерности. Первая из них заключается в том, что институциональные изменения, фиксируемые «Отчетами о конкурентоспособности», в большей степени влияют на инвестиции, чем на потребление. Вторая закономерность связана с двойственным влиянием улучшения институтов на совокупный спрос и ВВП, поскольку в результате улучшения институциональной составляющей растет чувствительность совокупного спроса к изменениям национального дохода. Для стран с транзитивной экономикой (таких как Российская Федерация) это означает опасность резкого усиления волатильности потребления, инвестиций и ВВП при определенных ухудшениях институтов, следующих за периодами их улучшения. В частности, распространение коронавирусной инфекции и принятые по этому поводу ограничительные меры стали своего рода «институциональным экспериментом» на потребительском спросе населения. Органы власти установили жесткие «правила игры», в результате чего подтвердилась потенциальная возможность стабилизировать совокупный спрос через воздействие на потребление. Население в среднем не проявляло признаков паники в связи с COVID-19, изменяя структуру потребления только в связи с запретами на деятельность соответствующих организаций. После отмены ограничительных мер потребители активно реализовывали отложенный спрос, стремясь к некоему среднему его уровню. Наряду с важностью совершенствования институтов стимулирования инвестиций в эпоху высокой волатильности, обусловленной экзогенными кризисными явлениями (пандемия COVID-19), для стабилизации совокупного спроса необходимо дальнейшее совершенствование институтов государственной поддержки потребления. В частности, важной видится разработка программы развития институциональной среды поддержки потребления. Ее приоритетными направлениями должны стать совершенствование институтов помощи малоимущим, контроля рисков кредитования и банкротства потребителей. В Российской Федерации по всем этим направлениям работа ведется уже сегодня. В период распространения новой коронавирусной инфекции установлены пособия семьям с детьми, повышенные пособия и увеличенный срок выплат по безработице, доплаты медработникам, налоговые, арендные и кредитные каникулы. Представляется целесообразным, помимо постоянно действующих мер социальной поддержки, разработать такие, которые будут вводиться только на время неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. Все эти мероприятия должны проводиться системно и целенаправленно для стабилизации мак- О. С. Демченко, Ю.Ю. Суслова, С.К. Демченко и др. 290 роэкономической динамики через развитие институтов поддержки потребления. Все вышесказанное свидетельствует в пользу важности дальнейших исследований индикаторов развития институтов и методов учета влияния на макроэкономическую динамику. В частности, будущие исследования должны дать теоретические положения о форме и видах связи антикризисных институциональных инструментов макроэкономического регулирования в пандемийном и постпандемийном мире с действующими институтами стимулирования экономического развития, подтверждаемые новыми трендами макроэкономической динамики.
Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М. : Гелиос АРВ, 2017. 352 с.
Stiglitz J.E. Post Walrasian and Post Marxian economics. The Journal of Economic Perspectives // American Economic Association. 1993. Vol. 7, № 1. Р. 109-114.
Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 91-104.
Peterson W.C. Institutionalism, Keynes and the Real World // Journal of Economic Issues. 1977. № 11 (2). Р. 201-221.
Dillard D. A Monetary Theory of Production: Keynes and the Institutionalists // Journal of Economic Issues. 1980. № 14 (2). Р. 255-273.
Brazelton W.R., Whalen C.J. Towards a Synthesis of Institutional and Post-Keynesian Economics // Financial Instability and Economic Security after the Great Recession. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. 655 p.
Keller R.R. Keynesian and Institutional Economics: Compatibility and Complementarity? // Journal of Economic Issues. 1983. № 17 (4). Р. 1087-1095.
Marshall R. Comments on the Institutionalist View of Reaganomics // Journal of Economic Issues. 1983. № 17 (2). Р. 503-506.
Wilber C.K., Jameson K.P. An Inquiry into the Poverty of Economics. Notre Dame, Indiana : University of Notre Dame Press, 1983. 608 p.
Minsky H.P. Private Sector Asset Management and the Effectiveness of Monetary Policy: Theory and Practice // The Journal of Finance. 1969. № 24 (2). Р. 223-228.
Niggle C. Evolutionary Keynesianism: A Synthesis of Institutionalist and Post Keynesian Macroeconomics // Journal of Economic Issues. 2006. Vol. XL, № 2. Р. 405-412.
Розмаинский И.В. Посткейнсианство + традиционный институционализм = целостная реалистическая экономическая теория ХХI века // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1, № 3. С. 28-35.
Гайдай Т.В. Институционализм и современные течения кейнсианства: аспекты методологического взаимодействия // Журнал институциональных исследований. 2011. Т. 3, № 3. С. 10-18.
North D. The role of institutions in economic development. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/disc_papers/ECE_DP_2003-2.pdf (дата обращения: 08.11.2020).
Hodgson G.M. Post-Keynesian and institutionalism: the missing link // New Directions in Post-Keynesian Economics. Aldersho t: Edward Elgar, 1989. 812 p.
Суслова Ю.Ю., Демченко О.С. Структурные и институциональные факторы современных экономических кризисов // Микроэкономика. 2017. № 1. С. 5-9.
Canova F., Ciccarelli M., Ortega E. Do institutional changes affect business cycles? Evidence from Europe. URL: http://apps.eui.eu/Personal/Canova/Articles/institchanges.pdf (дата обращения: 08.11.2020).
Dijk D., Strikholm B., Terasvirta T. The effects of institutional and technological change and business cycle fluctuations on seasonal patterns in quarterly industrial production series. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/56321/1/333194179.pdf (дата обращения: 08.11.2020).
Александров Ю.Л., Суслова Ю.Ю., Демченко С.К., Мельникова Т.А., Демченко О.С. Проблемы эффективности и устойчивости развития макроэкономической системы: монография. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. 163 с.
Schwab K. The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva : World Economic Forum, 2016. 400 p.
Schwab K. The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum. Geneva : World Economic Forum, 2017. 393 p.
Schwab K. The Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum. Geneva : World Economic Forum, 2018. 671 p.
Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. Geneva : World Economic Forum, 2019. 666 p.
Boug P., Cappelen A., Jansen E.S., Swensen A.R. The consumption Euler equation or the Keynesian consumption function? Oslo : Statistics Norway, 2019. 230 p.
Росстат. Использованный ВВП. Квартальные данные (в постоянных ценах с исключением сезонного фактора). URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 09.11.2020).
Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.11.2020).
Индекс потребительской уверенности // Росстат: официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 08.11.2020).
Располагаемые денежные доходы населения РФ // Росстат: официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 08.11.2020).
Сведения по кредитам в рублях, долларах США и евро населению // Банк России: официальный сайт. URL: http://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/ (дата обращения: 08.11.2020).
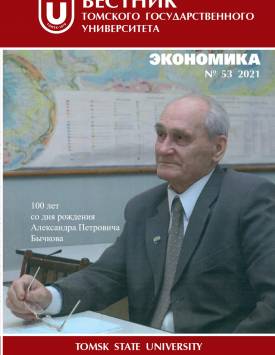

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью